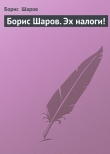Текст книги "Не измени себе"
Автор книги: Алексей Першин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Великое это счастье, когда труд доставляет радость. Борис успевал все, особенно радовали его заводские дела. Одержала полную победу не только теория морального износа машин и оборудования, но и живая жизнь, практика. Теперь уже и официальная точка зрения на эту проблему круто изменилась, и Дроздову, знавшему на заводе все станки, знавшему, как они работают, какая от них выгода и каково напряжение рабочего, открылось широкое поле деятельности.
Однажды Борис Андреевич явился к Протасову и представил ему короткий отчет, что дает одному лишь заводу «Красный маяк» «почтительное отношение к теории и практике морального износа». Он так и озаглавил свой шутливый отчет. Увидев шести– и семизначные цифры прибылей, Василий Васильевич грустно спросил:
– Неужто, Борис Андреич, вы всерьез считали меня идейным противником?
– Конечно, считал. Какой же мне было смысл пробиваться в большую прессу и рисковать партийным билетом? Шум-то подняли знатнейший. Я что-то не очень понимаю вас, Василий Васильевич.
– А что же здесь не понимать, уважаемый Борис Андреич? Струсил. Страшновато было идти против течения. Проблемка-то не простая, экономическими проблемами социализма не только мы с вами занимаемся, были и другие ученые, с непререкаемым голосом. Так вот, скажу я вам, сидел я на одном чрезвычайно ответственном экономическом совещании, года три назад это было, понимал, что неверные заключения, а сказать не мог! Ведь все утверждают – нет морального износа, и точка.
«Зачем он мне все это говорит? Стыдно же!» И все– таки не мог промолчать, пожалеть Протасова.
– А вы когда-нибудь, Василь Василич, работали на заводе? – спросил он, скрывая раздражение.
– Нет, голубчик.
– Мне пришлось пройти все операции: от распределителя работ до завотделом внедрения новой техники, и скажу я вам, оглянувшись назад, на старых моих товарищей,– они могли дать больше и меньше состариться, если бы ученые, инженеры подумали о них, а не о старых станках, с которыми жаль расставаться. Если бы те же ученые изобрели более твердую сталь для напильников да более эффективный профиль насечки, наши стареющие слесари в те далекие годы, когда я только пришел в цех, смогли бы выдавать столько же продукции, что и мы, молодые, на своих лысых, заношенных инструментах. Но тогда мы были бедны и могли восполнить наши нехватки за счет мускулов, а теперь – я считаю – позор будет нашим инженерам-экономистам, если они производительность труда станут рассчитывать не за счет введения более производительного оборудования, а за счет увеличения нагрузки. Так-то, уважаемый Василь Васисилич.
Профессор молчал, опустив глаза.
– Из-за такой вот нашей с вами нерешительности мы очень медленно догоняем капиталистов.
Профессор молчал, Дроздову неудобно было оставаться дольше с ним в комнате. Он вышел, не простясь.
Борис шел домой изрядно смущенный. Он достиг того, чего желал: пригвоздил с фактами в руках, что называется, своего идейного противника. А на поверку-то оказалось, что он никакой не противник, а трусливый, малодушный человек.
Уж лучше бы молчал или по-прежнему притворялся.
Но, опомнившись, Дроздов устыдился своей горячности и безапелляционности. Он даже представить себе не мог кафедру без Протасова. И потом, разве Василий Васильевич одинок? Сколько было таких, умных, знающих, но трусоватых ученых. Нет, Протасов не Джордано Бруно. Но ведь и Джордано Бруно был один из немногих, кто пожелал пойти на костер, но не отказаться от своей мысли. Вправе ли он, Дроздов, требовать от Протасовых невозможного? Они тоже нужны. Ведь караван-то движется…
Черт возьми, как все не просто!
Не просто было и с докторской защитой самого Дроздова. На факультете не раз появлялись проверяющие из разных инстанций и требовали объяснений. Как и почему так быстро написал и защитил кандидатскую диссертацию товарищ Дроздов? А теперь прошел только год, он готовится к защите новой диссертации, докторской? Да, его книгу читали… Да, она, несомненно, глубже и интересней диссертации…
Профессор Резников терпеливо объяснял:
– Борис Андреевич Дроздов сдал, как все аспиранты, кандидатский минимум и успешно потом защитил кандидатскую диссертацию. А степень доктора наук ему будет присуждаться по опубликованной книге… Да, Борис Андреевич очень работоспособен… Книгу он написал в больнице за пять месяцев… Рецензенты сошлись во мнении, что книга Дроздова – это значительный вклад в науку о развитии социалистической экономики…
Очередным проверяющим оказался член-корреспондент Академии наук Анатолий Филиппович Чесноков.
– Где раньше преподавал товарищ Дроздов? – задавал он вопросы профессору Резникову.
– Раньше он был студентом, сдавал экстерном, до этого работал слесарем-наладчиком на заводе.
– Да, да… – член-корреспондент спохватился: – Право же, уникальная история. Да. Диссертации товарища Дроздова, если признаться, я не читал, а что касается его спецкурса – слушал и должен сказать, превосходные лекции.
У Николая Афанасьевича отлегло от сердца. Мнение Чеснокова значило немало.
– А я, Анатолий Филиппыч, признаться, приготовился к обороне. Готов защищать Дроздова всеми доступными для меня средствами.
Чесноков поморщился:
– Как ни странно, недругов и недоброжелателей у молодого ученого больше чем достаточно.
– Однако мнение члена-корреспондента Анатолия Филипповича Чеснокова кое-что да значит. Если это мнение положительное, разумеется, и если я не ошибаюсь?
– Не ошибаетесь. В моем лице вы найдете верного сторонника и защитника. Но, полагаю, кое-какие неприятности Борису… Борису…
– Андреевичу, – подсказал профессор.
– Борису Андреевичу придется пережить. Распространяются какие-то досужие домыслы. Мне пришлось справляться в редакциях, его ли это псевдоним – Андреев…
– Знать бы, кто их распространяет! Первый раз я встречаю такой крупный талант. И натура цельная, богатая. Но кому-то он дорогу перешел. Кому, задаю себе вопрос?
– Мне трудно судить. Но лично я свое положительное мнение изложу и постараюсь как-то все урегулировать. Думаю, что защита Дроздова пройдет благополучно.
Сам же Дроздов понятия не имел, какие страсти кипели вокруг него. Он уже успел войти во вкус преподавательской работы. Слушателей его спецкурса по экономике становилось все больше. Он часто теперь видел в аудитории и аспирантов других кафедр, хотя обязаны были его слушать лишь студенты кафедры политэкономии.
И другое удивляло Дроздова: количество двоек на экзаменах стало заметно убывать, и наконец они исчезли вовсе. Ответы были уверенные и порой увлеченные, и если сначала на него смотрели с любопытством, то теперь симпатия возрастала. Он «разменял» четвертый десяток, как сам выражался, и потому считал себя «древностью», но нет-нет да и обнаруживал вдруг в карманах пальто или в портфеле девичьи записки с признаниями, что его «обожают». Однажды он выложил их Жене.
– Приревнуй хотя бы. Вишь какой у тебя муж. Девчонки влюбляются. Тебя это не пугает?
Женя улыбнулась.
– Я понимаю девчонок. Ты действительно симпатяга.
– Постой, постой. На что намекаешь, красавица моя?
– На самое простое. Становишься девичьим кумиром.
– А это плохо? – насторожился Борис.
– Почему плохо? Наверное, закономерно – ты стал хорошим преподавателем.
– И ты нисколечко не ревнуешь?
– Нет!
– Какая она самоуверенная!
– Нет, не так. Я уверенная в себе и в тебе, – счастливо улыбалась Женя.
Вскоре началась избирательная кампания в местные Советы. Завод выдвинул кандидатом в депутаты Моссовета Бориса Андреевича Дроздова. Незаметно подошли и выборы. В торжественной обстановке Дроздову вручили мандат депутата.
И наконец пришло разрешение из ВАКа на защиту докторской диссертации по специальности экономика Дроздову Борису Андреевичу.
4
Малый зал, в котором обычно проходили защиты всех диссертаций и расширенные заседания ученого совета, не вместил всех желающих присутствовать на защите докторской диссертации Борисом Дроздовым. Этот зал был рассчитан не более чем на семьдесят человек, да и то в тех случаях, если выставляли стулья перед передним рядом и вдоль прохода. Сегодня же собралось более двухсот человек.
Профессор Резников отправился к ректору: его не об– радовал, а насторожил такой наплыв людей, вдруг заинтересовавшихся диссертацией Дроздова. Хотя понять людей можно – защищался недавний рабочий. Вроде внешне все обстояло неплохо, популярность Дроздова понятна. И все же решили посоветоваться – пригласили секретарей партийной и комсомольской организаций института, представителей парткома завода «Красный маяк».
Вскоре все приглашенные собрались в кабинете ректора.
Профессор Резников объяснил, чем вызвана эта срочная беседа. Попросил высказать свои соображения и пожелания.
Первым поднялся представитель завода Сергей Кириллов.
– На защиту из наших пришли двадцать три человека. Интересно же… Свой, рабочий. Правда, никто из нас ни в философских, ни в экономических науках особенно не разбирается, и все-таки двое хотят сказать свое слово. Понимаете сами, Дроздов – наш, наша рабочая косточка.
– Конечно, мы знаем Дроздова не столько лет, сколько он провел на заводе,– не удержалась и Алла Васильевна Протопопова, – но все же достаточно хорошо…
– Дело не в количестве лет, а в качестве вложенного в науку труда, – высказался комсомольский вожак, в шутку прозванный аспирантами Батей.
Резников хмуро прервал не относящиеся к делу разговоры:
– Вы уж, друзья мои, простите меня за поучения. Я никого не хочу инструктировать, но хочу предупредить на случай неожиданных выпадов против диссертанта. Чует мое сердце (это и заставляет меня обратиться к вашей помощи), что вполне возможен какой-нибудь досадный инцидент, провокационные выходки или вопросы. Мы должны суметь дать им отпор. Для вас не секрет, что перед защитой в институт приезжали разные комиссии, проверяли, сличали текст книги Дроздова с кандидатской диссертацией. Просматривали его журнальные публикации. Были какие-то нелепые «сигналы». И если уж на эти сигналы не обратили внимания и разрешили защиту, мне кажется, что возмутитель спокойствия объявится.
Ректор поинтересовался: многие ли из собравшихся не имеют отношения ни к вузу, ни к заводу. Протопопова уверенно ответила: таких примерно четвертая часть. Сергей Петрович Кириллов предложил заседание ученого совета провести в старом клубе завода, благо и располо-
жен он в пятистах метрах отсюда. Переход и вообще организационные дела задержат заседание на час, не больше, но зато всем будет обеспечено место. И в другом была выгода: дома, как говорится исстари, и стены помогают.
Предложение понравилось. Тотчас объявили об этом в малом зале. Минут через пять висело и новое объявление, указывающее адрес клуба завода «Красный маяк». Кириллов отправился в клуб, чтобы соответственно обставить это необычное заседание.
Наконец предупредили и Дроздова, чтобы был готов: не исключены осложнения или провокационные вопросы в ходе обсуждения диссертации. Тот с удивлением уставился на Резникова: может, он ослышался?
– Какой смысл в такой провокации?
– Если бы заранее знать этот смысл!..
Дроздов не унимался, он хотел теперь знать наперед.
– Давайте подойдем с другого бока… Какие вообще провокационные выходки вы лично наблюдали, Николай Афанасьевич? Или знаете их доподлинно?
– Ну вот, к примеру… Встанет какой-нибудь хлыщ и заявит, что диссертация не ваша, вы ее украли, содрали у другого или у других, купили, наконец…
– Но за такое же… Клевета ведь уголовно наказуема, как я понимаю…
– Это все потом, потом вы будете доказывать, что тот тип оклеветал вас. Ученый же совет обязан проверить. А на это необходимо определенное время… Провокация на то и провокация. Она рассчитана на мгновенный шок, на растерянность людей, привыкших к солидному и деловому обсуждению представленной работы.
– А ведь и в самом деле – милицию не позовешь.
Дроздов, не испытывая ни волнения, ни тем более страха, с интересом и любопытством всматривался в зал; большую часть из этих людей он знал – кого по фамилии, кого в лицо, кого и очень хорошо: с одними он был в добрых отношениях, с другими он расходился по каким-либо вопросам, но даже мысли не допускал, чтобы кто-то из присутствующих, с кем он расходился во взглядах, мог совершить подлость, подобную той, о какой говорил профессор Резников. Они могут подвергнуть сомнению определенные положения его работы, найти какие– то ошибки, неточности, случалось, находились так называемые «ловители блох», которым страсть как хотелось услышать в конце заседания, что автор учтет замечания
таких-то и таких-то и несомненно внесет соответствующие поправки.
Но кому нужно подвергнуть сомнению всю диссертацию, главное, с каких позиций могут ее отвергать? Может, зря вообще поднял тревогу Николай Афанасьевич?
Борис еще раз окинул взглядом зал и вдруг увидел Павла Зыкова. Не может быть, чтобы Пашка! Старого земляка своего он видел около года назад, в горкоме партии, столкнулись при выходе из зала, где проходило заседание партийного актива. Зыков тогда удивленно и неприязненно уставился на него и снисходительно спросил:
– А ты-то как здесь очутился?
Снисходительность в его тоне была столь явной и подчеркнутой, что Борису хотелось просто не заметить этой выходки, он ответил, призвав на помощь всю свою выдержку:
– Пригласили. Потому и оказался здесь.
– Неужели персонально пригласили? – съязвил Зыков.
– А почему и нет, Пашку Зыкова приглашают, а я чем хуже?
– Для кого Пашка, а для кого и Павлом Порфирьевичем довожусь.
– Для меня ты всегда был Пашкой, Пашкой и останешься.
Борис не хотел дерзить, просто надо было напомнить Зыкову, что перед ним, Дроздовым, не стоит ему гоношиться. Но Зыков обиделся, повернул в сторону буфета, что-то буркнул, обернувшись, Борису. Что – Борис так и не понял, обескураженный, он смотрел вслед удалявшемуся товарищу, теперь уже твердо определившемуся в звании «бывшего». В конце заседания Зыков разыскал его, начал что-то объяснять извиняющимся тоном, но тут проходивший мимо секретарь горкома Алексей Георгиевич Смирнов, вдруг заметив Дроздова, устремился к нему с протянутой рукой, уже издали громко говоря:
– Борис Андреич, вы побиваете все рекорды. Поздравляю вас от всей души.
– Не понимаю, Алексей Георгич, – опешил Дроздов, и в самом деле не понимавший, с чем поздравляет его Смирнов.
– Он не понимает! Второй вуз как орех раскусывает и не понимает.
– Так я же вынужден техническим заняться… Дипломную где-то поприжали… Вот и попросил разрешения досдать разницу в предметах.
Секретарь выставил вперед обе ладони, как бы защищаясь ими от слов собеседника.
– Ну, вы-то уж мне не пойте лазаря. Хорошо понимаю, что такое «досдать». В мыле небось пребываешь днями и ночами… И с дипломной все образуется. Словом, поздравляю. Я рад, что жизнь подправила ваше критическое отношение к диплому.
– А я не изменил ни себе, ни своему слову. С заводом не думаю расставаться.
Смирнов усмешливо глянул в глаза Дроздову. Чувствовалось, многое хотелось ему сказать, да обстановка явно тому не соответствовала. Он лишь слегка встряхнул Дроздова за плечи, мягко улыбнулся:
– Мне уже приходилось слышать заявления некоторых товарищей… Приходилось или не приходилось?
– Ну и что из того? Жизнь корректирует наши намерения…
– Вот-вот. И я о том же. Жизнь – великая штука. Заставляет быть активным и думать напряженно. Думать и делать правильные выводы. Так, Борис Андреич?
Павел Зыков не пропустил ни слова из этого разговора. Кто такой Смирнов, он хорошо знал, запомнил Алексея Георгиевича еще по Германии. Сегодня он был одним из руководителей этого авторитетного собрания. И так запросто говорил с Дроздовым!
От пренебрежения Зыкова не осталось и следа, он превратился в лучшего друга Дроздова, который тем только и занимался, что думал о благополучии товарища.
Кто-то позвал Дроздова, и он с радостью прервал разговор со своим «заботливым» товарищем. На прощанье бросил:
– Будь здоров, Пашок. Не хворай…
Эти слова оглушили Зыкова. Забыть и простить их Павел не мог.
Он пощадил Дроздова, не известил соответствующие организации о его плагиате в кандидатской диссертации только потому, что Дроздов тогда был в больнице. Несчастный случай, Павел все понимал. Но когда он изучил книгу Дроздова и в книге, за которую тот наверняка получил кругленькую сумму, увидел те же выдержки из статей Андреева, он больше терпеть не мог Зыков написал в Министерство высшего образования, в ВАК.
Сидел Павел Зыков в компании трех молодых рабочих. Они о чем-то оживленно переговаривались. Собеседники смотрели на Зыкова благоговейно. Он кривил губы в усмешке, что-то изредка и важно изрекал, то и дело раскрывал толстую книгу с бумажными закладками в ней. Чем-то привлекала Дроздова эта книга. Он не отрывал от нее взгляда. Да это же его собственная диссертация в руках у Зыкова! Но как, каким образом она к Пашке попала? Он напечатал, сброшюровал и переплел десять экземпляров. У него осталось всего лишь два, остальные восемь читались в институте, и вот один из экземпляров оказался в руках у Зыкова. Что бы это могло означать?
Впрочем, к чему гадать. Если есть у Павла намерение подложить ему свинью, он не преминет это сделать сегодня. В этом Борис теперь не сомневался.
Между тем приближалось начало заседания ученого совета. Доклад свой с кратким пересказом положений новой книги Борис хорошо знал, потому и не было нужды его повторять. А вот желание понаблюдать за клубным залом, хорошо ему знакомым, не ослабевало. Что же все-таки привлекло всех этих людей? Неужели только сенсационность ситуации – недавний рабочий защищал докторскую. Видимо, только это. Вряд ли кто-либо, кроме оппонентов, глубоко анализировал его книгу. Дай бог, чтобы внимательно прочитали автореферат. И за то спасибо.
Еще раз он внимательно окинул взглядом зал. Народу прибавлялось. Вот слева обособленным островком уселись его товарищи по заводу. Среди них он увидел и Женю, хотя она и дала слово, что не придет на защиту, чтобы у нее «не разорвалось сердце на мелкие кусочки» от волнения и страха. Чуть впереди сидела «комсомолия института».
И опять Дроздову пришлось удивляться. Он увидел вошедшего в зал Дениса Чулкова. Вот так сюрприз! Но тут же встревожился: как у него со здоровьем? Начал вглядываться… – с палочкой ходит или без нее? Денис шел без палки.
Ай да молодец! Добился все же своего. Вот бы сейчас к нему, обнять, растормошить.
Но было уже поздно. На сцену один за другим стали выходить из-за кулис члены ученого совета. Заспешили в зал и те, кто не успел найти себе место.
И вот все стихло. Профессор Резников поднялся с места и объявил заседание ученого совета открытым.
5
Доклад Дроздова был рассчитан на час, говорил же Борис уже почти два часа. Николай Афанасьевич и профессор Протасов советовали Дроздову по возможности обходить острые углы, а если уж это невозможно, то не вступать в открытую полемику с признанными авторитетами. Но… он, что называется, закусил удила… Зал уже через полчаса был наэлектризован и возбужден до предела, то тут, то там поднимался шум, Николай Афанасьевич порой болезненно морщился, когда диссертант, оторвавшись от текста, выходил на те самые «острые углы».
Борис видел, как остро воспринималась его речь собравшимися, что своими крутыми определениями он, будто рашпилем, проходит по нервам своих друзей, особенно Резникова, хотя и сознавал, что все это может очень дорого ему обойтись, но и не мог изменить взятого тона. В него будто бес вселился.
Он смахивал тыльной стороной ладони пот со лба. Голос его уже не выдерживал напряжения. И вот концовка…
– Должен сказать… Вернее, я глубоко убежден, что если мы в ближайшие полтора-два десятилетия решим проблемы модернизации производства, страна наша сделает невиданный, гигантский скачок. Но об этом надо говорить, и говорить громко, а не замалчивать наболевшие проблемы. Общество наше в состоянии решить любые из них, какими бы трудноподъемными они ни казались. В народе есть пословица: глаза страшатся, а руки делают. Мудрость эта складывалась веками, поэтому она по своей значимости приобретает политическое содержание.
Наступила тишина. И вдруг грянули дружные аплодисменты. Профессор Резников медленно поднялся, грозно озираясь, явно осуждая за неподобающее поведение присутствующих на заседании ученого совета. Но чем грознее становилось его лицо, тем оглушительнее, словно наперекор председателю, хлопали заводские товарищи Дроздова и окружение доцента Протопоповой.
– Товарищи! Товарищи! Здесь же не представление.
Но что мог сделать один человек с разволновавшимся
залом! А тут еще представители завода стали подниматься и аплодировать стоя. Вслед за ними поднялась Алла Васильевна, комсомольцы, а потом уже и другие. Гул аплодисментов возрастал. Резников обернулся на присутствующего здесь представителя Высшей аттестационной комиссии, перевел взгляд на ректора. А те друг за другом развели руками, что они-то могли поделать? И Резников сам стал аплодировать. Именно это уступчиво-деликатное поведение председателя, пожалуй, и утихомирило зал, все стали усаживаться на свои места.
Наконец наступила тишина. И профессор Резников, по обязанности председателя ученого совета, поднял голову, опять сдержанно улыбнулся и вполголоса произнес:
– Так и хочется сказать: позвольте ваши аплодисменты принять за единодушное одобрение всего того, что изложил уважаемый товарищ Дроздов.
Зал разразился смехом. Но шум тут же утих.
– Но слов этих сказать я не имею права, потому что у нас заседание ученого совета, а не торжественное собрание.
С места поднялся заместитель секретаря парткома завода Сергей Петрович Кириллов.
– А если блестящие идеи вызвали всеобщее одобрение и восхищение талантом соискателя ученой степени, это может отразиться на решении Высшей аттестационной комиссии?
– Позвольте уточнить. В нашем вузе мне доверена честь исполнять обязанности председателя ученого совета. За действия ВАК, к сожалению, ответственности не несу и от его имени говорить не могу. Поэтому позвольте заданный вопрос оставить открытым. Пользуясь своим правом председателя, предоставляю слово официальному оппоненту профессору Василию Васильевичу Протасову.
Протасов в своей речи дал высокую оценку диссертационной работе Дроздова, но, сделав несколько незначительных замечаний, осудил Бориса Андреевича за острую полемичность сделанного им доклада.
Примерно такую же оценку диссертации дали и другие оппоненты. Все они неизменно не одобряли полемичного тона соискателя.
– Но неужели же диссертант обязательно должен бубнить как пономарь в старину? – это опять Кириллов подал голос.
Зал снова оживился.
В это время один из троих пареньков, сопровождавших Зыкова, вышел в проход, подошел к сцене и протянул Николаю Афанасьевичу записку. Резников взял ее, быстро прочитал и тотчас передал представителю ВАК. Тот пробежал ее глазами, неопределенно пожал плечами и молча возвратил записку председателю.
– Товарищи! Слово просит токарь-скоростник Павел Порфирьевич Зыков.
Зал примолк. В группе Протопоповой стали переглядываться, раздался шепоток: «Кто это Зыков?» – «А кто его знает. Сейчас скажет».
Павел Порфирьевич, еще больше раздобревший с тех пор, как в последний раз его видел Дроздов, твердо шел по проходу. Он не озирался ни вправо, ни влево. Смотрел строго перед собой, но, наверное, вряд ли что или кого видел. Он солидно, неторопливо поднялся по короткой боковой лестничке, неся под мышкой пухлую переплетенную рукопись, переложенную бумажными закладками, и книгу Дроздова, также с закладками. Вот он неторопливо устроился на трибуне, извлек из кармана листки, отпил глоток воды из стакана. И только рука выдавала его отчаянное волнение, она дрожала.
Наконец Зыков поднял объемистый том и показал его залу.
– Дорогие товарищи! Это вот и есть главный труд моего уважаемого земляка, старого товарища, с которым мы когда-то в тридцатом году вместе прибыли в Москву. То, что я сегодня сообщу вам, конечно же, неприятное и печальное событие. Но, товарищи, я это обязан сделать. Моя рабочая совесть не позволяет мне молчать.
Зал, замерший при первых словах Зыкова, тревожно загудел, люди задвигались, стали переговариваться.
– Спокойно. Спокойно, товарищи,– поднялся Резников.
Павел Зыков с достоинством кивнул головой, как бы принимая в свои союзники председателя ученого совета, и продолжал:
– Прошу вас взглянуть на эти закладки. Их здесь четырнадцать. Наберитесь терпения все выдержки полностью выслушать. Это очень важно и весьма принципиально. Вы позволите? – вежливо повернул он голову к профессору Резникову.
– Прошу, прошу, товарищ Зыков.
Павел Порфирьевич добросовестно стал читать один за другим отрывки из книги Дроздова. Все, что он читал, было смело и, главное, било в одну и ту же цель. Создавалась какая-то единая и довольно строгая картина, из которой было ясно, как последователен и настойчив автор, доказывая, по сути дела, одну и ту же идею, но подходя к ней с разных сторон. Отличная была иллюстрация к тому, о чем раньше с такой страстью и убежденностью говорил Борис Андреевич. Кто-то из слушателей, не понимая, к чему клонит оратор, даже зааплодировал. Но на него зашикали, и он растерянно, ничего пока что не понимая, как, впрочем, и другие, притих.
– Не правда ли, талантливо, свежо и принципиально звучит?
– Мы разделяем вашу точку зрения,– подтвердил Николай Афанасьевич, пряча усмешку.– Во всяком случае, я выражаю свое личное мнение. Даровито и дальновидно.
– А теперь самое главное. Все эти отрывки, которые вы терпеливо выслушали, написал и опубликовал ранее в солидных изданиях товарищ Андреев. А мой уважаемый земляк Борис Андреевич Дроздов полностью их привел в своей так называемой диссертации и даже не закавычил.
Зал потрясенно молчал. Проходили секунды. Наконец встал профессор Резников. Теперь он улыбался. Беззвучно хохотал и Дроздов.
И вдруг зал взорвался. Крик, шум, свист. Кто что говорил, о чем кричали, к кому обращались – невозможно было что-либо понять.
Зыкову надо было бы уйти, основываясь на той классической цитате, которая гласила: мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Но уходить он не захотел. С видом человека, отважно исполнившего свой долг, Зыков медленно собирал свои листки, аккуратно размещал по своим местам закладки и все чего-то ждал. Было видно, как он наслаждался. Ни в зал, ни на председателя ученого совета, ни тем более на Дроздова он не смотрел. И упустил удобный момент для того, чтобы удалиться со сцены.
А зал между тем стал утихать. Всех смутила широкая, но далеко не добродушная улыбка профессора Резникова.
Но профессор не спешил. Он спокойно и терпеливо ждал. Именно это спокойствие и возымело действие.
Гул утих. И только тогда Зыков вознамерился удалиться со сцены. Но профессор Резников остановил его.
– Прошу вас, верный друг нашего товарища Дроздова, задержаться. Следовало бы, конечно, ответить Борису Андреевичу, но товарищ Дроздов, надеюсь, не будет возражать, – профессор обернулся к Дроздову и слегка поклонился ему, – если лично мне, председателю совета, будет доверена честь обнародовать документ, о котором мы заранее побеспокоились, чтобы обезопасить и себя, и члена нашего коллектива от таких вот весьма бдительных земляков-товарищей.
– Пожалуйста, пожалуйста, – весело отозвался Дроздов.
Николай Афанасьевич порылся в папке и с подчеркнутой торжественностью извлек лист глянцевитой бумаги и показал его залу.
– Прошу обратить внимание. С грифом и круглой гербовой печатью. А внизу весьма авторитетная подпись.
И он стал читать. Читал медленно, чеканя каждое слово. Сущность прочитанного сводилась к тому, что из сорока двух опубликованных работ товарищем Дроздовым Б. А. сорок одна работа была подписана псевдонимом Борис Андреев. И лишь под одной из них – статьей, посвященной проблеме морального износа машин, служившей одновременно рецензией на книгу В. В. Протасова,– значилась истинная фамилия Бориса Андреевича.
– Должен заметить – это уж я от себя лично – объем опубликованного товарищем Дроздовым только под псевдонимом составляет свыше пятнадцати печатных листов. Подчеркну и другую деталь… По общему нашему мнению, мнению ученого совета, за одну лишь дискуссионную статью по книге профессора Протасова, опубликованную в академическом журнале, товарищ Дроздов заслуживал ученой степени кандидата экономических наук.
После бурной реакции на сообщение Зыкова зал сидел не шелохнувшись. Такого ЧП ученый совет еще не видывал. И первое сенсационное «разоблачение», и спокойное сообщение «старого товарища» ошеломили всех, кто присутствовал на заседании.
Но вот прошел и второй шок. Зал забурлил с новой силой:
– Позор!
– Вон из зала!
– Это безобразие! Как этот человек смеет прикрываться своей дружбой с Дроздовым.
– В три шеи!
Профессор Резников поднял руку.
– Осторожней, товарищи! Этот человек не прост. Из-за него, вернее, по его сигналам навещали институт всевозможные комиссии, дабы проверить правомерность защиты Дроздова. С ним надо бороться неопровержимыми фактами. У меня имеется еще один факт, который в свое время зафиксирован документально. Партийный выговор, который был объявлен товарищу Зыкову за его неэтичное поведение по отношению к товарищу Дроздову. А точнее, навет на Дроздова после возвращения из командировки в Германию. Товарищ Зыков обвинял Дроздова в излишней открытости по отношению к немецким коллегам.
Зыков, как рыба, выхваченная из воды, несколько раз подряд раскрыл рот, но так и не смог сказать ни слова.
– Товарищ Глаголев, заместитель секретаря парткома завода, где работает Зыков, сообщил нам о выговоре этому товарищу,– жест в сторону Зыкова,– за клевету. Выговор сняли, а суть Зыкова не изменилась. Так ведь, товарищ… Зыков?
Зал бурлил, все более накаляясь.
– Вот это друг…
Слова эти принадлежали Протопоповой. Но не в словах была суть. В выражении ее лица, в тоне, как она произнесла фразу, в ее руке, вытянутой в направлении Зыкова…
Поднялся Дроздов. Обратился к председателю.
– Позвольте, Николай Афанасьевич. Всего два слова.
– Конечно, конечно, Борис Андреевич. Прошу вас к микрофону.
Дроздов подвинулся к микрофону, оперся обеими руками о стол и некоторое время не мог произнести ни слова. Но вот он поднял голову, глубоко и как-то тяжело вздохнул, а потом исподлобья посмотрел на своего «заклятого друга». Тот все еще стоял возле трибуны, будто его пригвоздили.
– Товарищи! Мне сейчас мучительно трудно говорить… Да, Зыков – мой земляк. Больше того, мы вместе росли, вместе учились, работали на Урале… Пуд соли, может, и не съели, а полпуда уж точно. О том, что Павел завистлив и может продать, я знал с детства. Может быть, и сам я повинен в том, что черты эти стали свойством его характера. Слишком многое я прощал земляку. Только теперь понимаю, что не имел права прощать. Впрочем, это относится не только к одному мне. Довольно часто мы терпимо относимся к проступкам людей, которые ради них же самих прощать нельзя, потому что безнаказанность, как правило, человека, некритичного к себе, развращает. Зыков всегда греб под себя, старался урвать. Что ж, таков характер, думал я. Но дело тут более топкое. Дело – в психологии. Собственничество – самая опасная отрыжка кулачества. Она владела и моим другом с юных лет. А с годами это все в нем затвердело, заматерело. Но попробуй заметь, раскуси. Внешне все благополучно, пристойно. Ни сучка ни задоринки.