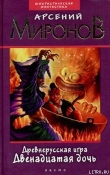Текст книги "Высокая макуша. Степан Агапов. Оборванная песня"
Автор книги: Алексей Корнеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Проснулся наутро Степан, осчастливленный, мотая от радости головой. И тогда же дал клятву в душе: не забыть ему этой ночи по самый гроб жизни, не забыть Пелагеи с ее капризным упрямством…
Жить бы, жить народу, а колхозу крепнуть. Да опять налетела туча черная, обвальная. Война!.. Избавились от тесноты на земле, от вековечной нищеты – от войны же избавиться не удалось. Захлестнула она большие дороги и малые тропинки, всю хоженую и нехоженую землю.
С первого же дня молодые мужики отправились воевать: председатель Иван Рыжов, Степан Агапов с братом Павлом, Ванюшка Куракин… Остались старики, бабы да подростки.
Опасаясь грабителей, краснонивцы действовали предусмотрительно. Скотину на колхозном дворе держать не решились: чего доброго, нагрянет враг – поголовно изничтожит. Развели ее по своим дворам да кормили, будто свою. И хлеб раздали по домам до возвращения Красной Армии, – осталось лишь домолотить две небольших скирды. В такую вот пору, во время спешной молотьбы и прибежал к риге Васятка Агапов, закричал истошным голосом:
– Бабы, мужики, скорей ворота закрывайте! Немцы к нам едут!
Семен Агапов (хоть остарел да прибаливал, а молотилку не покидал) сунул сгоряча сноп целиком – барабан захлебнулся.
– Лошадей выпрягай, живо! – крикнул погоняльщику.
Бабы, побросав грабли, подбирая юбки, горохом сыпанули по домам.
А по дороге от Страхова, раскидывая ошметки грязи, катила к поселку запряженная парой бричка, и сидели в ней три немца да страховский мужик, назначенный старостой. Шинели у немцев зеленые, а носы синюшные – не привыкли, видать, к русским холодам.
Староста, мужик свойский, незлобивый, подмигнул украдкой старику Агапову, и тот, поняв его сразу, растолковал кое-как немцам, что беднее их, запольных выселенцев, не было и нету на всем свете и что взять у них решительно нечего. На это староста согласно кивал головой, и немцы, поверив, махнули рукой на малое, отколотое от мира поселение. Однако попавшийся на глаза табунок гусей полоснули из автомата, подстреленных забрали, двух лучших лошадей – погоняльщик не успел отвести их от риги – привязали за бричку и с тем уехали…
Шесть недель ползла по большакам фашистская «грабьармия», опасаясь сворачивать на малые, чуть приметные дороги (это и избавило Агаповы дворики от разорения, чему подвергались другие деревни). Шесть недель на больших дорогах лязгали танки, громыхали кованые сапоги, катилась железная лавина в сторону Тулы, Москвы. Обратно же покрыла все расстояние за каких-то две недели, без оглядки удирая от возмездия. Так, незадолго до Нового года, в заснеженную пору Никольских морозов вымели наши, как метлою, незваных грабителей, – кончилась оккупация!
В Агаповых двориках домолотили последний хлеб, отвезли его в фонд Красной Армии. И потом, пока шла война, делились с фронтом последним. Хлеб, мясо, сало, яйца, овчины на полушубки, варежки-самовязки, носки шерстяные – все отправляли воинам. Ничего не жалели бабы для своих мужей и сыновей, день и ночь работали – лишь бы пришла скорее погибель врагу. И даже те, кто получал похоронную бумажку, наголосившись до одури, снова выходили в поле…
Чем ближе был конец войны, тем больше становилось вдов и сирот в Агаповых двориках. И когда наступила Победа, из двадцати мужиков вернулись с фронта семь.
Медленно, по-черепашьи карабкался после войны колхоз «Красная нива». Не хватало лошадей, не хватало рабочих рук. А тут еще, в самую жатву, наплыли откуда-то мочливые тучи и ну поливать беспрестанно. Много осталось хлеба на полях, а без хлеба какая жизнь? Голодать никому не хотелось, вот и подались люди с насиженных мест по городам, по шахтам да стройкам, где твердые платили деньги.
Именно в ту трудную пору навалились на Степана одна за другой беды. Первой слегла Пелагея. Всю войну была здоровой, работала за ломового, а тут не вынесла – за неделю убралась. Следом, в один год отошли друг за другом старики его, родители.
Сватали Степану женщин, каких после войны без счету было, да не решался он, все думал, никто уже не заменит Пелагею. К тому же и сын с дочерью подросли, помощниками стали в доме. Так и остался бобылем…
На пятом году после войны – запомнилось то лето, – повсеместно началось объединение колхозов. Приезжали уполномоченные из района, доказывали, что мелкими колхозами жить невыгодно, техникой обзаводиться им не под силу, хорошие стройки тоже не одолеть. Словом-де, большому кораблю большое и плаванье, а маленькому суденышку – куда ему: выйдет в море, волной захлестнет. Центрами колхозов избирали большие села, а такие, как Агаповы дворики, оказались как бы не у места.
Объединяться краснонивцы единогласно решили с Добропольем. По той причине, что туда и добираться легче; и станция оттуда поближе, а если в Юсупово пойти, куда примкнули Страхово, Улесье, другие соседние деревни, – так это и дальше, и речки там нет, даже и колодцев хороших.
– Что ж, пусть там колхозом всем правят, а мы будем бригадой своей, – согласно поговаривали в Агаповых двориках.
Но скоро пришлось рассуждать по-другому. Общественный скот перевели на центральную ферму, и зимой народ остался не у дел. Надо было или ходить в Доброполье во всякую непогодь, или сидеть на печи да есть калачи. Но кто же протянет тебе калач, если сам ты его не добудешь? Вот и опечалились люди: без работы не просидишь и ходить за три версты не находишься. Как тут быть?
Первым перевез свою избу в Доброполье молодой шофер – только что вернулся из армии – Серега Анисов. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Так и пошли друг за другом.
Были Агаповы дворики – и рассыпались…
Не будь домашних дел по горло, пропал бы Степан Агапов со скуки, а то и бросил бы, может, обжитое место да и подался бы хоть в Доброполье.
Но как ни тянулась зима с ее морозами да метелями, с надоедливо длинными ночами, а подошел ей конец. Все выше в полдень солнце, все чаще оттепели. Вон уж и кот Тимоха, полосатый, как тигр, ноет да мяучит, то по дому мечется, а то на чердак взберется – орет там утробным голосом. Видно, весну почуял, подругу себе зазывает. Да где ему докликаться: ближе трех верст нет вокруг ни кошки, ни собаки бродячей.
Прыгают перед домом уцелевшие воробьи и синицы, рады-радехоньки, что живы остались. Обласканные теплыми лучами, обдутые влажным ветром, зачернели стволы вишен, яблонь, лозин. Выросли под карнизом хрустальные грабли сосулек, и льются с них, позванивая, чистые веселые слезы.
Выйдет Степан на улицу, посмотрит, щурясь, на солнце, сморщится оттого, что лучи, прокравшись в мохнатые ноздри, пощекочут там, и – а-ап-чхи! Усмехнется от удовольствия: весна!..
Целую неделю откидывал он снег от дома, от двора и погреба, рубил канавки для отвода воды. Спускался к лощине, посматривая, как мертвенно-синими подтеками набухал там расхлябистый снег. И светлели, как дни весенние, у Степана мысли: опять вернулось
Время теплых дней
Слизнуло солнце, что корова, языком, последний снег с полей, и остались от него жалкие клочья, как белесые палаты на неловко зачиненном полушубке.
Была зима – и нет зимы.
В лощине дозванивал свое, вихлял серебряной бечевкой последний ручеек. На трех лозинах возле бывшей конюшни горланили, устраивали драку из-за гнезд черные, как смоль, грачи. При виде их волною радости распирало у Степана грудь, захлебывался он счастливым бормотаньем.
– Вот птица-то, а? Люди, выходит, хуже грачей разлетелись – тютьки их звали. А птица как вывелась тут, так и возвернулась на гнездышко свое…
Любовался, поглядывая, как разгуливали по буграм, долбили землю крепкими клювами эти черные трудолюбы, как в скворечнях, вовремя развешанных им перед домом, поселились веселые певцы, разливались на всякие голоса.
Над темными пашнями, как только подымалось солнце, начинал куриться сизоватый дымок. На глазах просыхали обдутые ветром, обогретые солнцем бугры, лощины. Уже и овцы ходят по пригорку, мемекают, сзывая расшалившихся ягнят. Овца такая скотина: чуть где показалась травка – под самый корешок выберет. И Зорюха с телком, глядя на овец, припали к земле, что там пощипывают – не разобрать: то ли былинки прошлогодние, то ли молоденькие, чуть проклюнувшиеся зеленинки. Разгулялись возле дома и куры, кокочут друг перед дружкой, гребешки покраснели. А петух-то, петух перед ними: как жених обходительный, так и косит крылом.
Дружно загудели выставленные на солнце пчелы. Порасправив крылышки, крутились, крутились поблизости да и завьюжились в сторону речки, где зацвел, наверно, прибрежный ивняк.
Прикидывал Степан, посматривая на живое свое хозяйство, какая к осени может образоваться выгода. Но тут же и хмурился так, что кожа на лбу собиралась гармошкой. Забот-то, забот сколько, пока выходишь всю эту кабалу! Тяжко одному управляться, никак неспособно.
– Ех, – вздыхал, – жизнь моя бекова, взял бы замуж, да неково…
Только сел пообедать – глядь, подкатил к дому «газик». Заметался Степан, выскочил на улицу, усмиряя рвавшегося на цепи Дикаря.
– Ну и кобель у тебя! – не удержался Рыжов, рослый крепыш в болоньевом плаще, в резиновых сапогах. И рассмеялся, подтравливая пса: – У-у, какой нелюдимый, весь в хозяина!
Переступив порог, шутя похлопал Агапова по плечу:
– Не обижайся, Степан Семеныч. Раз отбился от колхоза – принимай пилюлю.
Засуетился хозяин перед нежданным гостем, приглашая его в дом. Услужливо выставил припасенную на всякий случай «Столичную», но председатель только рукой махнул:
– Поставь, где была, не за тем приехал.
– Дак кстати же! – оправдывался Степан. – Угодил к обеду, стал быть, за компанию.
– Какой там у тебя обед! – усмехнулся гость, оглядывая непорядок на столе и во всем доме.
– Дак… чем богаты, тем и рады.
– Богатый ты, да от людей вот отбился. Как дед-лесовик. Думаешь колхозу помогать или совсем хочешь отколоться? Не пойму, как ты тут один? Ну, прямо зимовье на Студеной!
Степан заерзал, вскочил со стула: обидно слышать такое от своего деревенского. От того самого, с отцом и дедом которого строил Агаповы дворики, укреплял родной колхоз.
– Милый ты мой Лексанушка! Дак я же, известно тебе, с твоим же папашей трудился-маялся. И с фронту пришел покалеченный – опять же не сидел сложа руки. До последнего момента, покуда наши дворики стояли. Дак рази был я когда супротив колхозу?
– Знаю, знаю, что не был. А теперь другое время пришло. Или, думаешь, опять вернемся к прежним колхозам? Нет уж, Степан Семеныч, что с возу упало, то пропало.
– Бабушка надвое гадала, – отозвался Степан. – Колхозов прежних не будет, дак бригады должны быть. А то ить до чего же дойдить-то можно? Так и все деревни недолго порешить.
– Все не порешим, а таких вот не будет. Настроим в центре хороших домов, с городскими удобствами, – ну, кто же согласится тогда жить по старинке? Не будем же открывать в какой-то деревушке школу, например, или баню, сельмаг, детсад. Ну, сам посуди…
– А кто землю будет, кормилицу нашу, обрабатывать? Способно ли из центра ездить кажный раз за три версты?
– Зачем – каждый? Трактором посеем, комбайном уберем, а хлеб – на машины, на центральный ток. Что же, по-твоему, из-за двухсот гектаров бригаду тут держать? А зимой без работы сидеть?
– Постройте скотный двор да скотину заведите.
– Строить по-новому надо, комплексы целые. С электричеством да механизмами разными. Не какой-нибудь там дворик, как раньше бывало.
– Ладно, слепой сказал – посмотрим.
– Да что тут ладить-то, Степан Семеныч. Отстал ты от жизни, признайся. – И с этими словами председатель махнул рукой – довольно, дескать, переливать из пустого в порожнее.
Заговорил наконец о главном, ради чего приехал.
– Завтра сеять начнем, а людей нехватка. Думаешь колхозу помогать или…
– Дак я же… милый ты мой Лексаиушка. По всем своим силам-возможностям, душою всей. Только поблизости где-нибудь, от дома чтоб не отрываться…
– Ладно, найдем поблизости. Пока на сеялке поработаешь, а летом тут лагерь телятам устроим, будешь по ночам охранять.
– А с чего бы и нет! – обрадовался Степан. – Самое при моих способностях занятие. И мне хорошо, и колхозу подмога.
– Ну все, договорились. Только с условием: нынешней осенью переедешь на центральную.
С этими словами председатель протянул хозяину руку и, сопровождаемый остервенелым лаем Дикаря, направился дальше – осматривать поля…
На следующий день услышал Степан, как зарычал поблизости трактор. Подхватив кепку, он торопливо выметнулся на улицу. Навстречу от пахотного клина шагали двое. Молодой плечистый, с прищуренными глазами тракторист и сеяльщик. Оба из Доброполья: Степан не раз их видел в магазине, принимая безобидные шуточки.
– Здорово, единоличник! – ощерил сахарные зубы тракторист.
– Какой я тебе единолишник? – взъерошился Степан. – Да я тут колхоз на своих плечах поднимал, а ты мне – единолишник. Молоко ишо на губах, а тоже себе надсмехаться…
– То было когда-то, дядя Степан. А теперь же отделился ты от всех!
– Может, вы от меня отделились.
– Ладно, некогда тут баланду травить, – примирил их сеяльщик. – Видите, поле-то какое, – окинул рукой, – не до разговорчиков…
Погодка выдалась как на заказ. Солнце, чисто умытое, било весенней ярью, манило куда-то вдаль. Свежо было в воздухе и молодо, над пашнями зыбилось прозрачное марево. Земля час от часу просыхала, как бы вздыхая после долгой спячки.
Весело, гогочуще, будто конь гладкий вырвался из конюшни, рванулся трактор, сверкая на солнце бегучей сталью гусениц. Позади него легко взрезали дисками мягкую землю две сеялки. Стосковавшись за зиму по артельной работе, Степан избочась глядел на ровно плывущую пахоту, куда светлыми струйками стекало семенное зерно. Раньше, бывало, при своем-то колхозе, выходил он вот в такой же весенний денек с пудовой севалкой на шее – и давай, пошевеливайся. День таскаешь севалку, другой, третий, неделю. Пока не пригнет тебя от тяжести. А все ж таки за праздник считал такую вот работу, за великий праздник. «Земля – она ить навроде бабы здоровой, – рассуждал он, покачиваясь на сеялке. – Созреет – не зевай, не упускай момента. Ублаготворишь ее – и жди, стал быть, когда родит»…
Но короток был на этот раз для Степана праздник. За каких-то пять дней засеяли все ближние поля, и трактор потянул дальше опорожненные сеялки. И хотя приморился он за эти дни, весь покрывшись серым слоем пыли, но при виде уходящего трактора снова накатила волна одиночества. Была бы в доме хозяйка, разве усидел бы он в такую пору? Хоть на бочке водовозил бы, хоть на сеялке пылился – не забывать бы только крестьянское дело…
– Ех, мать твою бог любил… Никак одному неспособно, не обойдиться, видать, без хозяйки.
Заходил он на днях к тетке Настасье, слыхал от нее: живет в Чермошнах, верст за десять – двенадцать отсюда, тоже, как и он в едином лице, женщина-бобылка, авось-де и согласится разделить с ним судьбу. «Доеду-ка, посмотрю, – заегозился, не теряя надежды. – Одна не согласна, другая да третья, а уж какая-нито найдется…»
В Чермошнах Степан ни разу не был, знал только, что за Орловкой она где-то, от нее совсем близко. А уж до Орловки известна ему дорога: за Дуброво только выехать, за Андреюшкины дворы – и кати себе ровным полем.
Не мешкая, он тут же принялся отлаживать велосипед – наследство сына. Сам он редко им пользовался, в последний раз, наверно, года два назад куда-то ездил, и потому велосипед весь запылился, цепь и педали покрылись ржавчиной, и пришлось полдня провозиться, чтобы очистить его, заклеить прохудившиеся камеры, привести в мало-мальски пригожий вид.
На следующий день он задал пораньше скотине корму, не выпуская ее со двора, чтобы не разбрелась, рассовал по карманам бутылку портвейна, банку консервов да кулек шоколадных конфет и покатил по просохшей бровке луга в неведомые Чермошны. В низине, не доехав до водотечи, где было сыро и местами пятнились грязно-серые остатки снега, Степан свернул направо: тут, на припечной боковине луга, было суше, под колесами захрустела набитая скотом шероховатая тропинка. Покалеченной ногою Степан не совсем доставал до педали, и поэтому велосипед под ним вихлял туда-сюда, от долгого бездействия поскрипывал, повизгивал, постанывал. А хозяин, не обращая внимания на такую музыку, знай нажимал со свежими силами. Быстрая езда возбудила Степана, будто снова оказался он в том возрасте, когда ни заботы за душою, ни печали, когда легко в груди и вольно, как бывает в продутых за зиму и только что вздохнувших по-весеннему полях-лугах.
На развилке луга, уходившего правой вершиной к Холмам, он вспомнил вдруг про давнего холмовского знакомого: изредка встречал в районной газете его подпись «Селькор А. Туркин». «Во, как раз и побалакаю с ним насщет нашей будующей жизнянки. А то попрошу, пускай напишет в главную сельскую газету, он мужик грамотный». Заодно ему захотелось и на Холмы взглянуть: как они там выглядят, тоже небось остались рожки да ножки.
От развилки, чуть поднявшись на бровку, Степан увидел издали встопорщенные верхушки слегка зазеленевших лозин и наддал с новой силой, хотя уже в пот ударило от ходкой езды. Вот уже колодезь перед деревней в низине – приплюснутый от ветхости деревянный сруб. Вот крайние кусты сирени и лозины в ряд, за которыми виднелись… Но что это? От первого дома битый кирпич да камень, от второго жалкие остатки стен, от третьего тоже…
– Мать твою бог любил, богородица ревновала. Што я вижу-то! Куда же Холмы-то подевались, а?
Остановился Степан, руками развел: три избы от деревни, да и те с худыми окнами, с проемами вместо дверей – заходи кому надо. Остановился он перед домом Туркиных, вошел в пустые сенцы. Кругом посуда битая, клочья одежды старой, газет и всяких бумажек, обувка старая, – словом, негодный скарб домашний, который всегда, наверно, как покидают люди обжитое место, образуется невесть откуда.
В доме пахнуло на него нежилым холодным духом, затхлой плесенью от потемневших стен и ободранного потолка, крепко пахло сажей, отсыревшей глиной. Жутко показалось Степану в этом безлюдном кирпичном коробе, взглянул с опаской на потолок: вдруг да обвалится – и крикнуть некому.
Среди раскиданного мусора, рваных обоев и поломанных табуреток тут и там валялись письма, обрывки газет и журналов, тетрадки школьные да книжки.
– Опоздал я, видать, – пробормотал Степан, разглядывая бумажки, – где он теперича, хозяин-то дома? Вишь, как она повернулась, жизнянка-то наша: не успеешь оглянуться и деревни целой нет, как ветром сдуло…
Он машинально повертел, повертел в руках фотокарточки, письма с обратными адресами: «Москва, ул. Дорожная, 28, корп. I, кв. 121», «Московская обл., г. Красногорск, ул. Нар. Ополчения, 5-а, кв. 23». Подумал: не написать ли хозяину? И машинально сунул их в карман.
– Вот тебе и Холмы, – пробормотал, выметываясь из пустого дома. И, не оглядываясь, посуровевший от неожиданного видения, покатил скорее прежнего по старой, едва заметной полевой дороге.
Андреюшкины дворы и вовсе встретили его сплошным опустошением, даже не узнал он эту деревушку, увидев сравненные с землей ее подворья. Да и другие деревни, по которым проехал он в это утро, показались как бы незнакомыми: настолько они поредели.
В Орловке насчитал он двадцать с лишним домов, тут и магазин еще был. Увидев старика, выходившего оттуда с покупками, Степан соскочил с велосипеда.
– Хозяин, как на Чермошны проехать?
Старик не торопясь опустил в авоську буханку хлеба, связку баранок, взглянул на него слезящимися глазами и переспросил:
– Чермошны, говоришь? А ково тебе там, мил человек?
– Да уж кто бы там ни был, – уклонился, не выдавая тайны, Степан.
– Были Чермошны, да сплыли.
– Как так?
– А так-то, мил человек. Осталась там одна, живет-доживает, – усмехнулся старик. И, кашлянув, добавил: – Нормальный-то человек рази останется жить в чистом поле?
Степан хотел было открыться, что и он живет на таком же полозу, один среди поля, да воздержался: чего доброго, назовет таким же ненормальным.
Скоро открылась его глазам неглубокая лощина, по склонам которой тут и там торчали куртинками садовые деревца, пестрели бугорки кирпично-каменного щебня. Несколько разоренных, без крыш домов дополняли этот унылый вид. Поодаль на отлете стояла, будто пришибленная, небольшая избенка. До того она была приземиста и безобразна – с гнилой соломенной крышей, с дырявым закутком вместо двора, – что Степан только головой покачал. Низкая, углубленная в землю дверь, два крохотных окошка, полуразваленная труба ясно говорили, что без хозяина и дом сирота.
До-огорай, го-ори, моя лучи-и-нушка,
До-огорю-у с тобой и я-а-а… —
послышалось из черного зева распахнутой двери. От этой заунывной песни Степану сделалось не по себе.
– Хозяйка, а хозяйка! – крикнул он, не решаясь войти.
В проеме двери показалось сухонькое лицо, закутанное платком, затем раздался испуганный вскрик:
– Ай, хто там?
– Выйди, поговорить с тобою надобно.
Женщина с минуту колебалась, потом как-то боком, нерешительно выдвинулась в сенцы и подозрительно взглянула на незнакомца:
– А чей ты будешь-то, не видала такого.
– Не грабить же я приехал, – успокоил ее Степан.
– А хто ж ее знаить, можа, и грабитель какой. Токмо грабить-то у меня нечево.
Женщина осмелела, ступила на порог. Оглядев ее мельком, Степан невольно поморщился. Видел он неопрятных, а такой не приходилось. Одета в ношеную-переношеную душегрейку, длинная юбка до самой земли, калоши повязаны цветными тесемками. Вроде нищенки-юродивой, что ходили когда-то по деревням. «Неужели такая ты бедная?» – едва не сорвалось у него с языка.
– Чей ты будешь-то? – заинтересовалась она, не заметив в приезжем ничего плохого: и одет прилично, и манера спокойная.
– Из Агаповых двориков я. Не знаешь такие?
– Можа, и знала, да забыла.
– Доброполье-то слыхала?
– Во, ишо бы не слыхать! Там-то и родня у меня была.
– Ну вот, теперича-то и мы туда притулились, всех в один колхоз.
– А зачем ты припожаловал-то сюда?
– А вот к тебе.
– Н-ну? – смутилась женщина. – Так-то и прямо к мине? Да кому уж я надобна, – махнула рукой отрешенно.
– Зови в дом-то, там и потолкуем.
Женщина замялась было, не зная что ответить, наконец решилась пригласить.
– Как величать-то тебя? – спросил он для приличия. – Варварой, говоришь? Ну ладно, стал быть. Так и живешь ты одна?
– Тах-то и живу.
– А сыновья, дочери где же? – полюбопытствовал Степан.
– И-и, нашел ково спросить! Трое было, да все помёрли.
– Как же ты одна-то… не боишься?
– А кому-то я надобна? Взять у меня нету ничевошеньки, козочка одна с овечкой да кошка старая-престарая.
– А ты бы в деревню-то переехала. В Орловку, например. Все повеселее там жить.
– Пределил было колхоз хватеру-то мине. Да ну ее к лихоманке, авось недалеко до Орловки-то, с версту всего. Ноги ходют покедова – вот и живу, а сведет корючкой – отвезут куда следно.
– Да тут и помрешь – никто не узнает.
Слушал он непонятную женщину, сравнивая ее с другими, и невесело кривил губами. Но то, из-за чего приехал сюда, все-таки вырвалось само собой:
– А ежли нашелся бы человек – пошла бы за него, а?
Варвара усмехнулась, опустив глаза:
– Сватать ты приехал, с одново узгляду догадалась. Токмо нихто уж мине не надобен. Семой десяток ить пошел. Какие тут, на старости, сватушки…
«И правда как ненормальная», – подумал Степан, припомнив слова старика. Не понравилась она ему неряшливым видом, просто так спросил. Да и стара для него. «Совсем неспособно, ежели баба старее мужика. Бабе по дому хозяевать, а она будет охи да ахи, – какая уж из такой-то хозяйка!»
Недолго мешкая, он простился и поехал назад, жалея потерянное попусту время, досадуя и на эту чудную бабочку и на тетку Настасью, которая не разузнала, видать, как следно, что за женщина, или подшутил просто кто-то над нею…
Летом в Агаповых двориках гуляй-раздолье. В буйном росте молодые хлеба и травы, куда ни кинуть взгляд – все зелень и зелень. Ходят волны по ржаному полю, зыбью плещутся бархатные ворсы овса и пшеницы. А с ближних лугов, окропленных цветением разнотравья, доносит тонким медвяным настоем.
На ранних зорях объята земля родниковой прохладой, жадно упивается росами. В полдни становится жарко, хотя кругом разливанное море зелени, от которой веет дыханием свежести. А как опустится солнце за дальние холмы – снова пахнет с лугов прохладой, вечерней росой. И тогда под старыми развилками лозин, на сухом пригорке собираются гуртом колхозные телята, подталкивают друг друга, облюбовывая каждый себе место, и, устало подбирая ноги, с шумным и глубоким выдохом валятся на теплую, нагретую за день землю.
Наступает царство никем не нарушаемого сна. Не спится в Агаповых двориках одному Степану. Не раз обойдет он колхозных телят, приглядывая, как бы чего не случилось. И как только светает, принимается жвыкать бруском по лезвию косы. Спешит, спешит управиться до солнцегрева: коси, коса, пока роса. Дал он слово председателю: все межи и гривки, все пригорки и подворья окосить, чтобы не гуляли сорняки по полям. Пусть знают люди, что без пользы Степан Агапов не жил и жить не будет. Даже в покинутых всеми двориках, один среди поля.
Умаявшись, начинает хлопотать по дому. Первым делом берется за дойку. Циркают, шипят в подойнике молочные струи. Мычит на привязи телок, ожидая пойла. И вдруг бросается с хриплым лаем Дикарь, того гляди сорвется.
Хозяин уже знает, кому он понадобился. Не оборачиваясь из-под коровы, сердито замечает:
– Вот жисть-то пришла, а? Мужик корову доит, а бабе молока давай.
– Такая уж, видать, судьба-то наша, – отзывается Прасковья Куракина, старуха в очках, телом пышная и сытая, а здоровьем никуда.
– Не судьба, а баловство, – поправляет ее Степан. – Жили бы да жили себе на старом-то месте. А то ишь чего захотели… город им нужен, удобствия подавай…
Одна рука Прасковьи мелко трясется, другой она поддерживает литровую банку с молоком и, сутулясь от этих слов, уходит по направлению к своей, заросшей одичалым вишенником, избе.
Усмехается Степан, провожая ее беглым взглядом. Чудно, как жизнь меняется! Бросают люди скотину, бросают и дома целиком – в город их тянет. А как подходит лето – так в деревню. Вроде дачников. И хоть Прасковье на восьмой десяток, где уж ей дом содержать, а молодые-то, молодые что делают! Взять того же Ванюшку Куракина. Вернулся с войны вместе с ним, ему бы не остаться в колхозе родном? Ан нет, в город потянуло. Ну, а с таких, как Прасковья, взятки гладки: куда сынки с дочками, туда и они.
Приезжают на лето в пустые свои избы и Агафья Чубарова, и Катерина Лобанова с внучатами – отдыхать на зеленом приволье. Копаются, как куры, в огородцах перед окнами да на загонах с картошкой, – благо, не отбирает колхоз бывшие усадьбы. Да не в усадьбах дело, не жалко там пятнадцать соток, если люди заслужили их прежней работой. Жалко Степану, как улетучиваются по осени «дачники» – вроде птиц перелетных. «Жили бы да жили себе зиму-то, – осуждает он их. – А то ить в город тянутся, где полегче прожить…»
Быстро катится лето, только считай суетные деньки. По времени длинные они, по делу – короткие. Степану в эту пору и вздохнуть некогда: одного сена сколько надо наготовить. А там картошка бурьяном зарастает. Ох-ох, сколько дел-заботушек!..
За все лето Степан только и поработал с мужиками недели полторы: то клевер поблизости скирдовал, то солому. И хотя сторожил он по ночам телят и плату за это получал сносную, однако неловко ему было перед людьми за оторванность от настоящих крестьянских дел. Иногда и руки у него опускались, не хотелось даже в избу заходить. Но, опомнясь, снова накидывался на беспросветные дела.
Больно было видеть, как погибало добро в саду. Вишни краснели такой облепихой, что ветки гнулись до самой земли. Был бы в доме лишний человек, можно бы собрать ее да на базар. Но как тут отойти, отъехать хозяину: прикован, как цепями железными, к домашней заводиловке. Варил, варил эту вишню в сахаре, все банки позаполнил да бросил с досады – черт ее не переварит, такую массу.
А там и яблоки поспели, валом повалили. Как нарочно, такие уродились осыпучие – хоть машину подгоняй, вся земля усеяна бело-розовыми мячиками. Резал, резал на сушку, измучился и бросил. Наберет три-четыре ведра, швырнет корове, поросенку – лопайте, коли так!
– Хоть бы сынок-то приехал, – бормотал Степан, посматривая на яблони, сплошь увешанные румяными гирями. – Пропадает добро-то. На кой только дьявол сажал я вас, старался?..
Не успел оглянуться, как и лету конец, время картошку копать. Да легко ли одному-то, до белых мух не управиться.
– Ех, мать твою бог любил, богородица ревновала, – крякнул он с досады и взялся однажды, когда загнал его в дом холодный и долгий по-осеннему дождь, за письмо сыну: авось приедет да поможет картошку выбрать…
«Здравствуйте и благоденствуйте, дорогой мой сыночек Славик, дорогая сношенька Ниночка, какову я за дочку родную считаю, а также дорогие мои ненаглядные внучки Саничка и Таничка. Во первых строках свово письма всем я вам ниско кланиюсь, а также и от кумы Нюши, вашей хресной и от тетки Настасьи. И кланиются вам все наши распоследние жители, каковых вы знали и теперича живут у нас, поживают навроде дачников.
Разрешите теперича коснутца и отписать про все мои житейские бытовые вопросы, и как живу при своем бобыльем хрестьянском труде.
Огурцы и помидоры и всякие протчие овощи при моем огороди цвели дружно, только огурцы имели сильный пустоцвет. А ишо много их склевали куры. Капуста тоже хорошая. Сичас все мои силы переброшены на картошник. С овощей траву, осот и протчий бурьян два раза вытяпывал, дергал и всеж таки кой как сничтожил. А картошннк упустил несколько, один раз только при моей покалеченной ноге удалось пропахать. Теперича руками травишшу дергаю, совсем она заглушила ботовку, полозию на карячках. И попросить некова на нонешный день, остатные дачники сами на своих огородах траву рвут и тяпают по безумному, как огнем выжигают.
Только я один во все дырки, никак без помощи одному неспособно. Тут и траву тибе полоть, и борову крапиву рвать, и за скотиной присматривать, и корову, доить. Одним словом верчусь навроде волчка.
Колхоз наш, поговаривают, идет прямо в гору. Планы за полгода по всем статьям навроде выполнили и перевыполнили. Виды на урожай дюже завидные…
А теперича, мой дорогой сынок Славик, и также моя дорогая сношенька Ниночка, отпишу я вам самую главную мою прозьбу, черезо што и взялся я ноне за письмецо.
Самый больной у мине вопрос на нонешный день, ето яблоки в саду. Спасу нету, сколь их нонче уродилося, одному невмоготу, гибнет доброе добро. Приезжайте вы вдвоем либо ты, дорогой сынок. Одному мине совсем не способно, хоть разорвися.
А ишо чудок не позабыл. Попрошу тибе Славик, прислать или привесть ежели сам приедешь, батарейки на радивоприемник, а то он хрипит как петушок молоденький на пробе голоса, боюся совсем замолкнет.
На этом кончаю. И желаю вам доброва здравия при вашем труде производственном, равносильно вашей бытовой и семейной жизни.
Жду ответа, а ишо лутче всех вас в гости.
Остаюсь ко сему ваш родитель
Степан Семеныч Агапов».
– Ех, мать твою бог любил, – бормотнул он, закруглив письмо и вытирая взмокревший лоб. – Хорошо, ежели сынок приедет, а то хоть бросай весь дом. Охо-хо-хо, сколько так мучиться-то ишо придется?