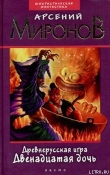Текст книги "Высокая макуша. Степан Агапов. Оборванная песня"
Автор книги: Алексей Корнеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
– Вот как шуранули-то, – говорил отчим, махая кнутовищем на вражескую технику. – Говорят, от самой Москвы без оглядки чесали, аж до Белева докатились. Верст триста небось промчались. Если дальше так побегут, пожалуй, и воевать недолго придется.
Сбоку заметно мне было, как улыбался отчим, видно, довольный. Да и как тут не радоваться, если турнули оккупантов, будто мусор вымели метелкой.
Впереди зачернелась железная махина с торчавшим набок стволом. Подъехав поближе, мы поняли, что это немецкий танк. Свихнувшись одною гусеницей в кювет, он стоял, задрав пушку с откинутым наотмашь люком, весь почти обгорел, только свастика вырисовывалась сбоку. Даже недвижимый, он казался таким грозным, что невольно холодела кровь: вдруг да рванет сейчас на наши сани, что от нас останется?
Так мы и ехали прямым широким большаком, притоптанным, прикатанным двумя армиями, тысячами ног и машин. И всю дорогу глазели, удивленные, то на разбитые немецкие машины или пушки, то на наших бойцов в белых дубленых полушубках, которые обгоняли нас на конях или на машинах. А Казанок знай бежал по обочине дороги, вовремя увертываясь от машин, и только на подъемах переходил на шаг. Уплывали назад белые холодные поля, подернутые серой дымкой, попадались на пути не частые деревни. За Житовом, после долгого поля, проехали Солову и Карамышево, разделенные речкой, потом опять потянулись долгие холмы, подъемы и спуски. А когда проехали длинное село Лапотково и стало смеркаться, отчим пожалел, что не остановился на ночлег: провозился, мол, с этой девчонкой (про Клавку вспомнил), а теперь и до Плавска не доедешь. В следующую деревню – Лукино мы въехали уже в потемках, остановились перед одним домом, перед другим. Наконец пустили люди добрые переночевать. Тут первый раз после завтрака поели мы хозяйской картошки со своим хлебом, привезенным из деревни отчимом, даже и чаю попили без сахара. После долгой и холодной дороги спали в тепле, на соломенной постели как убитые. А утром чуть свет – опять дорога, поля по сторонам, подъемы и спуски.
Наконец с большого холма открылся вид на Плавск, на наш районный центр. О, как изменился он, чернея тут и там сгоревшими домами, каким обезображенным казался после немцев!
Мы спустились под гору, проехали уцелевший мост над железной дорогой, большак обратился в широкую улицу, обставленную справа деревянными одноэтажными домиками, и отчим кивнул налево, на двухэтажный дом из красного кирпича с темными глазницами вместо окон: вот, мол, как немцы похозяйничали. А проехав мост через речку и миновав торговые ряды, отчим снова кивнул на горку, где возвышалась церковь с выбитыми окнами:
– Вот где погибло-то нашего брата.
И принялся рассказывать, как согнали сюда немцы наших пленных, окруженцев и всех, кого хватали как партизан и коммунистов, – битком набили церковь, больной ты или раненый – всех без разбору. Там же и спали люди, стоя и сидя на каменном полу, там и умирали от голода и холода, от ран и болезней. Кидали им городские жители хлеб и картошку через окна, да где тут – немцы отгоняли. А как отступать собрались, так угнали куда-то всех, может, в Германию. Нашли потом в сарае за школой мороженые трупы наших людей и догадались: по ночам немцы вывозили мертвых из церкви да складывали, как дрова, в сарае.
Мы смотрели на церковь, не отрывая глаз от черных окон, и что-то угрюмое и скорбное было в их зияющей пустоте, в обшарпанных, оббитых пулями стенах. Мать только вздыхала да крестилась.
В Плавске покормили немного Казанка и тронулись дальше. Как только миновали пустынное голое поле, так показались на косогорах по-над речкой длинные порядки Синявина. Раньше это село песнями славилось, а теперь другая к нему слава пришла: здесь родился Борис Сафонов, летчик-герой, про которого писали в газете. Веселее пойдет теперь наша дорога, все деревнями вдоль речки, – помню, проезжал я их с дедушкой, по пути на плавский базар.
Чем ближе подъезжали мы к своей деревне, тем неспокойнее становилась мать, все чаще вздыхала, обращаясь к отчиму:
– Куда вот мы притулимся, перед кем теперь преклониться?
– Ладно, – побалтывал тот кнутом, – зиму отживем как-нибудь, а весной посмотрим.
– А зиму-то у кого прожить? – спрашивала мать со стоном.
– Говорил я с Машей Черниковой, согласна она вроде.
– К Черниковой! – охнула мать. – Да у нее изба-то – повернуться негде.
– А где же теперь останавливаться? – спрашивал отчим. И снова пересчитывал, сколько жильцов в таком-то доме, сколько в другом и третьем. – У соседа Василь Павлыча, сама знаешь, Варька живет с пятерыми ребятами да самих двое.
– Куда уж к ним, в такой корогод.
– Ну вот, я и говорю… У Чумаковых тоже… Полька с девчонкой, Андрей, а там Паша с Колей приехали, троих ребят привезли. Да Дунька на сносях…
– И вовсе орава.
– Я и говорю. К кому родня понаехала, у кого эвакуированные остановились. Была одна изба свободная – помнишь, Чумакова Тимофея Иваныча? Там тоже эвакуированные поселились. У Луканина стоят, у Соньки Грунчевой, у Глуховой Олечки… Куда ни кинь… Зиму-то придется помучиться, кто примет, у того и поживем. Перебьемся авось.
По натуре своей отчим был из тех, кто живет по пословице: будет день – и будет пища. И я, поддавшись его беззаботности, ехал в деревню с надеждой: кто-нибудь да примет нас по-свойски, теперь-то, когда немцев прогнали, небось не пропадем…
В деревню мы приехали, когда уже стемнело. Остановились возле избы с темными окнами (везде сейчас светомаскировка), и мать принялась нас раскутывать, а отчим – распрягать лошадь. В избе, полутемной от слабой коптюшки, на нас любопытно уставились Черниковы ребята: старшие Митька да Нюшка и Шурка – моложе меня. Но мы для них не новички – свои же деревенские.
Тетя Маша, хозяйка дома, встретила нас попросту: что в столе – то на стол. Наварила картошки полон чугун, хлеба полковриги отрезала: «Лупите, ребят, наголодались в Огаревке-то своей». Мы и правда наголодались: весь день, пока ехали в деревню, ни крошки во рту.
Стол окружили так, что, казалось, затрещит он сейчас – хорошо, что доски толстые. На конике, как хозяева, сидели Митька, Нюшка и Шурка, а мы примостились кто на лавке, кто на доске, положив один конец ее на табуретку, а другой на коник. Нечего сказать, хороша теперь у тети Маши семейка: у нее четверо да нас шестеро, не считая Коли-крикуна (к счастью, успокоился он, как в избу вошли – отогрелся, видать).
Рядом с коником стояла дежка с квасом. Кислый уже, не молодой, налитый девятой водой. Но все-таки квас, а не водица, и мы прихлебывали им «за мое почтение».
– Ешьте, ешьте доволя, – подбадривала нас тетя Маша. – Картох-то до весны, может, хватит. Хлебушка вот только не густо, хлебушек придется экономить.
Мать спохватилась, видя, как вылезаем мы из-за стола, не поблагодарив хозяйку:
– Ой-ё-ёй, не стыдно ли вам – забыли спасибо сказать!
Я поспешно исправил оплошку, а Шурка с Мишкой, не привыкшие обедать за чужим столом, угнулись, пристыженные, да так и вышли, не промолвив ни слова.
– Ладно, ладно тебе, сама такой не была? – оправдала нас тетя Маша. И рассмеялась: – Спасибо, спасибо, возьми да посигай. Правда, ребятки?
Изба у тети Маши тесная, приземистая, стены давно уж не белены, печка закоптилась, пол земляной, а под черным потолком, подвешенная к матице, тускло светила похожая на лампадку коптюшка.
– Керосин-то давно уж кончился, – кивнула на нее тетя Маша. – Бензином вот заливаю, раздобыла малость. Да боюсь, кабы не полыхнул, сатана, сольцы в него подсыпаю. И соли-то нету, вот беда.
Поговорив недолго после ужина, мы догадливо приготовились «экономить», то есть спать. Хозяйка с ребятами заняла печку, а нам предоставила место на полу, на свежей, так и опахнувшей зимним холодом, соломе. Но скоро солома согрелась, и мы улеглись рядком на дерюге, накрывшись всем, что было у нас и что дала из своей одежки тетя Маша.
– Тесно не тесно, а живи – хоть тресни, – успокоила нас тетя Маша на сон грядущий.
26 декабря.Утром Митька позвал меня смотреть место, где немцы бросили свою машину с трофеями. Я готов был выскочить за ним хоть раздетым, едва выпросил у отчима телогрейку. Зашли к соседу Федору Филимонову, по-уличному Настенькиному, к нам привязался младший брат его Мишка, потом ровесники мои Ванька Тимофеев да Ванька Вузов. Дорогой они рассказывали, как немцы отступали из нашей деревни, без передышки погнали их за Полево, за Дуброво и Муравлевку. Так погнали, что из Дуброва немцы боеприпасы не успели вывезти, взорвали вместе с машиной. И только где-то за Холмами попробовали они обороняться, постреляли-постреляли да снова дай бог ноги.
На Грунчевом переезде мы перескочили по камням на другую сторону, и Митька показал на топкое место, где сливались два ручья – Муравлевский да Полевский.
– Вот тут у них машина застряла. Ехали они в Полево, хотели перескочить, да хоп – и сели. А тут и наши, подошли. Зажгли немцы машину да тягу скорей. Подбежали мы, смотрим – в огне все горит, а немцы издали по нас стреляют. Как только не застрелили? Потом, когда уже скрылись, потушили огонь, да уж мало там что осталось.
Митька и Федор видели все это своими глазами, наперебой рассказывали, что было в той машине. И ботинки новые, и одеяла, лопаты саперные, банки с консервами, печенье – словом, всякого товару. И наше добро награбленное, и немецкое.
Слушая их, я пригляделся к воде и заметил на дне ручья светло-желтый брусочек.
– Ребят, а что-то вон там?
– Где? – присмотрелся Митька и толкнул зачем-то под бок Федора, перемигнулся с другими.
– Мыло, наверно, – подсказал Федор.
– Мыло, мыло немецкое! – хором воскликнули ребята.
– Доставай скорее, – подтолкнул меня Митька.
– А как?
– Раздевайся да в воду.
– Это зимой-то?
– Подумаешь, зимой! Зато с мылом будешь. Мыло-то сейчас дороже золота.
Я и без него знал цену мыла, которое кончилось с началом войны. За кусок-то мыла можно выменять ковригу хлеба. Сообразив так, я храбро скинул с себя телогрейку, валенки, засучил штаны и рукава рубашки. Зябко передернувшись, ступил в обжигающую холодом воду, еще шаг, еще… Нагнулся и – цап за брусок, будто рыбу схватил. Он и правда, как рыба, выскользнул из рук и в воду. Я снова сунулся обеими руками, схватил, замерев от леденящей воды, и пулей выскочил на берег.
– Растирайся скорее, шарфом-то, – скомандовал Митька. – Насухо, насухо, а то обледенеешь.
Я уже не попадал зуб на зуб, прыгая по-заячьи на снегу, впопыхах растирал руки, ноги, все тело.
– Беги скорей домой, согреешься дорогой, – посоветовал Митька. – Да, мыло-то в карман положь, мать спасибо скажет.
Я пустился во весь дух, едва не сорвался с камней на переезде. И тут позади меня грянул дружный хохот. Я обернулся, не понимая, в чем дело, а ребята за животы хватаются да пальцами в мою сторону тычут.
– М-мыло пп-по-нес!
– Ох-ха-ха!
– Хо-хо-хо!
– Нарошно ему, а он-то…
– Ха-ха-ха-ха!
– Ладно, вернися! – крикнул Митька сквозь смех. – Не мыло это, а тол, тол! Взрывчатка такая, понял!
Потом мы побежали смотреть немцев, убитых на Зоринке, под Илюшкиным домом и в Ушакове.
Страшно было взглянуть только на первого немца. Он лежал на зоринской канаве, где летом, в покосную пору, краснела земляника, а в кустах распевали птицы. Сейчас тут белым-бело от снега, и он лежал, обдуваемый морозным ветром, с косицей сугроба под правым боком. Пулемет его взяли наши бойцы в то же утро, когда он был убит, и теперь немец свободно раскинул руки, из рукавов его торчали распухшие пальцы, страшно синее лицо также безобразно распухло, от губ до подбородка и ниже, за ворот шинели протянулась ярко-рыжая полоска. Лежал он навзничь, обратясь к свинцово-холодному небу, раскрытым ртом будто просил его засыпать, но метель так и оставила его открытым, словно в наказание, чтобы все его видели: люди, собаки, пролетающие над ним вороны. Жутковато было смотреть на этого, теперь уже не страшного немца, и в то же время что-то удерживало меня возле него, хотелось запомнить недавнего врага.
Из крайней избы вышла бабка Ефимья – Хохлушка, как называли ее за глаза. Посмотрела на нас и упрекнула:
– Все-то вы смотрите, а что его смотреть? Взяли бы да стащили вон к речке.
Я только хмыкнул, подернув плечами, а бабка подошла поближе и закачала головой, обращаясь к убитому:
– И откель тебя принесло, окаянного, земли, что ли, своей не хватило? Небось и мать там старуху оставил, и хозяйку с детками…
Не выдержав бабкиных упреков-причитаний, я сорвался с места и побежал за ребятами.
– Да стяните его к речке-то, стяните! – кричала она вслед.
В Ушакове немца кто-то уже сволок с огорода на лед, и он лежал скрюченный, сухонький. Когда ребята, кто посмелее, стали подталкивать его на середину, зазвенел он, словно мороженая кочерыжка, легко покатился по льду. Увидев наши проделки, взрослые покричали на нас: что вы там, дескать, над убитым изгаляетесь?
– А фашисты-то издевались над нашими? – откликнулся Митька.
– То фашисты, а вам, ребятки, не к лицу издевательства. Катаетесь себе – и катайтесь.
– А вы бы закопали его, что же он торчит на глазах? – упрекнул в свою очередь Митька.
– Половодье все приберет, – отозвался мужик.
Семь убитых немцев насчитали мы поблизости от своей деревни. Так и лежали они, никому не нужные и неприбранные, всеми проклятые и забытые. Знают ли об этом там, у них на родине?..
27 декабря.Пошел сегодня к тете Варе Гавриловой. Давно мы не виделись – с того дня, как ехали в одном поезде из Москвы.
Изба Василия Павлыча, ее отчима, стоит рядом с нашей. Только от нашей остались стены кирпичные с дырами вместо окон. Ни крыши, ни потолка, ни даже сенцев с двором: разобрали все, как в песне поется, по винтику, по кирпичику. Никто не думал, что хозяева вернутся. Знали бы, что заваруха такая начнется, – лучше бы совсем не уезжали. Где теперь жить?
– Кого я вижу-то! – послышался знакомый звонкий голос.
Обернулся – Маруська стоит на пороге. Платком по-зимнему укутана, в теплом пальто и валенках, совсем не похожа на ту, московскую принцессу – тоненькую, воздушную, как стрекоза. Только лицом все так же беленькая да веселая по-прежнему.
– Заходи, что стоишь-то на пороге? – подошла она ко мне и бесцеремонно потянула за рукав.
– Да вот, избу смотрю свою…
– А что ее смотреть, одни стены… Вы где остановились, у Черниковых? Я слышала. А мы вот у бабушки с дедушкой… Заходи же, погреешься, да кататься пойдем…
В полутемной от двух заиндевелых окон избе я не сразу различил барахтавшихся на соломе Витьку и Вовку с Колей, а сначала обратил внимание на бабушку Катю, хозяйку дома, да тетю Варю, которые сидели за столом и чистили вареную картошку.
– Кто пришел-то к нам! – воскликнула, увидев меня, тетя Варя. – Мам, посмотри-ка, – повернулась она к бабушке, – московский-огаревский явился!
Вскочили с соломы и Витька с Вовкой и Колей, смотрели на меня, будто с того света вернулся.
– Ну, и как там, в Огаревке, наголодались, поди? – принялась тетя Варя расспрашивать. – Ну да, кто же там вас накормит. Ни скотины своей, ни огорода, чистый пролетарий. Так-то и мы подумали, когда война началась – что там, в Москве-то, голодать с такой оравой? Так и остались в деревне, живем да хлеб с картошкой жуем. И на этом спасибо. Хоть немца-то прогнали, а то не жили, а смерти со дня на день ждали.
Я спросил, что слышно про Горку, где он воюет, и тега Варя потемнела лицом, проговорила со вздохом:
– А кто же его знает. Как получили последнее письмо под ильин день, откуда-то из-под Смоленска, так ни слуху ни духу от него. Может, в плен попал, а может, и голову сложил, – и тетя Варя взялась за кончик платка, провела по глазам. – Такое теперь время-то смутное, не поймешь, кто жив, а кто погиб. Все на свете перепуталось…
Тетя Варя спохватилась, протянула мне хлеба кусок, подвинула чашку с картошкой:
– Поешь, поешь, небось ить не завтракал? Корова-то не отелилась, а то бы молочка кружку… – И посочувствовала: – Да-а, туго вам придется без своего-то дома. Мы хоть у своих, под крышей да в тепле. А вам придется потерпеть…
Поговорили еще недолго, и Маруська с Витькой потянули меня на улицу, оставив захныкавшего Вовку: мал еще за нами тягаться. Мы сбежали с бугра к ручью, и тут, у знакомого колодезя с кадкой вместо сруба, я невольно остановился. Сколько раз, бывало, в летнюю жару прибегал сюда, чтобы напиться студеной воды, посидеть в тени высоких лозин или яблоню потрясти, черемухи спелой отведать, от которой во рту делалось сухо и вязко, а язык и зубы становились черно-фиолетовыми. Но яблонь стало наполовину меньше – поспилили, когда побило их в позапрошлую зиму сорокаградусным морозом. А лозины целы и черемуха вон стоит. Перепрыгнув узенький, занесенный снегом ручей, я выскакиваю на крутой бугор и, забыв обо всем, восторженно, до замирания в груди, оглядываю с высоты деревню.
Выше избы Василь Павлыча и нашей усадьбы – дом Бугорских с яблонями сбоку, с высоченной березой, у которой молнией опалило макушку. Правее – Чумаков дом с амбаром против окон. За Бугорскими дальше – амбар колхозный, потом Кузнецовы, Черниковы, двое Филимоновых – тетя Настя с Семеном да Матрена с Тихоном, пониже их, под одну крышу – Барановы с тетей Настей Антиповой, затем самый большой, под железо Федосеев дом, Тимофеевы, Бузовы – и деревне конец. А через речку по всему бугру – Арсеньево тянется. Раз, два, три, четыре… восемнадцать домов. Да Зоринка позади меня за бугром – осколок от нашей деревни. Все кругом знакомо, все свое, родное. А главное, немцев теперь нет, ходи везде, в любое время – никто тебя не тронет. Может, летом до самой Германии его догонят, и тогда все станет на свое место, и поеду я к дедушке с крестной – доучиваться в школе.
С этой мыслью я сажусь на санки, позади меня Маруська с Витькой, и мы летим под бугор с самой кручи, задыхаясь от ветра и снега… Вволю накатавшись, все перемокшие от снега, возвращаемся мы домой, я машинально следую за двоюродными в избу и тут только опоминаюсь. На столе стоит чашка румяной, засушенной в печке картошки, бабушка Катя наливает щи, от которых несет мясным горячим духом, тетя Варя выкладывает ложки из стола, сам хозяин Василь Павлыч, худощавый и шустрый старик, режет длинные ломти от ковриги. Я отступил было к двери, но хозяева стали сажать меня за стол.
– Да что ты боишься-то? – уговаривала тетя Варя. – Не к чужим авось попал, дают – бери, бьют – беги.
– Стой не стой, за постой не платят, – поддержал их Василь Павлыч.
Я и сгораю, чувствую, как жар бросается в лицо, и не могу открыть дверь, чтобы броситься на улицу; ноги мои онемели, глаза смотрят в пол, от уманчивых щей сглатываю слюнки. Наконец, притянутый тетей Варей, сажусь на уголок скамейки. Ем я через час по чайной ложке, боясь показать себя голодным, мяса, растертого на ниточки, стараюсь не брать. Крохотного куска хлеба хватает мне на щи и на картошку.
– Да что ж ты так, еле-еле, – потчует тетя Варя. – И работать будешь так же. Ешь, ешь картошку-то, не стесняйся. Съели бы огурчика, да немцы отобрали. Как зашли в подвал, увидали, так и сволокли вместе с кадкой. Как уж мы их уговаривали оставить хоть немножко, да где там, только винтовками трясут.
– Как бы счас с огурчиком-то солененьким, – вздохнула бабушка Катя. – А то ить и соли-то теперь не стало, посолить нечем.
А я и не заметил, что щи недосоленные – очень уж вкусными показались они мне, сдобренные свининой (как и все деревенские, Василь Павлыч догадался зарезать обоих поросят – как бы немцы не забрали). Заморил червячка, показывая, что наелся досыта. А все-таки хуже нет сидеть за чужим столом и думать, что на тебя посматривают, как на голодного. Может, и попросту кормят тебя хозяева, а все равно краснеешь: чужое ешь-то, не свое!..
29 декабря.Так и началась наша новая жизнь в деревне. Мы жили среди своих, а в душе все-таки мучились, стыдились своей бедности. Оказывается, когда нет у тебя ничего за душой, кроме «спасибо», то нерадостно становится и среди своих. Ну как это, к примеру, доедать чужой хлеб с картошкой, если и хозяевам вот-вот не хватит. Тем более что тетя Маша коровы своей не имела, и жила она хуже всех деревенских. Это просто добрая она, а другая, может, не приняла бы нас. И потому наша мать ходила как виноватая, все недоедала, а если и приносили нам соседи хлеба отрезок, кружку молока или чашку капусты, то не знала, как их благодарить.
Родни у нас было вроде немало – в четырех домах. По матери – это Гавриловы и Чумаковы, по отцу моему покойному – Барановы, по отчиму – Кузнецовы. Самой близкой родней для меня была бабушка Улита, мать моего отца. Приехав из Москвы с двумя внуками, она сама сидела на чужом хлебе у Барановых. Правда, Барановы ей не чужие: хозяин Иван Васильевич доводится братом ее мужа, моего деда, погибшего в первую мировую войну. К тому же когда-то они жили одним домом. Но и к Барановым тоже приехали маленькие внуки, и жить в одной избе с такой ребятней – какого тут ждать добра?
Сначала я заходил к Барановым, и бабушка Улита тайком от хозяйки дома совала мне в пазуху лепешку или хлеба кусок. Я неловко запахивался, стараясь подальше упрятать гостинец, и выходил из избы, как бы ожидая удара в спину: вдруг увидит сама хозяйка. Попав к ним однажды под обед, я невольно позавидовал. Барановы были хозяева строгие, расчетливые и жили с припасом. Щи мясные, картошка со сметаной, каждому по кружке молока да хлеба по увесистому куску.
– Ты в еде-то не стесняйся, еда – не грех, – советовала мне бабушка Улита.
У меня и было такое желание – наесться хоть раз досыта. Но, заметив, как бабушка Улита сама робко прикасается к еде, я вспомнил потайные ее гостинцы, и у меня пропал весь аппетит. С того разу я уж старался не попадать под чужой обед.