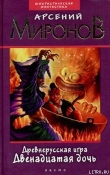Текст книги "Высокая макуша. Степан Агапов. Оборванная песня"
Автор книги: Алексей Корнеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Год 1942-й

1 января.«Пожар, гори-им!» – закричала тетя Маша не своим голосом.
Мы вскочили, перепуганные криком, огнем и дымом: солома под нами горит, потолок полыхает, тетя Маша с матерью бегают по избе, не знают, за что ухватиться. Митька, Нюшка и Шурка, спавшие на печке, кубарем оттуда слетели, так и выскочили раздетыми в сенцы. (Как нарочно, и отчима не было – уехал в Огаревку за остатками наших вещей.) Не знаю, что надоумило меня в эту минуту – наверно, помогли газеты и книжки, которых я в Огаревке начитался: как от бомбежки спасаться, как тушить немецкие фугаски и всякие пожары. Схватил я одеяло, дерюжку – накрыл ими огонь, и заглохло пламя внизу. А потом и с потолка давай сбивать, тоже затушил. Валом хлынул дым в распахнутые настежь двери на улицу, мало-помалу очухались все, откашлялись. Только тетя Маша стонала, причитая:
– Ох, матушки, што ж я натворила! Чуть не сгорели, чуть не сгорели! Ох, руку-то сожгла!
– Будешь знать! – укорял ее Митька. – Говорил тебе про бензин, говорил, опасайся.
И правильно поругивал он мать: чего было проще – посветить бы издали, да заливай себе подальше от огня. Спохватилась тетя Маша, давай тереть сырую картошку да к руке прикладывать. Потом к соседям побежала за маслом коровьим – больное место помазать…
Так и сидели мы в потемках в простуженной, пропахшей дымом избе. На рассвете только решилась моя мать затопить печку, не зажигая лампы. А тетя Маша все охала да стонала, побалтывая обожженной рукой.
– Стал быть, весь год будет у нас такой тяжелый, – обреченно заметила она.
– А кто виноват, кто? – атаковал ее Митька.
– Дак я сольцы в него посыпала, думала…
– Делать надо как положено, а ты все думаешь.
Какой тут новогодний день, какая тут елка! Да и без этого случая не думали мы справлять Новый год. Муки у тети Маши осталось на одни хлебушки, и Митька все собирался на мельницу в Чадаево, да что-то неисправно там после немцев.
Съели мы в этот день по малому кусочку хлеба, даже и квасу не попробовали – тетя Маша весь опрокинула в огонь. Только и нажимали на постную похлебку да на капусту с сухими картошками.
А к вечеру приехал отчим из Огаревки, привез сундук, кадку пустую из-под капусты да кое-что из летней обувки, одежки. Койки, дрова и санки кому-то там оставил, ключи от квартиры ЖКО передал. А ботинки мои новые, какие крестная подарила, потерял, говорит. Не знаю теперь, в чем буду летом ходить.
3 января.Голод не тетка, не просил – да научишься. Собрался я с Андреем Чумаковым, своим ровесником, походить «с протянутой рукой» по деревням. Позорное это прозвище – побирушка, но и без хлеба не проживешь. А чтобы не стыдно было перед своими деревенскими, решили мы в чужую деревню идти, где нас не знают. Андрею нашли сумку холщовую с тесемкой – через плечо носить. А мне дали наволочку, в которую вместилось бы не меньше пуда.
За полтора года, пока я не был в деревне, Андрей немного подрос, но не настолько, чтобы обогнать меня. А похудел еще больше, лицо у него сузилось, щеки втянулись, а конопушек по лицу – как проса насеяно. Одетый в длинное материно пальто, в затасканной шапчонке с полуоторванными ушами, вид он имел такой, при котором всякий бы, наверное, посочувствовал. И я под стать ему оделся не лучше. Валенки на мне – латка на латке, старая телогрейка бечевкой подпоясана – теплее чтобы было, матерчатая шапка ношена-переношена. Вспомнил вдруг: вот бы глянули на меня крестная с дедушкой…
Из дома мы вышли чуть свет, чтобы не видели свои деревенские. Миновав заснеженный «барский» сад, остановились перед крайней избой Матросихи, откуда начиналось Полево, и затоптались у двери. Были еще сумерки, и виделось нам в окне, как поплясывали там, внутри избы, желтые отблески – топилась печь. Самое сейчас время зайти да испытать свое счастье. Но все-таки боязно решиться на первый постыдный шаг. Узнает нас тетка Матросиха или нет, подаст нам хлеба или с богом проводит, не то к черту пошлет? Давно как-то заходил я в этот дом, когда еще молоко носил на слив, – зазвали хозяйские ребята, Колька да Сашка. Небогато, заметил, жила вдовая Матросиха, у таких и просить-то стыдно. А вдруг проснутся Колька с Сашкой да узнают нас, вот опозоримся. С такими мыслями стояли мы перед порогом, уговариваясь – идти или нет.
– Так и говори: подайте, люди, Христа ради, – посоветовал мне вполголоса Андрей.
– В один голос надо, – поддакнул я ему, – да пожалобней, а то не поверят.
– А если спросят, чьи, откуда?
– Скажем – эвакуированные, из Мценска приехали.
– Во! – одобрил Андрей. – И что родных у нас нету, отцы на фронте, а матерей поразбомбило.
Мы шагнули к порогу и постучали в дверь – сперва руками, потом пятками. Для большей верности побарабанили также в заиндевелое окно. Скоро хлопнула избяная дверь и раздался изнутри, из сенец сердитый голос Матросихи:
– Кого там принесло чуть свет?
– Откройте, тетенька, это мы…
– Кто такие – мы?
– Икуи-ирные…
– Негде у меня, и так тесно, – откликнулась хозяйка, не открывая двери.
– Да нам бы хлебушка только, – попросил я жалобно.
– Голодные мы, теть, – поддержал меня Андрей.
– Ну, сщас, сщас, – сказала Матросиха и хлопнула дверью.
Переглянувшись, мы с нетерпением стали ждать, что она вынесет: хлеба кусок или еще что-нибудь?.. Щелкнул засов в двери, из сенец выглянула хмурая Матросиха с выбившимися из-под серой шали волосами, в распахнутой душегрейке. В одной руке у нее был с десяток вареных картошек в мундирах, а в другой – ломтик хлеба. При виде нас сердитость ее сменилась миролюбием, и она сочувственно спросила:
– Чьи же вы будете?
– Икуированные мы, тетенька, – заученно повторил Андрей.
– Так и ходите одни, без матерей?
– Разбомбило их у нас… немец разбомбил.
– Ох, сердешные, горе-то какое, – вздохнула Матросиха. – Ну, и куда же вы теперича?
– А по деревне пойдем.
– Ну пройдитесь, пройдитесь… А ночевать-то где будете?
– Кто пустит, там и заночуем.
– Ох, сиротушки вы сердешные, приняла бы я вас, да своих у меня хватит, с этими не знаю куда деться. Не взыщите, ребятушки, сама в большой нужде. – И Матросиха протянула нам подаяние: – Нате вот вам горяченьких, сварились только что… да хлебца маленько. Другие, может, больше подадут. Во-он туда зайдите, в крайную-то избу, – показала она через речку, на другую сторону Полева. – Вальщик там живет, хорошо живет. Может, и покормит он вас.
Мы сказали в один голос «спасибо» и в нерешительности остановились, не зная, куда направиться: обойти ли эту сторону, где было шесть или семь домов, или податься на другой, самый большой порядок Полева, который и за день, пожалуй, не обойдешь.
– А уж не пустят вас ночевать-то, ко мне приходите, потеснимся как-нито, – прокричала вслед нам Матросиха.
– Уф-ф, – облегченно выдохнул Андрей, – а я-то думал, ничего не даст. – И, оглядывая хлеб с картошкой, предложил: – А может, съедим по одной, пока горячие-то?
– Да-авай, – согласился я.
Мы чистили на ходу не остывшие еще картошки, грели ими руки и желудки свои грели, уписывая с аппетитом, забыв про соль. Из дома мы вышли натощак, и подаяние Матросихи подкрепило нас, прибавило нам смелости.
Матросихин бугор обежали быстро. Два дома, где залаяли на нас собаки, обошли стороной, а в трех нам подали по увесистому ломтю хлеба. Затем спустились под бугор и повернули обратно, чтобы начать обход другого порядка. Мы и без Матросихи знали, что в крайнем доме живет Валет, как прозвали его за то, что валял он валенки. К нему ходили и наши деревенские, упрашивая свалять получше да поскорее, до зимних холодов. Но заказов у него было столько, что он не управлялся, хотя и жена помогала, так что приходилось еще бутылкой его задабривать. Жил он, как говорили знающие люди, «на большой с накрышкой», без мяса и без стопки обедать не садился, и мы надеялись, что если не посадят нас в этом доме за стол, так подадут хоть как следует, может, и ветчинки отрежут.
Собаки у Валета не было, дверь в сенцы открылась при первом же повороте щеколды, и мы вошли в избу. Так и хлынуло навстречу нам облако теплого пара, и в белом густом тумане не сразу мы различили, что творилось в доме у Валета. Лишь оглядевшись как следует, заметили: склонился сам хозяин над своей работой, смурыгает-смурыгает здоровущий, во весь стол, темный блин – подобно тому, как хозяйки раскатывают тесто на лапшу, – и вода из этого блина струею льется не то в корыто, не то в кадку, и пахнет во всем доме распаренной овечьей шерстью. Вальщик, окутанный густыми белыми клубами, – как демон в этом жарком тумане, и только когда взглянул на нас, увидели мы его, облитого потом и голого до пояса, с темной волосатой грудью. Нелегкое, видать, это дело – валенки валять. Постоять бы да рассмотреть получше, но тут и хозяйка мелькнула в тумане. Подплеснув горячей воды в корыто или в кадку, шагнула к нам и спросила без любопытства:
– Что вам, ребятки?
– Икуированные мы, те-е-тенька-а, – затянул Андрей.
– Голодныи-и, – помог я ему.
Хозяйка снова метнулась в туман и скоро вышла оттуда с двумя блинами и парой вареных картошек.
– Не прогневайтесь, ребятки, некогда с вами, – проговорила она, сунув нам все это поровну, и тут же скрылась в тумане.
Мы переглянулись, переступили с ноги на ногу и, вздохнув, повернулись к двери.
– Вот и накормили нас, – буркнул Андрей, оглядывая подаяние. – Ну что это – блин да картошка…
– На чужой, каравай рот не разевай.
– И правда, – согласился он.
Зато в соседнем доме – с виду он был неказистее Валетова, и жили в нем беднее, – посадила нас хозяйка за стол, налила щей чашку, картошки подала обжаренной, а на запивку молока по кружке. И пока мы ели, все расспрашивала, откуда и куда идем, вздыхала да охала, покачивая головой. Мы так натрескались, что в боках заломило. А вдобавок она протянула «на дорожку» горбушку хлеба, разрезав ее пополам.
– Чем богаче люди, тем жаднее, – по-взрослому заметил Андрей, выходя на улицу и кивая в сторону Валетовой избы.
Дальше стоял кирпичный дом под железом, большой и с высоким крыльцом. Подходя к нему, мы загадывали: хорошо подадут нам в этом доме или, как у Валета, сунут что-нибудь по мелочи, для отвода глаз? Мы подошли к крыльцу, и Андрей первым ступил на порожек. Но только он звякнул щеколдой, как откуда-то, небось из-под крыльца, вылетела черная собака с теленка, кинулась на нас с злобным лаем, и мы кубарем скатились с порожков, заорали с перепугу, ударившись под гору. Выхватив на бегу кусок хлеба из сумки, Андрей швырнул его собаке, та на мгновение остановилась, проглотила – и снова за нами. Мы бежали, спотыкаясь, увязая в снегу, и все швыряли из сумок. Так, перепуганные, в одну минуту оказались под бугром у ручья и тут только остановились, переводя дыхание. Оглянулись и видим: подбирает собака наш хлеб, довольно поматывая головой, да посматривает в нашу сторону. Доела, вильнула нам хвостом и пошла себе к дому.
– Ну вот, насобирали, – потерянно проговорил Андрей и замигал-замигал, готовый расплакаться.
– Не укусила? – спросил я, оглядывая его со всех сторон.
– Растерзала бы, кабы не хлеб. Смотри, какая выросла. Тю, псина, тю-ю-у! – крикнул он, осмелев.
Мы засвистали ей вслед, собака оглянулась, постояла с минуту и даже не гавкнула, считая, видно, дело оконченным, скрылась под крыльцом. В другой раз, может, и рассмеялись бы мы, да тут уж не до смеха: весь хлеб покидали из сумок. Как нарочно, никто не вышел из дома, не отогнал зверюгу.
– Ну, что будем делать? – спрашиваю Андрея. – Дальше пойдем?
– Дальше… – озлился он. – Хочешь, чтобы собаки загрызли?
– Не у всех же они отвязаны!
– Узнай попробуй, у всех или нет.
Не хотелось возвращаться домой с пустыми руками, но и дальше мы не решились продолжать свои похождения: так напугала нас свирепая собака. Дома нам посочувствовали, больше и не пускали на такое дело: чего доброго, мол, собаки разорвут, да и позориться перед людьми…
8 января.«Надо свою мельницу свастожить, – сказал отчим. – Тогда и в Чадаево можно не ездить, не платить там гарнец».
Гарнец, как называли попросту гарнцевый сбор, – это плата натурой в размере девяти процентов отвеса зерна. Конечно, невыгодно нам было хлебом платить, когда самим есть нечего.
А мельницу-самоделку я видел: два толстых круглых чурбака с набитыми в них чугунными осколками. На верхнем кругляке ручка, крутишь его за эту ручку, как жернов, и растирается о чугунную набивку зерно, сыплется из желобка тонкая-претонкая струйка. А придумал эту мельницу кто-то из окруженцев, когда они скрывались от немцев в нашей деревне. Вот и пошли тогда с легкой руки самодельные мельницы.
Отчим и правда, не откладывая в долгий ящик, принялся в тот же день за дело. Высмотрел на нашей усадьбе старую лозину толщиною в полметра, отпилили мы с ним два чурбака – один потолще, для нижнего «жернова», другой потоньше, для верхнего. Потом разыскали на задворках старый чугун, разбили его на осколки и принялись заколачивать в чурбаки. Провозились над ними целых два дня, а все-таки смастерили мельницу с ковшиком – для засыпки зерна и с желобком – для выхода муки.
Мать раздобыла у кого-то взаймы пуд ржи, и мы молотили ее три дня с утра до вечера. Приходилось пропускать с двух раз, потому что с одного не мука получалась, а зерно пополам.
Тетя Настя, заглянув к нам по соседству, все похваливала:
– Ну вот, Машка, и вырос у тебя помощничек. И от пожара избу спас, и на хлебушки вот намолол. А теперь в колхоз небось работать пойдет. Как раз и молотьба, сказывают, начнется вот-вот. Мой-то Федька готовится, валенки отец ему чинит.
Федор постарше меня, ему и правда пора уже в колхозе работать. Да и я бы пошел солому возить, если бы не школа. Разнесся слух, что скоро начнутся занятия в школе, и я с нетерпением ждал этого дня.
– Он у нас в книжки ударяется, пускай себе учится, – вступилась мать.
– А что, и это неплохо, может, ученый из него выйдет, – отозвалась тетя Настя.
12 января.Сегодня ясная погода, целый день слышались гул самолетов, взрывы бомб и снарядов, стрекот пулеметов. Наши деревенские ходили на поденку на станцию и рассказывали, что это обучаются стрельбе красноармейцы. А самолеты летают и наши и немецкие – разведчики и бомбардировщики. Сам видел, как пролетели три наших самолета и один американский. А станцию бомбили немецкие, потому что заметили наших военных. Видно, разыграются весной сражения…
Жизнь у нас постепенно налаживается. Из Тулы до нашей станции пошли поезда, привозят письма и газеты. Надо написать письмо в Электропередачу – как там крестная и дедушка, живы ли, здоровы?
Дядя Ваня Кузнецов, отчимов брат, уже работает в Плавске, на заводе. Там все восстанавливается и приводится в порядок, райком и райисполком дают свои распоряжения. Принес он свежие газеты, я попросил и читал их дома вслух, до последней строчки. Много новостей случилось. За каких-то полторы недели нового года Красная Армия освободила Керчь и Феодосию, Калугу, Козельск, Белев… Только за первые пять дней войска Западного фронта освободили от оккупантов 572 населенных пункта. А трофеев сколько немцы оставили – танков, машин, орудий, всякого военного добра! А убитых и раненых – трудно перечесть!
Радоваться можно за наших храбрых бойцов. Но и «работать» им придется, наверно, долго и упорно. Много-много еще наших городов и деревень под сапогом врага!
16 января.Сегодня призвали на фронт дядю Федосея Тимофеева, председателя колхоза, дядю Егора Глухова и дядю Мишу Бузова. А Митька Черников, Ленька Баранов и другие ребята, рождения с 23-го по 27-й год, ездят каждый день на станцию – чистят снег на железной дороге. Мой отчим тоже ездит туда на поденку – как мобилизованный. Снегу нынешней зимой навалило невпроворот.
22 января.Теперь и в нашу деревню приходит почта, разносит ее тетя Дуня Родионова – Дуняша, как зовут ее все. Получили письма от некоторых фронтовиков. Пишут, что воюют, стараются изгнать фашистов с нашей земли.
27 января.Сегодня поднялся задолго до рассвета, развел в теплой воде последние крошки чернильного порошка, положил в старый Шуркин портфель (мой променяли на хлеб) четыре учебника, которые сохранились от огаревского пожога, да последнюю тетрадку. С тем и отправился в Никольскую семилетнюю школу, за три километра. Из шестиклассников нашей деревни я один оказался, но это меня не остановит. Хоть и впроголодь живем, а буду стараться из последних сил. Боюсь только за старые валенки, которые чуть-чуть живы, в любую минуту могут развалиться. Поэтому буду ходить через Зоринку, где дорога покороче.
Едва стало рассветать, как я поравнялся с зоринской канавой, глянул в сторону засыпанного снегом немца – совсем уже не видно его под сугробом – и быстро-быстро, словно догнать он меня собирался, побежал по узкой тропинке. После Зоринки – знакомые три дома, отколотые от Ушакова, чуть дальше через лощину – начальная школа, в которой я учился два года назад. Я глянул на горку, куда, бывало, поднимались мы в свою школу, и сердце сжалось от воспоминаний. Как хорошо было до войны ходить вот сюда, радоваться да забавляться с одноклассниками. А теперь уж не до забав, и школьникам приходится трудно, как взрослым. Да и школа стоит пустая, без окон и без дверей – везде после немцев разорение. Теперь, я слышал, не здесь будет начальная школа, а в какой-то деревенской избе.
Я прошел Ушаково, Чадаево, и глазам моим предстало белое здание на Измайловской горе – школа, в которой предстоит мне теперь учиться. Как хорошо, что уцелела она после немцев. И с радостью, с волнением, будто на праздник спешил, ускорил я шаг.
Но, оказавшись в тесном коридоре, я разочаровался: насколько мала эта школа против той, подмосковной, в которой прошел мой пятый класс!
– Ученье – тоже работа, – говорили нам учителя. – Наши отцы и старшие братья бьют фашистов, а вы должны радовать их хорошими, отличными отметками.
Для меня все учителя и ученики незнакомы, и я сидел, глядя на них во все глаза, соизмеряя их друг с другом и с теми, к которым когда-то привык. Лидия Александровна, Варвара Павловна, Евдокия Ивановна… Я старался запомнить новые имена, но с первого раза это не давалось. Странным казалось, что все были закутаны по-зимнему, даже учителя. Окна сплошь заворошены инеем, печка холодная, и мы сидели, дули на руки, на пузырьки и непроливайки, в которых замерзали чернила. А тут еще со станции доносились удары, будто молотом огромным колотили на речке лед, и стекла в рамах дребезжали, позванивали. Учителя нас успокаивали, говорили, что это не бомбежка, а наши обучаются, готовясь к наступлению…
По пути из школы я заметил в чадаевском овраге, в стороне от дороги, темное пятно. Покопал носком валенка, вижу – небольшой железный чемоданчик. Однако оказался он таким тяжелым, что еле поднял я его. Нехитрая, но крепкая защелка поддалась не сразу. Наконец оттолкнул я ее и остолбенел: в чемоданчике уложены тесно, рядком друг к другу, маленькие мины. Видно, немцы растеряли, когда бросили свой обоз. Я оттащил находку к речке, осторожно выложил мины в снег, на кромку льда, чтобы оказались они весною в воде, а в чемоданчик положил учебники: вот и портфель у меня!
31 января.Сегодня в школе раздали по три тетради. Уроков пока немного – три, а то и два за смену. Это потому, что в классах холодно, замерзают руки и ноги. Да еще не хватает учителей. Однако на дом задают больше, чем полагается: надо же наверстывать потерянное время, больше трех месяцев не учились из-за фашистов!
20 февраля.До войны мы не знали, что такое «грыб», как называют попросту в народе простудную болезнь. Но вот прошли по нашим местам немцы, и понесло эту заразу (вспомнишь, как они сопли от холода распускали – наверно, и правда пошла от них такая болезнь). От деревни к деревне, от дома к дому переходит она, косит чуть не всех подряд. И нас не обошла. Сначала заболел отчим: вернулся со станции, с поденки, а утром не поднялся. Так и пролежал неделю. А потом и мать слегла, и я за ней следом. Две недели отлежал, только очухался немного. Но больше всех досталось матери. Болезнь скрутила ее так, что она теряла рассудок, выскакивала ночью на мороз, прямо с постели, и все порывалась куда-то бежать. Нам приходилось из-за нее не спать, смотреть за ней да привязывать рогач к двери, чтобы не открыла. К тому же не ест она почти ничего, похудела до неузнаваемости.
23 февраля.Сегодня неожиданно приехал из Москвы дядя Герася, вечером явился к нам проведать. Сказал, что отпустили в честь Дня Красной Армии. В шинели пришел и в шапке военной с красной звездочкой, усы отпустил – еле узнали его. Только голос все тот же грудной, басовитый. Служит он в Москве шофером на машине, и завтра опять уезжает. Дал нам по белому сухарику на каждого и с тем распростился. А про Горку ничего нового: как написал тот еще в августе со Смоленского направления, так ни слуху ни духу.
Наших деревенских, Горкиных одногодков, призвали в армию три дня назад. Это потому, что оккупация задержала. Павла Антипова (в деревне прозвали его Паном) зачислили, как самого рослого, в артиллерию, Ваську Антипова (сына Тимофея Семеновича), Сергея Родионова и Митьку Черникова – кого в связисты, кого в пулеметчики. Поплакали, конечно, родные на проводах: что им, по восемнадцать только, а идут не в гости на праздник, может, на верную смерть. Но и воевать тоже надо, Родину защищать.
27 февраля.Наконец-то долгожданное письмо от крестной! Конвертик маленький-маленький, в ладошку (на всем сейчас экономия). Адрес все тот же: Павлово-Посадский район, Электропередача, ул. Пушкина, 2.
– Мам, послушай, что крестная-то пишет! – обрадовался я, раскрывая конверт аккуратно, чтобы не надорвать.
Мать даже просияла, несмотря на болезнь, подсела к столу, и Шурка к ней поближе.
– «Здравствуйте, дорогие родные! – начал я громко, стараясь не торопиться. – Добрый день, утро, вечер, любое время!
Шлем мы вам всем пламенный родной привет и самые наилучшие пожелания в вашей новой деревенской жизни. Мы так обрадовались, что вы остались живы после такого ужаса, что нет слов, чтобы выразить все и передать на бумаге. Ведь последнее от вас письмо мы получили 31 июля, и вот уже полгода не было от вас ни одной весточки. Высылали вам и заказные, и доплатные – все без ответа. Не знали мы, живы вы или погибли под бомбежкой или под фашистской оккупацией. Мало ли что может случиться в наше смертельно опасное время.
В общем, теперь мы чувствуем себя счастливыми оттого, что смерть миновала вас и нас. А к нам фашисты даже не дошли – это еще лучше.
Живем мы на том же месте, только по-другому: я работаю теперь не в книжном магазине, а на торфоразработках – так диктует военная обстановка. И Нюру, мою сестрицу, с фабрики из Павлово-Посада направили в Храпуново – на погрузку торфа. Продукты получаем по карточкам. Мне 600 граммов хлеба на день, а на месяц – 500 граммов сахару, 400 граммов масла, полтора кило крупы. Ваш дедушка, а мой папаша получает, как иждивенец, еще меньше: 400 граммов хлеба, 300 – сахару и так далее. Питание на новой моей работе требуется усиленное, а его не хватает. Был у нас с осени купленный картофель, весь поели. А на рынке все дорого: картошка 12–15 рублей кило, свинина – 140 рублей. Да и то не всегда бывает. Вот немного потеплеет, и пойдем менять по деревням свое добришко-барахлишко. А сейчас у нас, как нарочно, сильные морозы – до 43 градусов.
Вот и все, что я могу вам написать. Рассказать, конечно, если бы вы были рядом, можно больше.
Мы рады, что вы живете все вместе, пережили немецкий гнет, остальное покажет будущее.
Пишите нам почаще, не забывайте. Мы можем выручать друг друга в такое тяжкое время».
Я кончил, мать завздыхала, и наплыла на нее задумчивость, печальная туманность.
– Ладно, девк, переживем как-нибудь, – успокоила ее тетя Маша, которая тоже слушала. – Выздоравливай вот поскорее, а горевать нам некогда.
Вне себя от радости, что живы наши родные, я тотчас же принялся писать ответ: как пережили оккупацию, как попали в деревню и как живем – трудно, зато без немцев, среди своих.
1 марта.Матери стало немного лучше, но ходить как следует не может, временами заговаривается. А тут еще хлеб кончился, не знаем, у кого занять. Хорошо, что люди нам помогают – и родные и даже чужие. Тетя Оля Барская живет на краю Арсеньева, и то, когда лежала мать без памяти, а у нас в деревне коровы не доились, приносила для маленького Коли по банке молока. А сейчас тетя Аксинья Кузнецова дает иной раз по целой махотке. Тетя Варя капусты нам давала, а Барановы то хлеба, то картошки. Шурка, моя сестра, каждый день к ним ходит, нянчит ребят и обедает там. Рассказывала, как молочный кисель им варила – и самой-то охота попробовать, и совестно перед маленькими.
Отчим ездит каждый день на станцию, работает там на поденке, вроде воинской повинности, и все пилит меня за школу – не до нее, мол, в такое-то время. Как ни жалко, а придется, наверное, оставить ученье. Приехали сегодня из Елизаветииа мои двоюродные сестры Граня и Катя, зовут меня к себе: до весны, мол, поживешь, а там видно будет.
– Поезжай, малый, – сказала мать, – все меньше едоков на один рот. Весной-то все равно придется в колхозе работать.
Неохота мне ехать в Елизаветино, хоть и не к чужим. И дома оставаться, голодать да слушать попреки – не лучше. Так и решился поехать.
16 марта.Третью неделю живу в Елизаветине, за пять километров от нашей деревни. На теткиных харчах живу. Сначала стеснялся, хотя и тетя Аксюта, сестра моей матери, и муж ее, мой крестный дядя Саша Семенов, не бросали на меня ни одного косого взгляда. А сейчас привык как будто.
Днем все уходят на работу, я нянчусь с Граниными ребятами – с трехлетним толстяком Левой и маленьким, розовым, как морковка, Колей, который чем-то похож на нашего Колю. А за Витькой, младшим сыном тети Аксюты, моим двоюродным братом, присматривать нечего, его бы только за уши драть. Шесть лет ему, а бедовый такой – сладу с ним нет.
Так и живу: нянчусь с ребятами, ем теткин хлеб да тоскую по школе. А еще люблю слушать квартирантов – выздоравливающих красноармейцев. У тетки их четверо: молодой чернявый, как смола, армянин Оганесян, веселый ярославец Николай Соболев, Владимир Сиднев из Ивановской области да еще постарше их, Иван Киселев – этот неразговорчивый. Оганесяна зовут по-русски – Сергеем, только отчество у него непонятное, армянское – Цатурович. И говорит он по-русски хорошо, все рассказывает о своей красивой родине.
Нередко к нам приходят бойцы из соседних домов, и тогда становится шумно, теткина изба гудит и полнится народом. Наши гости со всех концов страны – от Белоруссии до Казахстана, от Кавказа до Сибири. Как пойдут подшучивать да рассмеивать друг друга, так и кажется, война куда-то отодвинулась, а может, и кончилась уже.
Елизаветино – деревня больше нашей, домов с полсотни. Тянутся они двумя порядками вдоль большака, который ведет в одну сторону на Плавск, а в другую – на Селезневку. Тут и школа начальная, изба-читальня и магазин. Только речки нет, один пруд небольшой. И колодези не то что у нас, а глубокие – цепями да веревками воду достают. Жизнь тут идет, как и в нашем колхозе. Вовсю молотят хлеб, оставленный с осени в скирдах, сдают его фронту, засыпают рожь для обмена на яровые семена.
Немцы наезжали в Елизаветино, чтобы только пограбить. Стояли они в соседних деревнях, всего за два километра – долго ли тут до нее добраться! Елизаветинские тоже наслышались про аппетит германских вояк и поэтому заранее приготовились: колхозных коров и овец угнали в тыл, на восток, свиней и телят порезали и засолили, запрятали по погребам и ямам, одежку, обувку и всякое иное добро по тайникам да в землю схоронили – ищите, грабители!
Вскоре после того, как оккупанты остановились в соседних деревнях, в дверь моих родных загрохотали. Глянула тетя Аксюта в окно – стоят там двое в шинелях зеленых, в картузах с кокардами.
– Девки, скорее прячьтесь! – крикнула она Катьке своей да Верке-племяннице.
Катька с Веркой мигом на хоры под дерюгу, притаились там – ни живы ни мертвы. А Граня знай Колю своего пощипывает, хоть и было ему два месяца: пусть, мол, кричит, скорее уйдут.
Руки, ноги тряслись у тети Аксюты, пока дверь открывала. Вошли они, отстранили ее, как хозяева, один и спрашивает по-русски (переводчик, видно):
– Есть у вас дочь из Москвы?
– Е-есть, – еле выговорила тетя Аксюта, а у самой сердце екнуло: кто-то из деревенских сказал.
– Это я, – сама открылась Граня и снова ущипнула Колю. – Только не из Москвы я, а за Москвою жила. В деревне жила.
– А ребенок чей?
– Мой.
– А муж где служит?
– Не знаю, – нашлась она.
– Командир?
– Какой из него командир! Рядовым-то небось да и то в обозе.
Повернулся переводчик к другому, бормотнули они что-то по-немецки и отстали от Грани. А потом к хозяину, к ее отцу:
– Кормить надо германских солдат. Куры есть, корова?
– У нас ведь восемь душ! – взмолился тот. – Побойтесь бога, чем же я их буду кормить? Хотите, есть у нас немного мяса.
– Ми-ясо? – воскликнул второй офицер, до этого молчавший. – Нихт, нихт, ми-ясо!
– Мясо мы не берем, – пояснил переводчик.
Тут надо заметить, что немцы нашим мясом или печеным хлебом брезговали – боялись, отравят их. Так и повезло моим родным: корову у них не взяли. А четырех кур все-таки заставили поймать и отнести к машине.
В тот день зашли те же двое к дяде Васе Гаврилину. Увидели его дочь, невесту, поставили флягу спирта на стол: «Пей, хозяин!» Попробовал тот отказаться, да где там, того и гляди из пистолета пристрелят. Выпил с полстакана, тут и понятно ему стало, зачем это «гости» раздобрились. Пристал офицер к дочери, цапает ее, а та, не будь дурой, – хлоп ему по щеке да к соседям бежать. А там парень был не из трусливых, Лешка Корягин. Вступился он за девушку, да чуть не пристрелил его офицер.
Я рассматриваю альбом с фотографией Граниного мужа Николая. Стоит он, опершись на стул, во весь свой невеликий рост, в кепке и в простом костюме, не по годам серьезный и в то же время смешливый. А в альбоме полным-полно пташек, зверюшек, цветов, срисованные с фотографий портреты жены и маленького Левы. А еще множество стихов, которые писал он Гране до армейского призыва, потом из армии, где отслужил два с половиной года. Смотрю альбом, разукрашенный руками влюбленного в жизнь человека, едва не мальчишки; и встает он передо мною как живой. Мальчишка до армии, мальчишка в армии, мальчишка в послеармейский короткий срок, который отпустила ему судьба на передышку – всего полгода!.. И тут война, куда пошел он почти таким же мальчишкой, не увидев второго своего сына. Сразу же после объявления войны ему принесли повестку, и явился он в военкомат с вещмешком за плечами. Вечером 23 июня сел в эшелон. А потом – пешим ходом из Вышнего Волочка в Демьяново, ближе к границе. И где-то там, в лесах, полных птичьих песен, засели они в блиндажи. Об этом он написал в трех скупых своих письмах. Последнее, отправленное 25 августа, было совсем коротеньким – с десяток слов на маленьком листке из блокнота, куда он записывал свои стихи.