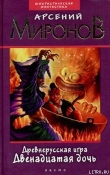Текст книги "Высокая макуша. Степан Агапов. Оборванная песня"
Автор книги: Алексей Корнеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
16 апреля.Нынче утром повесил наконец стенгазету – первую свою наглядную работу – на ворота кузницы, где собираются на наряд колхозники. Даже издали виден ее крупный заголовок, видны разноцветные рисунки. Не зря, видно, старался, вон и люди, завидев на воротах что-то необычное, подходят, глядят во все глаза. А как прочли стишок под карикатурой, так и пошли хохотать.
– Кого же это там? – засматривали через головы передних.
– Глядите, как лошадь-то бьет, колом или оглоблей?
– Бычкова – подписано.
– И правда, похожа на нее.
– Оха-ха-ха-ха!
Тут подошла и виновница, услышала про себя – навострилась. И вдруг пронзительный, режущий уши вскрик:
– Ах, мать его так, это кто ж меня размалевал? Это ентот-то? – живо обернулась она, выискивая меня в толпе. Сверкнули злые ее глаза, налилось морковной краской лицо. И пошла, пошла меня костить, наступая по-мужски с кулаками, хотя и ростом невелика. – Ах, мать тебе не доносила, писарь какой! Ты видал, видал, как лошадь я била? Видал? Это что же такое? – обернулась к воротам, где стояли, ухмыляясь, собравшиеся. – Люди, будьте свидетели! Лошадь я била… Когда я била, кто видал? Ах ты, писарь, комсомол недоношенный!..
Я уже раскрыл было рот, чтобы назвать свидетелей, но тут выступила вперед тетя Параша Глухова, осадила крикунью:
– Хватит оправдываться-то! Что била, то била. Сама виновата, а кричишь, надрываешься.
– А так я била-то, так? – поперхнулась Бычкова. – Оглоблей я била-то?
– Не оглоблей, так палкой.
– А стояла я на телеге-то, стояла? Смотрите, как намалевал-то он меня…
Хохот поднялся над виновницей, реплики да шутки посыпались. Кинулась она от кузницы, осмеянная, – только и видели.
А я стоял, растерянный и красный, наверно, не меньше, чем вдохновительница моей карикатуры, и кривая усмешка – я это чувствовал сам – как бы застыла на моих губах.
– Ничего, ничего, это на пользу ей, – успокоил меня Луканин, когда люди стали расходиться. – Правда, понимаешь, каждому глаза колет. А ты не бойся, всем не угодишь…
29 апреля.Ходил пешком на базар (лошади заняты на севе), отмерил туда и оттуда тридцать с лишним километров. Отнес на себе чуть не пуд муки, даже под ребрами заныло и ноги загудели. Дорого все на базаре, пуд муки стоит 1100–1200 рублей. У нас давно уже кончилась соль, вот и ходил из-за нее, купил пять стаканов. И соль дорогая: 60–70 рублей стакан. А стаканчики-то, где только их взяли, – чуть больше стограммового. А еще купил два кило пшена, матери на кашу. Что-то не лучшеет ей после операции, ходит как тень. Наверно, от слабого питания – ни жиров у нас, ни мяса. Хотели поросенка зарезать весной, а он, как назло, еле зиму выжил, дохлый какой-то, вроде кошки облезлой. И только сейчас, как начали крапивой кормить, оживать вроде стал.
Вся проруха на нас. С прошлой осени назначили нам, как семье погибшего, бескоровной и малообеспеченной, пуд муки в месяц по государственной цене. А получил только за половину января, остальная «улетучилась» куда-то, и концы в воду. Ходил в сельсовет, председатель сказал, что в сельмаг не поступала. Был в райторготделе – там приказали выдать. А в нашем сельмаге опять свое: нет ее у нас, не поступала. Потом и в райторготделе отказали, ответили, что где-то в дороге, наверно, пропала. Так и не добился толку.
3 мая.С утра пораньше бегу в колодезь за водой, потом в правление, на колхозный огород и в поле – посмотреть, как люди работают. Пока пробегаю, пока оформлю «боевой листок» да стенгазету, некогда и книжки заполнять. Сижу потом при коптюшке, глаза смыкаются, а я все пишу. Наверно, от такой работы нажил себе куриную слепоту: как солнце садится, так не вижу ничего.
– Брось ты, малый, свою писанину, – сказала мать, – совсем ненароком ослепнешь.
– От малокровия небось такая болезнь, – заметила тетя Нюра. – Надо бы питаться как следует, а мы что едим? Ни молока, ни мяса. Эх, война, война!..
На праздник 1 Мая приехал из ремесленного училища брат тети Нюры Сергей, и она подсказала:
– Хоть бы рыбки вы, ребят, половили. Сбегали бы вдвоем, глядишь, и ужин нам будет.
Мы проворно изготовили черпал, как называют у нас рыболовную сеть. Связали крест-накрест из гибких лозинок два лучка, привязали к ним старую мешковину, к лучкам длинный шест – вот и черпал готов. И тут же помчались к речке.
Вода в речке еще холодная, как лед. Но мы решительно подвертываем брюки, выбираем неглубокое место и начинаем действовать. Сергей заходит выше по течению, мутит-мутит воду, ворочая шестом по дну и под кустами, поколачивает им по воде – все чаще, все сильнее. А я держу черпал, прижимая ко дну. Течение натягивает его, лучки дрожат, руки тоже дрожат, ноги сводит судорогой.
– Скорее, замерзаю! – кричу.
– Ничего-о, потерпи-ишь! – посмеивается Сергей. – Как охватим сейчас… с полведра… поедимся рыбки!..
Вот шест заскреб по дну перед черпалом, я рванул его на себя, Сергей подскочил на помощь, вытянули – на мешковине трепыхался лишь маленький, с мизинец, пескарик.
– Эх, сильно мы черпал дернули, поразбежалась небось, – заметил Сергей. – А ну-ка, ты теперь пошеруди…
Как ни старался я действовать шестом, а Сергей – вытягивать черпал, опять почти впустую: пескарик да голец с плотвичкой… Меняя друг друга, чтобы не застыли ноги, мы выбирали, казалось, самые уловные места, по все нам не везло, и Сергей не выдержал:
– Чудно-о! Лозинки зацвели, самый ход у рыбы, а рыбы нет.
Мы попробовали закидывать черпал, привязав к нему корочку хлеба, – и снова не повезло. Только и наловили под камнями, ухитряясь захватывать пятерней, десятка два пескарнков с гольцами. Может, и побольше бы удалось, да солнце уже стало садиться, и у меня опять зарябило, затемнело в глазах: куриная слепота.
– Ладно, бросаем, – махнул Сергей рукой и сам небось обрадовался не меньше моего: невысокий и худенький, он хоть постарше меня, а тоже посинел от холода.
Шагая домой, мы рассуждали: самое время сейчас кубарь бы поставить. А черпалом да удочкой ловить – пустое времяпровождение.
Сказано – сделано. На другой день мы нарезали лозиновых прутьев, побежали к огороднику, и Василь Павлыч, первый мастер по части кубарей, растолковал нам, как их плетут. Сергей провозился с ним до вечера, потом мы сделали запруду на речке и поставили на ночь кубарь. В этот раз повезло: на рассвете вытянули столько, что хватило на две сковороды.
То ли оттого, что рыбки отведал, то ли щавель да свербига помогли, а прозрел я, будто рукой сняло мою куриную слепоту. Сегодня опять сидел при коптюшке, записывал трудодни и сочинял газетные заметки.
6 мая. – Без моста как без рук, – озабоченно говорил Козлов, и кожа на лбу у него собиралась гармонными мехами.
Да и как ему, председателю, не болеть за мост: сев подступил, семена надо возить то на нашу сторону, то на арсеньевскую, а тут круча такая на переезде, что голову сломишь. И люди ругаются, срываясь в воду с камней.
– Военных попросить, вот кто поможет, – подсказали ему.
А солдаты сами, видно, соскучились по мирному делу: на другой уже день застучали возле речки топоры. Скинув с себя гимнастерки, красные от солнца и здоровые, они и на бойцов не стали похожи – брюки только военные. Одни топорами стучат – только щепки в стороны, другие «бабу» налаживают – сваи забивать. Блестят потные спины, разлетаются щепки, и даже бревна очищенные, кажется, запотели от жаркой работы: так и сверкают на их боках росинки.
К вечеру, когда уже забили первые столбы, шел я из правления домой, вижу – люди обступили солдат. Подошел, прислушался: вот тебе и заметка в газету! Подошел Козлов, повеселел, оглядывая работу военных.
– Сразу видно, герои. Как на войне, так и тут. Вот спасибо, товарищи, вот спасибо! – Ступил на первую лесину, уложенную на сваи, попрыгал на ней, проверяя надежность, – даже не дрогнула лесина. – А может, и скотный двор вы нам поправите, а? Разорились мы при немцах, сами небось видите.
– Что, братишки, примем такой ультиматум? – встрепенулся рыжеусый с блескучими, как речка перед солнцем, глазами.
– Ладно, сержант, согласны, – дружно откликнулись бойцы.
– Слышишь, товарищ председатель? – улыбнулся сержант. – Наши ребята бездельничать не привыкли. Только… – и сержант мгновенно посуровел. – Едва ли мы тут долго задержимся. Немцы-то не так уж далеко, окопались под Орлом да за Курском. Отомстить собираются за Сталинград. Так что жаркое, наверно, будет лето, не дадут нам долго отдыхать.
10 мая.Так оно и случилось, как говорил сержант. Только успели бойцы уложить на сваи бревна, приладить да подогнать их одно к другому, а ночью приказ пришел. И убрались они скорым маршем на станцию. А дальше куда последовали – военная тайна.
На утро тихо стало на речке: ни стука топоров, ни переклика или смеха. Только мост новехонький протянулся с берега на берег. Сваи крепкие дубовые, настил добела оструган и холстом издали кажется. Проехали подводы – не шелохнется мост, лишь бревна чуть поскрипывают да вода рябит возле свай. И пошли тарахтеть по бревнам, как палкой по спицам, тележные колеса!..
29 июня.Нынешнее лето, как предсказывал веселый сержант, и правда выдалось жаркое. И на фронте, и в тылу – в нашем колхозе, к примеру. Кроме работы в правлении, мне приходится помогать в других делах, потому что людей в колхозе не хватает. Недавно начали покос, и на луга вышли все: кто уже мог владеть косой, граблями да вилами, а кто и нет. Вместе со всеми вышли председатель, бригадир с огородником, конюхи. Один дедушка Матвей остался в правлении за дежурного: все равно, мол, из него, хромого, не косец. Вышел и я, как и все, кому четырнадцать-пятнадцать, не говоря уже о старших. Если не считать, что покосил крапиву возле ручья, то можно сказать – в первый раз я вышел. На первый свой настоящий покос.
Мать разбудила в потемках. Встаю, а меня шатает от недосыпания, глаза слипаются – хоть вались на дороге. Но такой уж закон на покосе: поднимайся до зари, коси, коса, пока роса. Как и другим таким же начинающим, коса мне досталась короткая, литовкой ее называют. До войны ни один косец не взялся бы за такую коротышку, чтобы не опозориться. А теперь в самый раз – такие уж косари пошли. Выходит, и косы война приспособила по-своему.
Первые два ряда я прошел, не отставая от других: то ли потому, что трава была еще мокрая – не слышно, как резала ее коса, то ли передние не спешили, пока не размялись как следует спозаранок.
Но вот пригрело солнце, сделалось жарче, трава подсохла, и косить стало труднее. Тут кое-кто начал отставать. Передние, заканчивая свой ряд, заходили по-новому, а задние, растягиваясь, оказывались перед ними, не давали ходу.
– Поддай, поддай, понимаешь, шевелись! – покрикивал по-бригадирски Луканин.
Заспешил я, стараясь не ударить в грязь лицом, да что-то противиться стала литовка, хоть и точил ее то и дело, – все чаще оставляла позади клочки нескошенной травы.
– Лучше коси, мальчик, – строго заметил Митрофаныч. – Смотри, пропуски-то делаешь. На пятку сильней нажимай, на пятку!
У меня затылок краснеет от стыда: все небось смотрят на такую мою работу. Со лба падают соленые капли, разъедая глаза, рубашка прилипла к спине, ребра словно судорогой сводит, а правая рука вот-вот откажет: где уж тут нажимать! Чтобы выкроить хоть минутку на передышку, я останавливаюсь поточить косу.
– Наверно, отбита плохо, – оправдываюсь.
– Заточил ты ее, то и дело, смотрю, точишь, – подошел ко мне Луканин. Оглядел косу, пощупал лезвие корявым пальцем. – Ну да, понимаешь, заточил. Кто тебе косу-то отбивал?
– Василь Павлыч, – говорю.
– Как следно, понимаешь, отбита коса. А точить вот ты не научился. Ну-ка, попробуй, я посмотрю.
Я вытираю лезвие травой и начинаю смурыгать, как делают другие, туда-сюда бруском.
– Ну да, не так, – останавливает меня Луканин. – Круто берешь, всю отбивку сточишь. Вот как надо, – и отбирает у меня брусок.
– Что, мальчик, тяжкое дело – косить-то? – спрашивает, подходя ко мне, Тимофей Семенович. И щурится, посмеиваясь: – Это не за книжками сидеть, тут до седьмого пота надо.
– Возьмите их себе, ваши книжки, – говорю я в сердцах.
И правда обидно: нет-нет да посмеивался кое-кто над конторской моей работой. Лучше пахать бы пойти или скотину стеречь.
– Да нет, я просто так, – смягчается Тимофей Семенович, погашая мою обиду. – И книжки надо кому-то писать. Может, и не стоило бы тебя на покос отрывать, да вишь оно время-то какое. Некому больше работать.
– Насчет конторских дел он у нас способный, – вступается председатель. – Вот подрастет маленько, глядишь, и замена будет деду Матвею. А то уж стареет он, забываться стал.
Подходит Митрофаныч, сурово насупив брови, молча берет мою косу, примеряет к поясу – соразмерна ли ручка моему росту, прочно ли насажена коса. Потом пробует по привычке широченными взмахами, снова оглядывает, крепким ногтем остукивает косу у пятки, посредине и по кончику. Наконец заключает:
– Медного гроша не стоит твоя коса. Разве такие до войны-то были? Звенит, бывало, как бубенчик.
Сказал и отошел Митрофаныч. Вздохнул я облегченно: как-никак, а выручал он меня, не опозорил перед народом. Косить от этого, конечно, легче не стало, а все-таки оправдание…
Чем выше солнце, тем все труднее. И руки онемели, каким-то чудом еще машут, и пот уже не каплями с меня, а ручьями, и ребра друг за друга заходят, так что спирает дыхание. Скорей бы перекур!
Но вот со стороны деревни показываются ребята с узелками в руках – завтрак несут. Это уже спасение, хоть и ненадолго.
Митрофаныч кончает ряд, поднимается на луговую гривку, где посуше, и, завидев ребят, присаживается. Его примеру следуют другие косцы, садятся на охапки влажной еще травы и начинают развязывать принесенные узелки. Кто чем богат, тому и рад. У кого ветчина бело-розовыми ломтиками, у кого солонина вареная, а то и баранина свежая – у Митрофаныча, к примеру.
– Не коса косит, а баранчик, – намекает он своей любимой поговоркой.
Это означает, что косец должен поесть сначала как следует, а без мяса не работник из него даже с хорошей косой. И потому Митрофаныч каждый раз, как наступает покос, непременно режет молодого баранчика.
Яйца, молоко, лук зеленый, картошка, запеченная по форме кулича на пасху, – это у всех. Даже и у меня (добыла где-то заботливая мать!). Расстилаю чистый, белый в горошинку материн платок, смотрю на увесистый ломоть хлеба, на чашку обжаренной, с румяной корочкой картошки. Да еще молока бутылка, пара яиц, пучок зеленого лука, квасу литровая банка. Никогда еще по стольку не приходилось мне есть, и правда как настоящему косцу преподнесли.
– Куда столько? – развел я руками. – Садись, Миш, поближе, все равно останется.
– Да-а, успею, – уклончиво отзывается брат, а сам уж сглатывает слюнку.
– Не завтракал небось?
Я отламываю ему хлеба, разрезаю на доли упруго спекшуюся картошку, и Мишка сдается, хотя ест медленно, как перед чужим.
– Чтой-то у тебя руки-то трясутся? – замечает он за мной.
– А вот пойдешь косить, тогда и узнаешь.
– Да-а, мне не ско-оро! Мне только в школу нынче осенью.
– Не заметишь, как и подрастешь.
Картошки он поел немного, а яйцо и полбутылки молока как за себя кинул: не баловала его мать, да и нечем баловать-то.
– Ладно, за ягодами пойду, – сказал он и подался к ребятам, которые уже горохом рассыпались по лугу, собирая клубнику.
Полежали немного, посидели. Затем поднялись по молчаливой команде Митрофаныча.
– Давайте, давайте, ребятки, – подбадривал нас Луканин. – Больше сена наготовим – лишнего скота, понимаешь, на зиму пустим. Фронту не только нужен хлебушек, и мясо ему надобно. Кто же, кроме нас, понимаешь, бойцов-защитников накормит?
Как я выдержал это первое испытание, сам себе потом не верил. Как доплелся до дома, так и свалился. Ни мух не чувствовал на этот раз, ни материных побудок к обеду. Едва-едва поднялся, когда она, заслышав от кузницы удары буфера – на покос зазвонили, – принялась меня тормошить…
Так и на другой день, на третий и четвертый, пока не втянулся. Потом уж немного полегчало, обвыкся вроде – и косить стал ловчее, и руки сделались тверже. Даже радостно было оказаться в одном ряду со всеми, почувствовать себя взрослым человеком.
7 августа.Два раза в неделю почтальонка приносила мне листок районной газеты, но разве дождешься того дня? И прямо с покоса я завертывал в правление, брал «Правду» да областную газету, где новостей было с короб – полдня хоть читай. А после обеда захватывал их на покос и принимался в первую очередь за сводки Совинформбюро.
В самый разгар покоса пошли тревожные слухи: одолеют наши под Орлом и Курском или немцы опять к нам нахлынут? В начале июля враг перешел в наступление, опять начались упорные бои. Каждый день немцы теряли по сотне с лишним танков, а все-таки лезли. И правда за Сталинград, наверно, собирались отомстить.
– Слушайте, слушайте! – крикнул я сегодня, развернув газету. – Москва салют дала!..
Все сгрудились вокруг меня, слушали с раскрытыми ртами. А я читал нараспев, во весь голос:
«При-каз Вер-хов-ного Главнокомандующего…
Се-год-ня, пятого августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел…
Се-год-ня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление противника и овладели городом Белгород»…
Ребята не удержались, закричали «Ура!», запрыгали от радости. Пока враг стоял за Окою, под Орлом, мы все боялись: а вдруг опять к нам двинется, далеко ли тут – каких-то шестьдесят километров. А теперь попробуй-ка, немец…
– А правду, понимаешь, правду говорили насчет Орла да Курска, – заметил Луканин. – Все болтали немцы, будто не умеют наши летом воевать, зима, дескать, нас выручает. А вот и летом им надавали. Не-ет, понимаешь, научились наши воевать!
20 августа.С поля мы возвращаемся в потемках. Правая моя рука, кажется, совсем онемела: рожь косить оказалось труднее, чем траву. Тут уж не нажимают «на пяточку», как на лугу, а на весу держат косу, чтобы не тупить ее о землю. Да и не коса это, а крюк – называется. Потяжелее он косы, потому что приделаны «пальцы» из палочек, брусочек деревянный, бечевки разные, чтобы подхватывать и укладывать рожь в ровный рядок. Все это лишний вес, лишняя нагрузка на руку. И хоть висит она у меня к вечеру, как на фронте пораненная, а в голове светло и радостно, слагаются стихи про салюты в Москве и про скорую, наверно, Победу…
7 ноября.Лето прошло как один день – длинный, трудный и жаркий. В колхозе управились со всеми делами. Хлеб убрали, только не все еще обмолотили. С государством рассчитались и сдали сверх плана, в Фонд обороны. Картошку и кок-сагыз выкопали.
Перед Октябрьской люди вздохнули немножко: нынче веселее она, чем в прошлом году. И на фронте в нашу пользу, гонят немца на Запад, и в тылу народ приободрился. Конечно, случается, придет кому-нибудь похоронка, как с неба горе свалится. Но теперь они реже стали – научились наши воевать.
Сегодня митинг был в колхозе. Полно в правление людей набилось. На стенах я развесил лозунги и стенгазету – пришлось посидеть перед праздником. Как приняли меня в комсомол, так вся наглядная агитация теперь за мной. А еще мне поручили выступить с докладом о положении на фронте и в тылу. Козлов, как председатель, рассказал, что сделано в колхозе и какие задачи на будущее, кто в ударниках ходит, а кто отстает.
А праздничный обед, как бывало до войны, не получился. Решили, что не до этого, может, скоро кончится война, тогда и отпразднуем всем колхозом.
16 ноября.Опять разболелась наша мать. Летом хоть по дому ходила, кое-что делала, а сейчас совсем никуда. Надорвалась, наверно, помогая Шурке по хозяйству, и пришлось везти ее в районную больницу, снова положили на излечение.
– Эх, ребята, никуда ваша мать, – посочувствовала тетя Нюра. – Только и надеяться вам на колхоз. Написал бы ты, – посоветовала мне, – заявление, чтобы в колхоз приняли. А то ведь нас, приезжих, и за колхозников не считают.
Правду тетя Нюра говорила: кто уехал до войны из деревни, того так и считают чужаками, не членами колхоза. А у меня за десять месяцев триста с лишним трудодней, у сестры больше двухсот. Да и мать, хоть и больная, то хлеб колхозный сторожила, то другую работу выполняла – тоже больше сотни трудодней. Ну, какие же мы чужие?.. Порассудив так, я написал заявление и отдал сегодня председателю.
5 декабря.Две недели ожидания тянулись, словно год: примут или не примут? А волновался я напрасно: собрание решило в нашу пользу.
– Работают они в колхозе? – сказал Луканин. – Работают! А что мать у них больная, так это и я, может, завтра заболею, и каждый из нас.
– Свои люди, что там говорить, – поддержал его Тимофей Семенович.
– Хозяин погиб, куда они теперь без колхоза?
– Принять их!
На следующий день председатель выписал мне из колхозной кладовой полтора килограмма шерсти – как раз на валенки.
– Правление так решило, – пояснил он. – За хорошую работу и как сиротам на помощь.
Я сразу же побежал на шерстобитку, пробил шерсть и отнес Валету. Спасибо колхозу, теперь я буду обут.
18 декабря.Запомнили в райкоме комсомола, что у меня есть младшие сестры с братом и мать больная. Захожу сегодня – обрадовали новостью: выписали валенки из фонда помощи семьям погибших. Хорошая подмога, как раз у Шурки их нет. Заехал к матери в больницу – обрадовалась она, что будем теперь обутые. А потом и говорит:
– Овечек бы нам своих завести, вот и были бы с валенками.
– А что, и заведем, – говорю. – У нас, я подсчитал, в этом году семьсот шестьдесят трудодней. Дадут по полтора кило – на весь год хлеба хватит. Отвезу мешок на базар, вот и купим овцу.
Бледная, в синем больничном халате, мать вдруг поникла и вздохнула озабоченно:
– Все бы хорошо, да вот здоровье-то мое. Не помогает мне больница, выписывать хотят. Лучше уж дома, видно. Что будет, то будет…