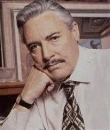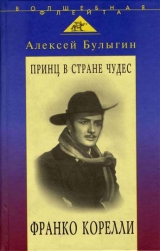
Текст книги "Принц в стране чудес. Франко Корелли"
Автор книги: Алексей Булыгин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Алексей Булыгин
Принц в стране чудес. Франко Корелли
ОТ АВТОРА
Франко Корелли никогда не выступал в нашей стране. В 1964 году он должен был приехать в Москву вместе с труппой театра «Ла Скала», его имя уже значилось в афишах, но из-за сильной усталости тенор вынужден был отказаться от поездки и отправился восстанавливать силы на родину. Больше у Корелли случая посетить Россию с концертом не представилось. Это, конечно, очень досадно, учитывая то обстоятельство, что к нам в 50-70-е годы приезжали почти все именитые зарубежные певцы того времени: Жан Пирс, Марио дель Монако, Карло Бергонци, Леонард Уоррен, Рената Тебальди, Леонтин Прайс, Фьоренца Коссотто, Николай Гяуров, Джером Хайнс и многие другие.
Тем не менее, можно смело сказать, что в России, как и в любой другой стране, где популярна оперная музыка, Франко Корелли – один из самых любимых и почитаемых певцов, хоть и известен нам (за исключением редких счастливцев, видевших его на сцене) лишь по записям. Желание познакомить российских любителей вокального искусства с историей жизни и творчества великого тенора привело нас поначалу к идее перевода книги Марины Боаньо «Франко Корелли: Человек. Голос»*. Однако постепенно накопленный нами материал, размышления над аудио– и видеозаписями тенора стали оформляться в самостоятельную монографию. К тому же выяснилось, что многое из того, что было включено в книгу итальянского музыковеда, на сегодняшний день сильно устарело (например, «Дискография Франко Корелли», составленная Джильберто Староне).
* Franco Corelli: Un uomo, una voce di Marina Boagno. Parma, Azzali, 1990.
Хотя при написании исследования, разумеется, невозможно было обойти вниманием труднодоступные в нашей стране рецензии и критические отзывы, вошедшие в книгу Марины Боаньо, многие документы (в частности, статьи самого Корелли) вместе собраны и публикуются на русском языке впервые.
Не вполне обычной для биографического жанра представляется наша попытка рассмотреть своеобразие личности и творческой манеры тенора сквозь призму оперного исполнительского искусства его времени – обычно партнеры и тем более «соперники» главных героев-певцов проходят в лучшем случае на заднем плане повествования. Таким образом, у читателя, берущего в руки книгу о выдающемся вокалисте, создается ложное представление, что вся музыкальная жизнь эпохи вращается лишь вокруг одного конкретного героя. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать, например, любую (за редчайшим исключением) книгу о Марии Каллас или уже упомянутую монографию Боаньо.
Музыкальный спектакль – сложный синтетический жанр, который обретает жизнь благодаря труду художников самого разного профиля. Без понимания – и, соответственно, без признания – заслуг этих людей подробный разговор о «звезде» любого ранга представляется нам некорректным. По словам современного исследователя, «парадокс оперы состоит в том, что, оставаясь «невидимым градом» (пространством, куда заповедан путь непосвященным в таинства музыки), она до конца открывает врата лишь тем, кто посвящен в законы театра. Вне театра этот вид искусства влачит жалкое, подозрительное существование»*. Развивая эту метафору, мы можем сказать, что нам не войти в эти врата и не принять посвящение, если мы уже изначально настроены изучать архитектуру города по одной лишь гордо
* Парин А. В. Хождение в невидимый град: Парадигмы русской классической оперы. М., Аграф, 1999. С. 9.
возвышающейся ратуше, игнорируя при этом прекрасные соборы, дворцы и дома. Именно поэтому в нашей книге особое внимание (к сожалению, в связи с ограниченным объемом не такое пристальное, как хотелось бы) уделяется партнерам Франко Корелли, а также людям, которые сыграли заметную роль в музыкальной жизни того времени.
Мы отдаем себе отчет, что подлинное изучение незаурядной, харизматической личности Франко Корелли, его вклада в мировое исполнительское искусство еще впереди. Один из возможных путей исследования – перевод и осмысление многочасовых бесед певца со Стефаном Цукером, изданных не так давно в аудиоварианте.
Биография Франко Корелли далека от завершения еще и потому, что сам герой нашего повествования, нынче благополучно здравствующий, отнюдь не закончил свою деятельность на музыкальном поприще. Достаточно сказать, что в момент, когда пишутся эти строки, идет активная подготовка к очередному конкурсу в Анконе, носящему имя Корелли, где легендарный тенор, как обычно, займет место председателя жюри. С ним рядом будет и его неизменная спутница – Лоретта ди Лелио, с которой тенор вместе уже более пятидесяти лет. Возможно также, что когда-нибудь появятся и мемуары певца, в которых будет приоткрыта завеса тайны, окутывающей его жизнь. Как бы то ни было, книга, которую читатель держит в руках, неизбежно влечет за собой «продленный призрак бытия», говоря словами Владимира Набокова (сын которого – кстати, очень неплохой бас – пел вместе с Корелли в одном из спектаклей).
Эта монография писалась не один год. За это время мы с грустью вынуждены были вносить в текст примечания о смерти некоторых из ее героев. Среди самых горьких потерь – Альфредо Краус, Карлос Коссута, Чезаре Валлетта, Шандор Конья, Эйлин Фаррелл, Федора Барбьери. Все они были замечательными певцами и яркими творческими личностями.
В работе над этой книгой автору помогали многие из его друзей, которым он выражает самую искреннюю признательность. Это Ольга Беспрозванная, Светлана Блейзинен, Александр Пахмутов, Игорь Кайбанов, Александр Иванов. Особые слова благодарности автор адресует петербургскому филологу, коллекционеру, многолетнему ведущему радиопередачи «Из коллекции редких записей» Максиму Малькову, без поддержки которого эта книга не была бы написана.
Часть первая
КАК-ТО РАЗ В СПОЛЕТО…
«Страной чудес» назвал Вольтер оперу. «Принцем теноров» окрестили современники Франко Корелли.
После смерти «короля теноров» – Энрико Карузо – никто уже не мог с полным правом услышать в свой адрес: «…Да здравствует король!». Таким образом, титул «принц» говорит о многом. Как минимум, об исключительном положении его обладателя.
В годы выступлений на сцене Корелли был очень похож на принца. И внешне, и по тому особому статусу, который занимал среди коллег. Не случайно именно принц – главный герой оперы Джакомо Пуччини «Турандот» – по праву считается одной из лучших партий Франко. Как читатель помнит, в этой опере принц Калаф, рискуя жизнью, отгадывает загадки неприступной принцессы и побеждает. Однако, достигнув всего, о чем можно мечтать, он внезапно отказывается от завоеванного счастья и предлагает дочери могущественного Альтоума свой вопрос, вызывающий смятение и растерянность в императорском дворце.
Если говорить о творчестве Франко Корелли, то и в образе Неизвестного Принца из «Турандот», и в самом сюжете можно увидеть особое, символическое значение. Как и Калаф, влекомый тягой к абсолютному совершенству, воплощенному для него в образе принцессы, Корелли был также одержим одной идеей – идеей совершенного вокала. Несмотря на многие преграды: отсутствие полноценного музыкального образования, довольно позднее по сравнению с другими певцами начало артистической карьеры, наличие могущественного соперника в лице Марио дель Монако, – он, как и герой оперы Пуччини, достиг своей цели. Он проник в сокровенные тайны вокального мастерства и завоевал исключительное положение в мире оперы. Но, став победителем, – опять же, как его любимый принц Калаф, – певец предложил свои загадки, ответ на которые знает только он сам. Отгадывать же их предстоит тем, кто неравнодушен к удивительному вокальному феномену, имя которого – Франко Корелли.
На самом деле загадок, связанных с Корелли, не так уж и мало.
Например, почти ничего не известно о его детстве и юности. У биографов можно встретить сильно разнящиеся на этот счет версии, а сам певец явно не любит говорить о годах, предшествовавших его вокальной карьере. Если он и вспоминает о них, как, например, в многочасовом интервью со Стефаном Цукером, то только в связи с музыкальной тематикой.
Не вполне понятны и причины, по которым Франко в какой-то момент ограничил свой репертуар до, в общем, небольшого числа партий, так и не выступив в тех, которые, казалось, прекрасно подходили для его голоса (например, в роли Отелло). Загадочен и внезапный уход Корелли со сцены в момент, когда он еще находился в прекрасной вокальной форме и был признан лучшим лирико-драматическим тенором мира.
Жизнь и личность певца окутаны легендами и тайнами. В зените славы Корелли имел репутацию одного из самых «трудных» и непредсказуемых исполнителей, который мог отказаться от выступления буквально перед самым началом спектакля. В этом смысле он «перещеголял» даже славившегося своей неорганизованностью ди Стефано. Однако никто из артистов, певших с Корелли на сцене, не связывает его многочисленные и ставшие притчей во языцех отмены выступлений с традиционной теноровой «капризностью». Наоборот, все отмечают невероятную требовательность певца к самому себе и собственной вокальной форме. Может быть, именно поэтому в дискографии тенора мы не встретим записей, где бы Корелли был «не в форме», – в самом худшем случае мы услышим лишь не вполне уверенно взятые первые ноты партии.
В отличие от коллег – таких, как Беньямино Джильи, Тито Скипа, Николай Гедда, Режин Креспэн, Беверли Силлз, Эйлин Фаррелл, Тито Гобби, Джузеппе ди Стефано, Джоан Сазерленд, – Корелли, насколько нам известно, не писал воспоминаний (или же они до сих пор не опубликованы). Но это совсем не значит, что в них нет необходимости. Совсем наоборот. Феноменальный голос Корелли, его неповторимая манера исполнения и в буквальном смысле «исторические» роли вызывали и по-прежнему вызывают огромный интерес к его личности. Наиболее рьяные поклонники певца, отчаявшись получить хоть какую-нибудь достоверную информацию о своем кумире, вынуждены в который раз пересказывать многочисленные и зачастую «апокрифические» истории о любимом теноре, что, естественно, отнюдь не облегчает задачу изучения творческого пути тенора. Таким образом, можно сказать, что сегодня Франко Корелли это не только реальный человек – это еще и культурный миф, «золотая легенда» музыкального театра XX столетия.
В связи с этим не покажется странным, что невозможно с уверенностью назвать даже дату рождения Корелли! Наиболее вероятной является 8 апреля 1921 года. Однако известный критик Родольфо Челлетти, знавший Франко с первых лет его оперной карьеры, в «Критико-биографическом словаре певцов» указывает, что певец появился на свет 9 апреля 1923 года*, а в таком авторитетном журнале, как «Opera News», многократно можно было прочитать, что Корелли родился 4 августа 1923 года. Подобная неразбериха в датах – дело обычное для истории оперы (впрочем, и для истории вообще, как показали современные исследования хронологии). Так, неизвестна точная дата рождения Марии Каллас – в ее паспорте стоит 2 декабря, в словаре Гроува – 3-е, однако мать певицы свидетельствует, что родила дочь 4 декабря. Различные источники указывают дату рождения Пии Тассинари в промежутке от 1903 до 1909 годов. И подобных примеров можно привести огромное количество. Надо заметить, что сам Корелли никак не комментирует факт публикации нескольких дат своего появления на свет, оставляя этот вопрос на «откуп» биографам (к слову сказать, самый дотошный из них – Марина Боаньо – вообще этот вопрос не затрагивает, а ее слова о «прекрасной весенней ночи», с которых она начинает рассказ о биографии тенора, могут быть отнесены как к 1921 году, так и к 1923).
Если все же считать годом рождения Корелли 1921, то тогда ситуация обретает некий символический смысл – ведь именно в этом году скончался великий Карузо**. Природа, как бы извиняясь за безвременную кончину прославленного неаполитанца, дала возможность увидеть свет Джузеппе ди Стефано, Марио Ланце, Джанни Поджи, Луиджи Инфантино, Дэвиду Полери – целому поколению блестящих теноров.
Как известно, именно в этом году в Европе произошли события, последствия которых в буквальном смысле перевернули мир. В Германии лидером Национал-социалистической партии стал Адольф Гитлер.
* Le Grandi Voci. Dizionario critico-biografico dei cantanti. Roma, 1964. P. 178–179.
** Как, впрочем, и другие выдающиеся тенора: Аугустарелло Афре и поляк Юзеф Манн, о трагических обстоятельствах смерти
которого, невольно связанных с кончиной первого тенора мира, можно прочитать в мемуарах Янины Вайды-Королевич «Жизнь и искусство: Воспоминания оперной певицы». М. – Л., 1965.
В Италии же сторонники Бенито Муссолини, получив значительное число мест в парламенте, в декабре создали Национальную фашистскую партию, которая уже через год стала в стране господствующей, а сам «дуче» возглавил кабинет министров. Таким образом, рождение Франко Корелли практически совпало с установлением на его родине фашистской диктатуры.
Детство и юность будущего певца пришлись на тот период истории Италии, который до недавнего времени в нашей стране принято было изображать исключительно в негативных тонах. Еще бы: разве может быть «что-либо доброе» в фашистской республике? Однако, так ли все на самом деле было мрачно на родине Корелли в 20 – 30-е годы? Чтобы понять, в каких условиях проходило детство и юность будущего певца, нам придется хотя бы вкратце остановиться и на политической ситуации в Италии.
Есть такие слова и понятия, связь которых в нашем сознании с отрицательными эмоциями разорвать невозможно. Так, безобидное поначалу слово «фашизм» (в политический обиход оно широко вошло с созданием при участии Муссолини в 1919 году организации «Fascio di Combattimento» – «Союз борьбы») в истории XX столетия приобрело несмываемый зловещий оттенок. Но, справедливости ради, следует заметить, что все же огромная пропасть разделяла проявления фашизма в Италии и Германии. Наши отечественные историки на протяжении десятилетий практически отождествляли эти две национальные идеологии, рисуя новейшую историю Италии как борьбу прогрессивных идей социализма с реакционным фашизмом. Тем не менее, стоит признать, что по сравнению с другими тоталитарными системами нашего столетия диктатура Муссолини была намного «мягче», чем, к примеру, сталинизм или гитлеризм, а сам «дуче» не только способствовал превращению Италии в могущественную и процветающую державу, но и немало сделал для повышения жизненного уровня своих соотечественников.
Муссолини был человеком несгибаемой воли, получил неплохое образование и обладал блестящими ораторскими способностями, увлекался игрой на трубе и скрипке. Современников он поражал неистовой преданностью своим идеям. Вот, например, как описывает свои впечатления от встречи с ним в 1927 году Уинстон Черчилль, бывший тогда министром финансов Великобритании: «Римский гений, олицетворенный в Бенито Муссолини, величайшем законодателе среди живущих, показал всем народам, что можно успешно противостоять наступлению коммунизма… И если бы я был итальянцем, то от начала и до конца поддерживал бы Муссолини. Глупо отрицать, что власть Италии вышла из самой гущи народа, что она правит в живом согласии с подавляющим большинством итальянского населения. Как и другие, я покорен простотой поведения Муссолини, его спокойствием и искренностью, которые он неизменно сохраняет, несмотря на заботы и волнения. Он думает, и это очевидно, только о благосостоянии итальянского народа, по крайней мере, о таком благосостоянии, каким он его себе представляет, и в этом вопросе для него нет мелочей. Он превращает свою страну в могущественную и уважаемую во всем мире державу»*.
Политика возрождения величия Италии, провозглашенная дуче, привела к грандиозным изменениям всего облика страны. В крупных городах развернулись гигантские стройки. По всей территории протянулись автострады, началось осушение болот, что дало возможность за 10 лет получить более 7700 тысяч гектаров новых пахотных земель, осваивать которые получили возможность около 80 тысяч крестьян из самых бедных районов Италии. Резко было увеличено строительство клиник и больниц. Только за восемь лет, начиная с прихода к власти Муссолини, число их увеличилось в стране в четыре раза. Забота о детях позволила примерно во столько же раз снизить и детскую смертность. Стоит заметить, что уже во времена союза с Гитлером Муссолини не поддерживал антиеврейские настроения союзников: до 1938 года антисемитизм был вообще чужд Италии, а после проявился в весьма смягченном виде, если сравнивать с Германией или, к примеру, с печально известной борьбой с «безродными космополитами» в нашей стране.
* Бенито Муссолини. М., АСТ-ПРЕСС, 1999. С. 62.
Проводимая Муссолини социальная политика, личное бескорыстие (если говорить о деньгах и материальных ценностях) принесли ему признание во многих странах мира. К нему с уважением относились такие разные люди, как Зигмунд Фрейд и Ганди. Конечно, мы не собираемся произносить панегирик Бенито Муссолини – все равно логика тоталитарной системы привела его к союзу с Гитлером, захвату Эфиопии, вторжению в Грецию и Албанию и, в конечном итоге, к участию Италии в самой кровопролитной войне в истории человечества. Тем не менее, можно смело утверждать, что сами итальянцы, в целом, до начала 40-х годов с большой симпатией относились к своему лидеру, а некоторые виды искусства – как, например, классическая музыка, – пользовались личным покровительством дуче. Не случайно, в тот момент, когда в Америке мощный финансовый кризис привел к массовому обнищанию, итальянские певцы, жившие на родине, были в гораздо более выгодном положении.
Разумеется, события политической жизни Италии и Европы не могли не отразиться на детских и юношеских годах Дарио Корелли (таково первое имя певца в комбинации других, данных ему при рождении, среди которых было и Франко; вспомним для сравнения, что полное имя Верди звучит так: Джузеппе Фортунато Франческо). Эти события отразились практически на всех певцах Италии того периода. Джильи, Лаури-Вольпи, Скипа, Пертиле, Мерли – если говорить о тенорах – все они были обласканы либо самим дуче, либо его окружением и долго потом преодолевали барьер враждебности в отношении к ним после падения фашистского режима. Так, Тито Скипа, выступая в 1947 году в нью-йоркском «Карнеги-Холле», вынужден был петь в полупустом зале, довольствуясь жидкими аплодисментами. И это было связано отнюдь не с вокальными проблемами – тенор находился еще в прекрасной форме. Его просто в буквальном смысле бойкотировали, и потребовались годы, прежде чем он смог восстановить свою прежнюю популярность у многих прежних поклонников. В свое время генеральному директору «Метрополитен Опера» Рудольфу Бин-гу пришлось выдержать настоящую баталию при согласовании с американскими властями вопроса о выступлении на крупнейшей оперной сцене мира лучшей вагнеровской певицы того времени – Кирстен Флагстад, которая в связи с семейными обстоятельствами вынуждена была дать концерт для Гитлера, а сама Флагстад должна была написать автобиографическую книгу, в которой ей пришлось главным образом объяснять, с чем было связано это выступление.
Некоторые певцы после падения фашистской диктатуры вынуждены были и вовсе прекратить вокальную карьеру. Так, одному из лучших баритонов Италии Аполло Гранфорте, осмелившемуся в 30-с годы в буквальном смысле поднять руку на Артуро Тосканини, пришлось покинуть Италию и скитаться по миру, занимаясь преподаванием пения (среди его учеников были Лейла Генчер и Рафаэле Арье).
В 1926 году была создана национальная организация «Балилла», которая стала официальным объединением молодежи Италии. Свое название она получила в честь генуэзского мальчика Джованни Балиллы, который в 1746 году дал сигнал к началу восстания против австрийских захватчиков. Дети получали форму, игрушечное оружие, принимали участие в шествиях и парадах. Так им прививали вкус к жизни в коллективе и любовь к военным занятиям. По достижении 18 лет юноши и девушки вступали в организацию «Молодые фашисты», которой руководил Ренато Риччи. Все это совмещалось с активной религиозной пропагандой, которую проводили специально приглашенные католические священники (католицизм после ряда разногласий властей с Ватиканом стал с 1929 года официальной религией Италии).
Мы не погрешим против истины, если представим себе молодого Франко, с энтузиазмом распевающего с хором энергичный марш «Giovinezza»* – это было в порядке вещей. Хотя политикой ни тогда, ни после он особо не интересовался, всенародный энтузиазм, перешедший позднее в массовый психоз (что было, как мы знаем, отнюдь не только в Италии), не коснуться его, разумеется, не мог. Вне всякого сомнения события военных лет отразились на судьбе будущего певца – именно в связи с этим обстоятельством профессионально заниматься вокалом он начал достаточно поздно. Как уже говорилось, Корелли не любил вспоминать годы своего детства и юности. О них почти ничего не сообщают и исследователи. Так, Марина Боаньо, изучавшая биографию Корелли, не смогла найти никаких достоверных материалов о раннем периоде жизни Франко и в своей книге после лирического фрагмента, в котором описывала «дивную ночь», подарившую миру будущего знаменитого певца, перешла почти сразу же к его первым занятиям пением**.
Если вопрос о дате рождения нашего тенора остается спорным, то, по счастью, место его рождения сомнений не вызывает. Франко Корелли появился на свет в довольно богатой семье, жившей в небольшом*** портовом городке Анкона, расположенном на побережье Адриатического моря в центральной части Италии.
Область Марке, административным центром которой является Анкона, известна как родина многих выдающихся музыкантов. Пезаро подарил миру Джоаккино Россини и Ренату Тебальди. Находящийся всего в 25 километрах от Анконы Реканати – место рождения Беньямино Джильи.
* «Молодость» – гимн фашистов Италии, музыка Бланка, стихи Готты. Записи этого прекрасного произведения можно встретить в дискографии Джильи и Мартинелли; совершенно бесподобно его исполнял Гранфорте.
** Franco Corclli: Un uomo, una voce di Marina Boagno. PP. 21 – 23.
*** Ha 1968 год население Анконы составляло 108,3 тысяч человек.
А если следовать по побережью на юг, то следующий город – Чивиттанова-Марке – родной для Сесто Брусканти-ни. Список можно продолжать еще долго. Как считает Марина Боаньо, это регион, где пение является скорее правилом, чем исключением. Впрочем, то же можно сказать и о всей Италии. По меткому замечанию Генриха Гейне, «в Италии музыку представляют не отдельные личности, она звучит во всей нации, музыка стала нацией»*.
Сама Анкона – город очень древний. Традиционная хронология относит его основание к 392 году до н. э. О далеких временах античности напоминает знаменитая триумфальная арка Траяна, а об эпохе средних веков – романские и готические постройки, среди которых обычно особо отмечают базилику XII века. В эпоху итальянского Возрождения Анкона стала центром производства итальянской майолики и художественного стекла. Во втором веке н. э. римский император Траян выстроил в Анконе гавань и порт, ставший вторым на Адриатике после Венеции.
И до сих пор, как и во всяком портовом городе, жизнь обитателей Анконы связана, в первую очередь, с промышленностью. Это судостроение, производство мостовых конструкций, нефтепереработка, фармацевтика и т. п. Поэтому стоит ли удивляться, что молодой Корелли, окончив колледж и защитив диплом, поступает не куда-нибудь, а в Кораблестроительный институт? Родители Франко, по роду деятельности не имевшие никакого отношения ни к музыке, ни тем более к опере, этот шаг одобряли. И вообще, вся атмосфера в семье Корелли подводила его именно к выбору профессии инженера. Вспомним для сравнения, что, например, отец Марио дель Монако во время жизни в Нью-Йорке работал музыкальным критиком и был лично знаком с крупнейшими исполнителями «Метрополитен Опера» и «Манхэттен Опера», а после возвращения из Африки семья дель Монако, с середины
* Гейне Г. Мысли и афоризмы. М., ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 100.
20-х годов обосновавшаяся именно в Пезаро*, общалась со многими выдающимися певцами прошлых лет. Отец Марио, Этторе дель Монако, сделал все, чтобы его сын смог получить достойное музыкальное образование и стать певцом.
А вот и другой пример. Джузеппе ди Стефано вспоминает, что когда он еще был мальчиком, его карьеру и развитие как вокалиста предсказал знаменитый Франческо Мерли (первый исполнитель партии Калафа в Риме и Лондоне; запись «Турандот» с ним, Джиной Чиньей, Магдой Оливеро и Лучано Нерони принадлежит к вершинам воплощения оперы Пуччини). А в девятнадцатилетнем возрасте Пиппо (эта несколько фамильярная форма имени певца закрепилась за ним на долгие годы) дружил с такими мастерами вокала, как баритоны Луиджи Монтесанто и Мариано Стабиле. Таким образом, к своему дебюту на оперной сцене в 1946 году молодой певец имел не только прекрасный голос, но и бесценный опыт общения с профессионалами высочайшего уровня.
Иногда человек, решивший заняться вокалом, необходимую подготовку мог получить прямо в семье. Например, немецкий певец Вольфганг Виндгассен был сыном оперных исполнителей – его отец был тенором (этот тип голоса он передал по наследству и сыну), а мать – колоратурным сопрано. Но, конечно, самый характерный пример здесь Юсси Бьёрлинг, который принадлежал к целой династии вокалистов и впервые вышел на подмостки еще в детстве.
Безусловно, намного проще было начинать занятия пением при уже имевшемся музыкальном образовании. Тереса Берганса, Рената Тебальди, Мария Каллас поначалу учились игре на фортепиано и подумывали именно с этим инструментом связать свою судьбу. Замечательный немецкий бас-баритон Ханс Хоттер работал до начала вокальной карьеры органистом.
* «На выбор отца, – вспоминал позднее Марио дель Монако, – повлияла именно любовь к музыке. В Пезаро находился прекрасный музыкальный лицей, и история города тесно переплеталась с историей музыки» (Монако Марио дель. Моя жизнь, мои успехи. М., Радуга, 1987. С. 28).
Тем не менее, то, что Франко Корелли пришел к оперному исполнительству, имея техническую специальность, не было событием экстраординарным. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать очерк «Откуда приходят на оперную сцену?», включенный в книгу «Вечно чарующая муза, или еще об опере» польских исследователей и знатоков музыкального театра Эвы и Януша Лентовских.
Как это зачастую бывает в обеспеченных и респектабельных семьях, родители Корелли не особо поощряли интерес сына к вокальным штудиям. Может быть, этому была виной и некоторая нестабильность положения оперных певцов, материальное благополучие которых зачастую чересчур зависело от фортуны.
Конечно, у всех перед глазами был пример великого земляка Корелли – Беньямино Джильи, сумевшего благодаря своему удивительному пению сколотить сказочное состояние, о котором ходили легенды. Впрочем, эти легенды имели под собой вполне реальную основу.
О материальной стороне жизни перворазрядных теноров можно судить хотя бы по такому факту. В 1927 году, то есть через тринадцать лет после начала карьеры, Беньямино Джильи (как мы помним, в молодые годы он начинал трудовую жизнь помощником аптекаря) въезжает в специально отстроенный для него дом в родном Реканати. Вот как его описывает сам певец: «В доме было шестьдесят жилых комнат, двадцать три ванных комнаты, бассейн, римская баня и водопровод. В кухне стоял холодильник таких размеров, что в нем можно было хранить годовой запас продуктов на двадцать человек… Мои владения в то время (впоследствии они еще увеличились) составляли около трех с половиной тысяч гектаров земли и семь больших сельскохозяйственных ферм, связанных между собой восьмьюдесятью километрами специально построенных дорог»*.
Однако были и совсем другие случаи. В расположенном неподалеку от Анконы Пезаро, население которого к началу 30-х годов не превышало пятидесяти тысяч человек, можно было встретить немало известных в прошлом артистов, и их судьба становилась предметом оживленного обсуждения сограждан. Так, например, в Пезаро обосновался покинувший в 1927 году сцену Алессандро Бончи (который, ко всему прочему, был одним из первых, кто поддержал в стремлении получить хорошую музыкальную подготовку совсем еще молодого Джильи). С Бончи неоднократно встречался юный Марио дель Монако, оставивший колоритный рассказ о том, как проводил последние дни жизни легендарный тенор: «Мир театра и оперы был одновременно и притягательным, и безжалостным. Тут можно было снискать огромную славу или, наоборот, попасть в полную немилость у публики. А можно было так никогда и не повстречаться с настоящей удачей. В том Пезаро, который я знал, жили известные тенора. Один из них, Алессандро Бончи – можно сказать, олицетворенный миф – в свое время сводил с ума партеры всего мира и был самым грозным соперником Карузо. Когда я познакомился с Бончи в доме у его внучки, моей подруги, ему было уже шестьдесят четыре года. Он спел нам арию «Вот я и у предела» из «Мефистофеля» Бой-то. Однако исполнение, по-моему, не отличалось совершенством. И несмотря ни на что, Бончи сохранял обаяние своей славы. Одевался он эксцентрично – редингот, галстук a la дипломат с бриллиантовой заколкой, брюки дудочкой, лакированные туфли с белыми гамашами. В этом чуть старомодном одеянии он выглядел неповторимо. Высокие каблуки, прибавлявшие несколько сантиметров к его невыгодному росту, трость из черного дерева с набалдашником слоновой кости, темно-серый котелок из Лондона, – все это как бы подчеркивало прошлое величие артиста.
* Джильи Б. Воспоминания. Л., Музыка, 1964. С. 257 – 258. Как с горечью вспоминает дочь певца Рима Джильи, после смерти великого тенора от всего этого великолепия очень скоро ничего не осталось (см. об этом в ее книге «Мой отец – Беньямино Джильи», отрывки из которой опубликованы в новом издании воспоминаний тенора: Джильи Б. Я не хотел жить в тени Карузо. М., Классика – XXI, 2001. С. 284 – 293).
На самом деле Бончи был гол как сокол. Он охотно рассказывал о своей жизни, но лишь о первой ее части. Сын переселившегося из Чезены в Фано сапожника, юный Бончи дважды в неделю ходил пешком за двенадцать километров в Пезаро Фано на уроки к знаменитому преподавателю вокала маэстро Коэну, преемнику великого Делле Седье. Жизнь Бончи украшали галантные приключения. Такие, например, как бегство в большом автомобиле десятых годов с юной флорентийской поклонницей. Затем пришли годы неудач и упадка. Но, подобно другим, Бончи об этом не распространялся. Он чем-то походил на Пьеро Скьявацци, любимого тенора Масканьи и всех композиторов-веристов. Скьявацци славился в Пезаро своими королевскими чаевыми. В 1910 году было принято одаривать сотней лир подавшего шубу официанта, хотя сто лир по тем временам равнялись хорошей месячной зарплате.




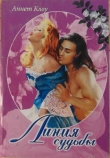

![Книга Вампир — граф Дракула [редакция 1912 г.] автора Брэм Стокер](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-vampir-graf-drakula-redakciya-1912-g.-69978.jpg)