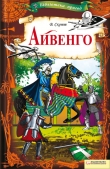Текст книги "Ричард Львиное Сердце: Поющий король"
Автор книги: Александр Сегень
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Глава одиннадцатая
ИФИГЕНИЯ В МЕССИНЕ
С наступлением Рождественского поста жизнь в греческом монастыре наступила строгая. «Но это и хорошо!» – сказал сам себе Ричард. Он твердо решил говеть вместе с монахами в том же смирении, которое проявляли они, хотя епископ Бове все больше выражал неудовольствия по поводу дружбы короля Англии со схизматиками [47]47
От «схизма» – разделение церквей на Православную и Католическую, традиционно датируется 1054 г.
[Закрыть]. Прошла неделя, другая, Ричарду понравилось довольствоваться лишь малосольной рыбой и легким пивом, которое дозволялось греками по воскресеньям. Он помногу молился и даже работал вместе с монахами, помогая им таскать строительные камни. К празднику Николая Мирликийского на Сицилии выпал снег, а в монастыре закончилось строительство гостиного дома, в коем Ричард намеревался прожить до весны. Каждое утро его львиное сердце наполнялось радостью от того, что сыпь на теле все больше и больше отступает прочь, что близятся радостные дни – скоро придет ответ от короля Санчо, можно будет сыграть свадьбу, а затем отправиться в Святую Землю.
Накануне Рождества в Мессину возвратился Гуго де Фонтеней. Его сопровождали трое наваррских рыцарей с небольшим отрядом лучников и пращников в тридцать человек. Кабальеро дон Антонио Никомедес д’Эстелья, сорокалетний исполин, возглавляющий это наваррское войско, торжественно вручил Ричарду письменное послание от короля Санчо. Сорвав печать с изображением восьмиконечной звезды, король Англии в великом волнении развернул свернутый в трубу пергамент и первым делом выхватил из всего написанного слова «великая честь» и «согласие», потом только прочел все с начала до конца, уже более спокойно. Конечно, другого ответа и не ожидалось, но неизвестно, каких чудовищных сплетен мог наслушаться о Ричарде король Санчо за последнее время!
– Что, эн Ришар? – спросила подошедшая Беренгария.
– Он благословляет наш брак! – воскликнул Ричард, целуя сначала пергамент, потом невесту. – Он называет меня великим государем, с коим породниться – великая честь. Вы слышите? Вы, все!
Ближайшие соратники Ричарда стали подходить к жениху и невесте с поздравлениями. Осмелился подойти и Гуго де Фонтеней:
– Ваше величество, позвольте доложить вам, что с нами вместе прибыло трое знаменитых жонглеров – Пумпидон, Аек и Жантиль. Они умирали от тоски и голода в Неаполе. Представления ввиду поста воспрещены, а деньжонки у них растаяли. У Пумпидона есть весьма любопытное предложение для вашего величества, ради которого мы, собственно, и прихватили троих лицедеев сюда. Позвольте актеру высказаться.
– Я готов его выслушать.
Перед Ричардом вырос высокий тощий бородач, низко поклонился, поцеловал королю руку.
– Как бишь тебя? Пумпидон? Что за странное имя?
– О нет, мой государь, не Пумпидон, – заговорил жонглер возвышенным тоном. – Как мог бы я носить такое имя и с ним предстать пред вашими очами? Признаюсь вам – меня зовут Калхант [48]48
Калхант – в греческой мифологии прорицатель из Микен, сын Феона, внук Аполлона, от которого получил дар прорицания.
[Закрыть].
– Калхант? Ну что ж, пусть будет так, – усмехнулся Ричард, предвкушая какую-то забавную игру. – Зачем же ты предстал пред нашим светлым взором, внук Аполлона, строгий жрец Микен? Ну, не томи – что будешь прорицать?
Жонглер выпрямился во весь рост, выставил вперед ногу и заговорил:
– Явился я к тебе, о Агамемнон, чтобы сказать: несчастье, грозный царь! Молись хоть сто ночей, не засыпая. Натрись везувиевой сажей, голодай. И вместо пива снегом утоляйся. Ничто не сдвинет корабли ахейцев с авлидских, ставших цепкими, причалов, покуда ты, о доблестный и смелый…
– Понятно, понятно! – замахал рукой Ричард, – Здорово придумано! Ты поняла, милая Беранжера? Они хотят разыграть здесь авлидскую трагедию, дабы задобрить морских богов и усмирить море, чтобы мы могли двигаться дальше к Святой Земле.
– Да, я тоже поняла это, – кивнула Беренгария, – Почти сразу, как только Пумпидон назвался Калхантом. Но только как же вы, любезный Калхант, намерены разыгрывать свое лицедейство, ведь вас только трое? Где вы возьмете других актеров? Кто будет играть Клитемнестру, Ифигению? Да и мужских лиц должно быть больше. Допустим, вы сыграете Калханта. Двое других ваших спутников – Ахилла и Агамемнона. Но ведь там еще есть Менелай… Еще кто-то, если я не ошибаюсь…
– Клитемнестру может сыграть моя матушка, – возразил Ричард, – Ифигению – ты, Беранжера. А я, будучи твоим женихом, – жениха Ифигении, Ахилла. А кроме Менелая и Одиссея, там и не нужно иных лиц.
– Побойтесь Бога, что вы говорите, жених мой! – воскликнула Беренгария. – Зачем искушать судьбу? Вам играть Ахилла, а мне – Ифигению? А что, если Бог разгневается на нас за такое представление – возьмет да и впрямь унесет меня навечно в Тавриду? [49]49
…унесет меня навечно в Тавриду? – Ифигения, дочь Агамемнона и Клитемнестры, в момент жертвоприношения была похищена с алтаря Артемидой, заменившей ее ланью, и перенесена в Тавриду, где стала жрицей в храме Артемиды.
[Закрыть]
Ричард задумался.
– Принцесса права, – сказал Калхант. – Незачем испытывать судьбу. Нас трое, но этого вполне достаточно. Наш Жантиль [50]50
Жантиль ( фр. Gentill) – малышка.
[Закрыть]не случайно носит такое прозвище – он способен сыграть самую нежную девушку, равно как и трепетную мать семейства.
– А лань? – ехидно спросил Ричард.
– Может и лань, – не моргнув глазом ответил жонглер. – Но, я надеюсь, здесь, на Сицилии, еще можно раздобыть настоящую лань. В крайнем случае, заменим ее обыкновенной козой. Я могу одновременно играть и Калханта и Менелая. Жонглер Аек – и Ахилла и Одиссея. А вот Агамемнона… Ваше величество, мы знаем о дарованиях, ниспосланных на вас Богом. Знаем, что вы способны не только играть в представлении, но и на ходу выдумывать роль.
– Стало быть, вы хотите, чтобы я играл Агамемнона?
– Да, именно вы. И кто знает, может быть, тогда и ваши корабли, подобно судам ахейским, отчалившим от Авлиды, тронутся из мессинской гавани.
– Что ж, я согласен, – ответил Ричард. – Сыграю Агамемнона и принесу в жертву Артемиде жонглера Жантиля. Сразу после Рождества мы объявим об ответе короля Наварры и устроим веселое представление.
– Ничего себе веселое! – усмехнулась Беренгария.
– Ну не грустное же! – простодушно сказал король Англии, вновь целуя в щеку свою невесту.
Никогда еще Рождество не было таким счастливым и радостным в жизни у Ричарда. Кончился пост, который он впервые выдержал в строгости, подобно монаху. Сыпь явно отступала, и количество прыщей было теперь таким же, как три месяца назад, когда король Англии плыл на кораблике в Мессину. Он даже подумывал о том, чтобы не дожидаться бракосочетания. Разве кто-то узнает об этом?.. Он и Беренгария жили теперь в одном доме, только что построенном странноприимном приюте, хотя и в разных комнатах. По вечерам они встречались, подолгу беседовали у огня, и всякий раз, расставаясь с нею, он помышлял о том, чтобы ночью тайком пробраться в ее опочивальню. Но она ни разу не сделала намека на то, что жаждет этого, и он все не решался и не решался, не узнавая в этой нерешительности самого себя. И он радовался этому робкому влюбленному Ричарду, хранящему невинность своей невесты.
Лишь погода оставалась безрадостной – то мокрый снег, то дождливая слякоть. Пора, пора было приносить в жертву Ифигению!
Наконец наступил праздник.
– Ну вот, Шарлемань, – опоясываясь мечом и разговаривая с ним, как с Карлом Великим, говорил Ричард пред зеркалом, – наступило твое разлюбезное Рождество, Новый год. Ведь ты, сказывают, считал его главным событием года, даже главнее Светлой Пасхи.
После долгой всенощной и разговения вечером двадцать пятого декабря жонглеры давали представление в ставке короля Франции, ибо греческие монахи конечно же не потерпели бы в пределах своей обители языческого зрелища. Правда, игумен, зная о предстоящем лицедействе, ничего не сказал Ричарду.
Ричард, изображающий царя Агамемнона, не готовился к своей роли. В том состояла особенность представления – он должен был произносить слова ахейского государя с ходу, выдумывая их на лету. Никто не поверил бы, что такое возможно, если бы не знали Ричарда.
И вот началось действо.
Первым делом появился царь Мизии, сын Геракла и Авги, Телеф, которого играл жонглер Пумпидон. Телеф, раненный Ахиллом, узнал у Дельфийского оракула, что его гноящуюся рану может исцелить лишь тот, кто сам ее нанес. И вот, одетый в лохмотья, на костылях, под видом нищего, он явился в Микены к Агамемнону, чтобы тот поговорил с Ахиллом насчет Телефовой раны. Тут Телефа встретила жена Агамемнона, Клитемнестра, которую играл Жантиль. Горестный Телеф принялся показывать царице Микен свою гноящуюся рану, пытаясь ее разжалобить. Жантиль довольно забавно изобразил отвращение, испытанное Клитемнестрой, по поводу гнилого запаха. Тогда Телеф напомнил о том, что именно Агамемнон застрелил священную лань Артемиды и что именно молоком этой лани был некогда Телеф вскормлен. Но он готов простить Агамемнона, если тот уговорит Ахилла посодействовать в исцелении раны.
Тут Жантиль изобразил на лице озарение и голосом Клитемнестры принялся советовать Телефу такое, чего ни одна хорошая мать не посоветовала бы, а именно:
– Когда же он отказываться станет, хватай из колыбельки ты Ореста, которого недавно я так славно царю Микен на радость родила. Хватай его и – к жертвеннику тотчас. Кричи, сколь будет сил, что головенку младенчика ты тотчас размозжишь, когда не согласится Агамемнон и в этот раз с Ахиллом говорить.
– А что мне делать, коль не согласится? – озадаченно спросил Телеф. – Неужто взять и размозжить головку?
Тут Клитемнестра его успокоила тем, что только Телеф может указать грекам путь к Трое, а Агамемнон это знает и вынужден будет войти с Телефом в союз.
Ричард, одетый Агамемноном, сидел рядом с Филиппом-Августом и пока что был зрителем.
– Младенца-то настоящего будете мучить? – ехидно спросил его король Франции.
– Да, одолжили за деньги у одной крестьянки, – ответил Ричард.
– А ты не соглашайся помогать этому гнилому, – предложил вдруг Филипп-Август. – Пусть он укокошит младенца. Кто тогда впоследствии убьет Клитемнестру, если Ореста прикончат в младенчестве?
– Жалко крестьянку, – возразил Ричард.
Вскоре ему надлежало вступить в действо. И вот, когда Телеф схватил ребеночка и стал размахивать им пред жертвенником, Агамемнон в исполнении Ричарда вдруг заговорил не то, что надо:
– Ну что ж, Телеф, убей, убей младенца! Другого Клитемнестра мне родит. И третьего, и пятого, и больше. Неужто думаешь, что смог ты запугать нас этим глупым, подлым лицедейством?
– Убить? – растерянно промолвил Телеф. – Ну что ж, убью! Убью Ореста! Младенца жаль, но нечего мне делать. Так убивать?..
– Пожалуй что, убей. Ну что же медлишь?
Руки задрожали…
– Убью! Не пожалею юных лет!
– Каких там лет! Ему три месяца всего лишь.
– Всего лишь три? А выглядит он старше…
Ребеночку сицилийской крестьянки, купленному на время ради представления, было с виду года полтора. На лицах у зрителей замелькали невольные улыбки. Элеонора и вовсе рассмеялась, что никак не соответствовало трагедии.
– Так что ж, Телеф, ты будешь убивать? – вопросил Агамемнон строго и насмешливо одновременно.
– Мне жаль его, и все-таки – убью! – растерянно промолвил жонглер Пумпидон, исполняющий роль Телефа.
В этот миг ребеночек, которому явно не по душе было все происходящее, пустил струю на грудь своего мучителя. Зрители ответили уже нескрываемым смехом.
Тут и сам Ричард стал еле сдерживаться от хохота, который распирал ему все нутро. С трудом сохраняя трагический вид, он продолжал с лету сочинять:
– Теперь уж не убьешь, Телеф, ребенка. Ведь знаю я – есть в Мизии у вас обычай строгий: ежели младенец струей своей горячей оросит кого б то ни было, тот самый орошенный отныне и до века должен быть младенцу этому хранителем и другом. Клади назад Ореста в колыбельку. Мой сын замерз. Струя тому свидетель.
Не обладая даром сочинять с ходу, жонглер Пумпидон молча положил младенчика в колыбель, ожидая, что дальше скажет Агамемнон-Ричард. Тот улыбнулся, радуясь спасению малыша, и произнес:
– Вот видишь, громовержец, как бывает! Твой сын, Геракл доблестный, сверкал, сияньем славы озаряя всю Элладу. А сын Геракла, Зевса внук, Телеф, не только в бегство обращен Ахиллом, не только ранен им в дрожащее бедро, но также и младенцем несмышленым, сыночком дорогим моим, Орестом, был только что позорно увлажнен. Но не грусти, Телеф, отныне Агамемнон твоим становится хранителем и другом, как ты – Оресту.
– Правда, государь?! – вставил наконец свое слово Пумпидон.
– Да, Гераклид, – кивнул Агамемнон – Львиное Сердце. – Немедленно к Ахиллу отправлю я гонца, и пусть прибудет Пелеев сын сюда ко мне, в Микены. Тебе ж я поручаю неотступно сидеть над колыбелькою Ореста, храня его покой и безопасность. Сам я сейчас пойду к одной красотке, но перед тем ты должен обещать, что ежели Ахилл тебе поможет и рану исцелит твою гнилую, проводником ты будешь нашим в Трою. Клянешься ль ты мне в том, мизийский царь?
– Клянусь, Атрид, клянусь! Да будет Зевс свидетель! – воскликнул Пумпидон, радуясь, что представление вернулось к своему заведомому ходу.
– Спокойно я могу теперь уйти, чтоб повидать прекраснейшую нимфу, – облегченно вздохнув, произнес Агамемнон. – Одно прошу: ни слова Клитемнестре.
С этими словами под гром рукоплесканий Ричард оставил лицедейское поприще, подошел к Беренгарии, поцеловал ее руку и сел рядом с ней.
– Так вы все-таки женаты, государь! – с шутливым упреком молвила Беренгария. – Да еще такая жена! Сама Клитемнестра, одна из самых жестоких женщин. Я ее боюсь.
– Стало быть, я недурно играл, коль вы поверили, что я муж Клитемнестры, – удовлетворенно отметил король Англии.
Действо тем временем продолжалось. Явился Аек, исполняющий роль Ахилла. Одиссей уже успел научить его, как вылечить рану Телефа, – железом с копья, которым та рана была нанесена. Наскоблив железных опилок, посыпали им гниющее бедро царя Мизии, и тому стало сразу легче. Он обнял своего бывшего непримиримого врага и поклялся сопровождать греков к берегам Трои.
Дальше все разыгрывалось в соответствии с древним сказанием. Калхант пророчествовал об искупительной жертве, которую Агамемнон должен был принести, чтобы Артемида простила ему убийство священной лани и смирила неистовую бурю, из-за которой корабли ахейцев не могли отплыть от Авлиды. Агамемнон сокрушался о дочери своей, Ифигении, которую и следовало закласть, он пытался как-нибудь спасти ее, хотя время от времени и проскальзывало, что его гораздо больше заботит некая «прекраснейшая нимфа». Менелай, которого тоже играл Аек, укорял Агамемнона в малодушии. С другой стороны, Ахилл, в исполнении того же Аека, возмущался тем, что Ифигения назначена в жертву, в то время как она обещана ему в жены. В стане начались беспорядки. Ахилл едва избежал смерти от мирмидонян, когда те прознали, что он не дает принести в жертву свою невесту. При этом Агамемнон-Ричард заметил, что и он бы ни за что не принес в жертву суженую. Однако все, как водится, взяла на себя воплощенная невинность – сама Ифигения, объявившая, что если условие Артемиды не будет выполнено, она своими руками принесет себя в жертву и зарежется.
Чем ближе к концу, тем более величественным становилось представление. Никто уже не помнил о смешной сцене орошения Телефа младенцем Орестом. Ричард, играя Агамемнона, перестал ерничать, искренне изображая скорбь по поводу готовящегося жертвоприношения. Жантиль, наряженный и накрашенный под Ифигению, являл собой образ красивой девушки, и для любого несведущего было бы удивительно узнать, что это не девушка, а юноша. Восклицая о том, что лучшим памятником для несчастной Ифигении станут развалины Трои, Жантиль недвусмысленно указывал на восток, в сторону продолжающего бушевать моря, и все в эти мгновения думали не о Трое, а об Иерусалиме, не о Гекторе и Парисе, а о грозном султане Саладине.
И вот подошло заключительное действо, когда Ифигению подвезли к жертвеннику и в гробовой тишине вещий Калхант появился с кинжалом. Воззвав к Артемиде, да поможет она отплыть из Авлиды, он стал приближаться к Ифигении, которую пред тем накрыли широким платком и усадили пред жертвенником. И сквозь этот платок жонглер Пумпидон нанес несколько кинжальных ударов. Зрители в ужасе вскрикнули, а когда платок был сдернут, крики ужаса сменились удивленными восклицаниями – там, истекая кровью, билась в предсмертных судорогах связанная лань. Никто не мог понять, как и когда жонглера Жантиля, исполняющего роль Ифигении, подменили на несчастное животное, но именно этот фокус составлял предмет особой гордости Пумпидона.
Тут заиграла лютня, и король Англии Ричард Львиное Сердце Плантагенет торжественно запел:
Чудо свершилось на наших глазах:
Девушка спасена.
Самой Артемидой в единый взмах
В Тавриду отнесена.
Чудо еще и в том, что мы —
Те же, что были тогда,
Лишь вместо Трои волнуют умы
Иные теперь города.
И Агамемнона зовут Ришар,
Ахилла – Филипп-Огюст.
В сердцах у обоих – священный жар,
Молитвы слетают с уст.
И где-то за морем – Иерусалим,
Город сладчайших грез.
И не Зевс Громовержец стоит над ним,
А сам Спаситель – Христос!
Этой сирвентой закончилось представление. Филипп-Август, тронутый тем, что Ричард сравнил его с Ахиллом, наконец-то расчувствовался и крепко обнял короля Англии, шепча уверения в вечной любви и дружбе. Обнимаясь с королем Франции, Ричард мельком увидел отвратительное лицо сенешаля тамплиеров Жана де Жизора, которое тотчас исчезло за спинами других рыцарей, рвущихся поздравить короля Англии с блестящим исполнительским успехом.
Тем временем слуги быстро разделывали закланную вместо жонглера Жантиля лань, нанизывали маленькие кусочки на тонкие вертелы, обжаривали их и раздавали всем, кто присутствовал при свершившемся жертвоприношении. Лучшие куски конечно же были поданы королям Англии и Франции.
– Вкусно так, будто это и впрямь лань, подсунутая Артемидой, – похвалил жаркое Филипп-Август.
– Рождественская лань, закланная в Мессине… – бормотал начало новой кансоны вдохновенный Ричард.
– Как много вкуса в ее жареной мясине, – продолжил король Франции и чуть не задохнулся от хохота, радуясь тому, как удачно получилось. – Может быть, и мне заняться сочинительством? А, Уино?
– Займись, Филу, займись, – отвечала вместо сына Элеонора. – Ужасно не хватает виконта де Туара, несравненного Клитора.
– К тому же в слове Клитор присутствует лилия [51]51
По-французски «лилия» (lis) звучит как «ли».
[Закрыть], – добавил король Англии.
Глава двенадцатая
ЕЩЕ ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА В СИЦИЛИЙСКОЙ АВЛИДЕ
Увы, ожидаемого рождественская лань не принесла. Погода по-прежнему стояла ненастная. С наступлением января влажные холода еще больше усилились, крестоносцы мерзли, и теперь уже оба короля не щадили денег на закупку винного обогрева. В начале февраля, на Сретенской неделе, епископ Филипп Бове явился к Ричарду и откровенно объявил ему следующее:
– Ваше величество, видя безобразия, коими покрыло себя крестоносное воинство на Сицилии, я не вправе больше отмалчиваться. Меня возмущало то, что весь Рождественский пост вы пребывали в тесном общении со схизматиками-греками, постились по их обычаям, участвовали в их богослужениях и молебнах, получали от них благословения. Куда более возмутительно языческое лицедейство, устроенное вами в светлый праздник Рождества Христова. Душа моя омрачилась и клокотала, когда я узнал о нем. Особенно постыдно ваше личное участие в этом позорище, окончившемся ни много ни мало – жертвоприношением. В каком веке мы живем? Ужель в двенадцатом после явления Спасителя? Ужель не во времена поганого Нерона?
– Но ведь богословы сравнивают новозаветные события с ветхозаветными, – пытался возразить Ричард, понимая, что гнев епископа справедлив.
– Ветхий Завет – священная книга, – возмущенно отвечал Бове. – Ветхий Завет – земная тень Нового Завета. Языческие же предания эллинов – мерзость для христианина.
– Но ведь апостол Павел говорит: «ни эллина, ни иудея», как бы приравнивая эллинские предания к ветхозаветным, – вновь оборонялся король Англии.
– Вот и следовало бы вам избегать каких-либо как иудейских, так и эллинских проявлений, – раздувая гневно ноздри, отвечал епископ. – Почему рождественские увеселения превратились в безобразное пьянство, которое мы можем наблюдать и по сей день в вашем стане?
– Люди мерзнут…
– Не в холодах дело, а в проклятом изречении, начертанном на знамени самого короля Англии, – вспомнил о предмете своего возмущения епископ. – Опомнитесь, ваше величество! Скоро наступит Великий пост…
– Еще только через три недели…
– Это и есть скоро! Прекратите подачу вина крестоносцам. Скоро уже установится хорошая погода, и как только это произойдет… Впрочем, должен вам сообщить, ваше величество, что я направил его святейшеству послание с просьбой освободить вас от крестоносного обета и запретить возглавлять дальнейшее движение в Святую Землю.
– Вот как?! Только меня? А короля Франции?
– Он менее развратен, чем вы.
– Разве? Разве в его лагере не тем же согреваются, чем и у меня? Разве Филипп-Август не был зрителем языческого позорища, как изволили вы выразиться?
– Всего лишь зрителем. Причем он признался, что ему было глубоко противно. Он исповедался мне, и я снял с него сей страшный грех.
– Ах, даже так?..
– Да, так. И пьют в его лагере гораздо меньше. Действительно ради обогрева, а не как у вас – чтобы увидеть некого языческого бога. Должно быть, Бахуса.
– О Господи! – только и оставалось воскликнуть Ричарду.
– Пребывание вашей матери меня тоже смущает, – продолжал епископ. – Всем известно ее пагубное влияние на вас. Ведь Элеонора, насколько мне ведомо, вообще лишь недавно стала причащаться, прожив всю свою жизнь в беспутстве. Ей бы следовало возвратиться в женскую обитель, в которой только-только начала просыпаться ее душа, а не обретать новое веселье в бражном лагере своего сына. Все это я высказал в своей петиции.
– Петиции? Стало быть, это послание было подписано не только вами? Кем же еще, позвольте вас спросить? А впрочем, я могу и сам догадаться. Подпись сенешаля тамплиеров стояла там?
– Спросите об этом самого сенешаля.
– А король Франции? Может быть, он тоже соизволил подписать донос на меня?
– Нет, я не настаивал на том, чтобы он поставил свою подпись, – признался епископ. – Но он участвовал в обсуждении петиции и даже внес одно важное дополнение.
– Какое же?
– Такое, что король Англии за один январь нового года выдал своим людям больше денег, чем любой другой из его предшественников на английском престоле расщедривался выдавать за целый год.
– Вранье! – взбесился Ричард. – Так вот твоя благодарность, Филу! А я-то тебя с Ахиллом…
– Вот именно, – усмехнулся епископ. – Совершенно напрасно вы награждаете себя прозвищем Агамемнона, а благоверного короля Франции именуете каким-то там Ахиллом. Могли бы поискать соответствий среди выдающихся подвижников христианства. Прощайте, ваше величество. Надеюсь, вы сделаете правильные выводы из всего сказанного мною.
– Я уже сделал главный вывод, – сказал Ричард. – Главный и окончательный – что королю Франции больше нельзя доверять ни на грош. Хотя это так больно…
– Он, быть может, единственный ваш искренний друг, желающий вам только добра, – возразил епископ. – Только такой друг, как он, способен правильно расценивать пагубность ваших грехов и заблуждений.
После этого разговора король Франции стал предпринимать попытки помириться, но на сей раз Ричард был непоколебим в своем решении раз и навсегда отделить собственную судьбу от судьбы бывшего любимого друга.
Свадьба с Беренгарией вновь откладывалась. Ричард уже изнемогал от нетерпения поскорее жениться на девушке, любовь к которой не в силах были остудить февральские средиземноморские ветры. Но он прекрасно понимал, что свадьба накануне Великого поста непременно вызовет новый выплеск гнева со стороны епископа Бове, и если покамест Папа отклонил петицию о снятии с Ричарда крестоносного обета, кто знает, как он поступит, если ему донесут, что Ричард женился на масленице и продолжал пьянствовать с наступлением первой Великопостной седмицы?
Незадолго до масленицы Филипп-Август и Ричард все же встретились. Обсудив с королем Англии насущные дела, король Франции в присутствии многих славных рыцарей заявил:
– Будучи родным братом принцессы Алисы, я вынужден потребовать от короля Ричарда исполнения своих обязательств пред нею.
– Нельзя ли нам обсудить это щекотливое дельце с глазу на глаз? – внутренне напрягаясь, спросил Ричард.
Филипп согласился, и когда двое королей остались наедине друг с другом, Ричард, вне себя от ярости, проскрежетал:
– Ты опять за свое, Филу! Какого черта! Почему я должен ставить в свое стойло эту заезженную лошадь, на которой только ленивый не катался, начиная с моего покойного батюшки, да уменьшат ему огонек! Ты этих слов от меня добивался? Так получи же их!
– Называть мою сестру лошадью!.. – весь задрожал от возмущения Филипп-Август. – Этак ты и меня, чего доброго, назовешь лошаком!
– И назову, если ты не перестанешь занудствовать. Признайся, ты просто сгораешь от зависти, что у меня такая красивая невеста. Я так счастлив, Филу. Скоро у меня совсем исчезнут прыщи, и тогда…
– Значит, ты нагло плюешь и на мою сестру, и на меня самого? После этого объявляю тебе: я знать тебя не желаю!
Ссора отныне становилась окончательной и бесповоротной. Миновала масленица, во время которой Ричард старался изо всех сил ограничивать себя в увеселениях, наступило Прощеное воскресенье, и душа короля Англии наполнилась желанием помириться с королем Франции. «В последний раз! В самый последний раз!» – пообещал он самому себе и лично отправился просить прощения у Филиппа за то, что обозвал его сестру лошадью.
Филипп принял его не вполне трезвым, в минуту, когда королю Франции хотелось чего-то жалостного, и примирение произошло.
– Филу, – говорил Ричард, обнимая своего бывшего закадычного друга, – ты жаловался Папе, что я много трачу, что я в один месяц потратил больше, чем любой другой король Англии в целый год? Я готов заплатить твоей сестре откупное в размере своих годовых расходов. Годится?
– Хорошо, Уино, хорошо! – всхлипывал Филипп-Август. – Я согласен и на половину названной тобой суммы.
– Ты мой дорогой! За это следует выпить! Завтра уже Великий пост, – расплывался от счастья, что мир налажен, Ричард, а осушив еще два-три кубка, продолжал одаривать короля Франции: – Ты помнишь, Филу, как мы срубили жизорский вяз? Как это было весело!
– Да, очень весело, Уино, очень!
– Собственно говоря, это ведь ты его срубил, Филу, ты! Я только сражался на твоей стороне. Знаешь ли что, друг мой? Я дарю тебе Жизор. Слово короля! Отныне Жизор – твой. К тому же мне никогда не нравилось это место.
– На те, Боже, что мне не гоже, – усмехнулся Филипп-Август.
– Да? Ты так рассуждаешь, негодник? В таком случае вот тебе еще в придачу к Жизору – Венсен! Владей, Филу, и помни мою веселую щедрость! Только бы ты не дулся на меня из-за своей ло… сестрицы, а там – я на все готов ради нашей дружбы.
С наступлением марта на Сицилии наконец-то установилась хорошая погода, засветило солнце, а на второй Великопостной седмице и море стало стихать. В становищах крестоносцев начались приготовления к отплытию.
– Рождественская лань наконец-то переварилась в наших желудках, – весело говорил Ричард.
Он еще больше похудел, потому что, соблюдая пост, вообще почти не ел ничего и постоянно молился о счастливой судьбе грядущего похода, о том, чтобы этим летом отвоевать Иерусалим у Саладина. Чем больше он думал о поведении короля Франции, тем меньше радости вызывало в нем состоявшееся примирение. Теперь он отдавал себе отчет в том, что, пожалуй, лучше было бы оставаться в неладах с Филиппом. В свете грядущего похода он видел, какой обузой станет для него завистливый дружок. Мало того, Филипп и дальше будет примазываться к его военной славе и силе, добычу придется делить с ним пополам, а потери брать на себя. Он понимал, в Великий пост надо смиряться с ближними своими, но понимал также и то, что дальнейшее потакание королю Франции есть несправедливое оскорбление своих подданных. Вот почему, видя, как быстро приготовился в отплытию небольшой флот Филиппа, Ричард намеренно не спешил, говоря, что у него пока еще не все готово. Наконец Филипп решил, что будет красиво, если он первым покинет Сицилию, тем самым как бы показывая пример Ричарду. В предпоследний день марта он попрощался с берегами Тринакрии и взошел на борт легкого судна. Прощаясь с Ричардом, он держался несколько высокомерно, всем своим видом показывая, что именно он, Филипп-Август, главный вождь этого крестового похода.
А Ричард думал о том, по-другому бы он относился к капризам Филиппа, происходи все сегодняшнее год тому назад. Да он бы просто не позволил Филиппу отплывать без него. Теперь же, хоть и щемило в сердце, разум удерживал короля Англии от проявлений недовольства. Единственное, что он позволил себе, так это сказать:
– Ахилл покидает Амиду прежде Агамемнона. Хорошего плавания тебе, старина Филу. Постараюсь тебя догнать.
И тут же подумал, что как раз нисколько не следует спешить. Пусть Филипп первым приплывет в Святую Землю и начнет там скучать. Ведь приступить к военным действиям он не осмелится, и всем будет видно, что он ждет Ричарда, без коего ему никак не обойтись.
Через пару дней после отплытия короля Франции Ричарду было доложено, что флот полностью готов к отправке, но Ричард повелел еще раз произвести тщательнейшую проверку состояния всех своих боевых сил. Робер де Шомон с неудовольствием проворчал:
– Через пять дней – Вход Господень в Иерусалим. Чего доброго, король Франции получит благословение свыше и быстро долетит до Святой Земли.
– И что? – хмыкнул Ричард. – Войдет в Иерусалим на белом осляти? Не смеши меня, Кёрдур, Филу – не Господь!
– Да уж, далеко не Господь, – согласился тамплиер.
В Лазареву субботу Ричарду еще раз было доложено о полной готовности кораблей и воинства к отплытию из Мессины. Но на другой день море снова разгулялось. Лишь к вечеру Великого вторника на небе вновь засияло жаркое весеннее солнце и валы волн ушли на восток, зазывая крестоносцев следовать за ними. Выйдя на берег вдвоем с Беренгарией, Ричард вдыхал полной грудью зовущий морской воздух, чувствуя во всем теле великопостную легкость, и сказал счастливым голосом:
– Завтра, любовь моя!