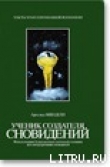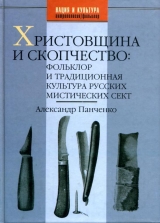
Текст книги "Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект"
Автор книги: Александр Панченко
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц)
Вместе с тем стоит задуматься о том, какое впечатление производили на крестьянскую аудиторию сами обряды великого входа. Говоря, так сказать, об «этнографии» православного богослужения, следует помнить, что участники последнего делятся на две неравные группы: «ритуальных специалистов» (причт), совершающих богослужебные действия как в алтаре, так и в других частях храма, и «аудитории» (прихожан), располагающихся к западу от иконостаса и солеи. Прихожане не участвуют в действиях, происходящих в алтарном пространстве, они видят то, что совершается перед иконостасом. Естественно, что даже на аудиовизуальном уровне последовательность литургии для причта и для прихожан различна.
Архимандрит Киприан (Керн), один из новейших специалистов по православной литургике, пишет о великом входе следующее:
В наше время великий вход составляет одну из торжественнейших частей Литургии, и в сознании большого числа верующих ему придается значение, может быть, даже большее, чем самому важному моменту Евхаристии, моменту преложения Святых Даров. Во всяком случае многие миряне к великому входу относятся более благоговейно и выражают свое религиозное чувство большими знаками почитания, чем ко времени пения «Тебе поем...». Из исторического изложения проскомидии ясно, что современный нам великий вход есть только остаток когда-то торжественного и всенародного приношения вещества для Евхаристии. Теперь это торжественная процессия, в которой иногда чувствуется больше внешнего, чисто человеческого, чтобы не сказать суетного поклонения и почитания, чем того символического содержания, которое она имеет по самому смыслу Литургии[266] 266
Архимандрит Киприан (Керн). Евхаристия (из чтений в Православном Богословском Институте в Париже). М., 1999. С. 173.
[Закрыть].
Очевидно, что слова архимандрита Киприана могут быть вполне приложимы не только к современной богослужебной практике. Вполне вероятно, что для крестьянской аудитории XVII в. кульминацией литургии был именно великий вход, который, в свою очередь, мог ассоциироваться с ритуалами погребально-поминального цикла.
Рассмотренный обряд секты подрешетников является отражением культурного процесса, чрезвычайно важного для истории русской народной религиозности конца XVII – первых десятилетий XVIII в. Я имею в виду своеобразное ритуальное творчество, сложным образом соединявшее элементы православного богослужения и цитации из традиционных крестьянских обрядов и верований. Это творчество было вызвано к жизни тем дисбалансом религиозных практик и религиозных институций, к которому привели русский раскол и петровская церковная реформа. Его результатом стал ряд специфических обрядовых форм, к которым следует отнести и различные виды «народной литургии», и практику самосожжений, и ритуалы сектантов-экстатиков. Их символический смысл, как правило, подразумевал более или менее непосредственный контакт участников обряда с сакральной сферой в контексте эсхатологических ожиданий и настроений. К вопросам функциональной природы этих ритуалов мы еще вернемся в следующей главе настоящей работы.
«Духомольцы» и «лжехристомужи»
Что касается собственно христовщины, то первые сведения о ней отыскиваются в сочинениях лидеров раннего старообрядчества – инока Авраамия, протопопа Аввакума и дьякона Федора. Характерно, что эти сообщения локализуются в местах проповеди Капитона и относятся ко второй половине 1660-х гг. – времени, непосредственно следующему за его смертью. В качестве центров сектантского движения здесь выступает Плес под Костромой и с. Павлов Перевоз (Павлово)[267] 267
Возможно, что соответствующий колорит Павлова Перевоза отразился в одном из эпизодов «Повести о Савве Грудцыне», написанной, кстати, именно в 1660-х гг. (хотя ее действие происходит на тридцать с лишним лет раньше). Покинув Орел Усольский, бес вместе с Саввой за одну ночь переносится на Волгу – в Козьмодемьянск. Оттуда они отправляются в Павлов Перевоз: «И пребывше же в Кузмодемьянском неколико дней, и абие бес паки поемлет Савву и об едину нощ из Кузмодемьянска приидоша на реку Оку, в село, нарицаемое Павлов Перевоз. И бывшим им тамо в день четвертка, в той же день в селе оном торг бывает. Ходящим же им по торгу, узрев Савва некоего престарела нища мужа стояща, рубищами гнусными одеянна и зряща на Савву прилежно и велми плачуща. ‹...› Нищий же он святый старец глаголет ему: „Плачу, чадо, о погибели души твоея: не веси бо, яко погубил еси душу твою и волею предался еси диаволу. Веси ли, чадо, с кем ныне ходиши и его же братом себе нарицаеши? Но сей не человек, но диавол ходяй с тобою и доводит тя до пропасти адския“. ‹...› Юноша же, вскоре оставль святаго онаго старца, прииде паки к бесу. Диавол же велми начат поносити его и глаголати: „Чесо ради с таковым злым душегубцем сообщился еси? Не знаеши ли сего лукаваго старца, яко многих погубляет. На тебе же видит одеяние нарочито и, глаголы лестны происпустив к тебе, хотя отлучити тя от людей и удавом удавити тя и обрати с тебе одеяние твое.‹...›“ И сия изрече, со гневом поемлет Савву оттуду и приходит с ним во град, нарицаемый Шую, и тамо пребываху неколико время» (Русская повесть XVII века / Сост. М. О. Скрипиль. М., 1954. С. 92-93). М. О. Скрипиль комментирует причудливую географию странствований Саввы следующим образом: «Непонятные на первый взгляд переезды Саввы Грудцына с „названым братом“ из „Усольского града Орла“ в Козьмодемьянск, Павлов Перевоз и Шую приобретают черты совершенно реального торгового маршрута, если мы учтем, что это был один из обычных торговых путей, соединявших северо-восточные окраины русского государства с его центральными городами» (там же. С. 396). В принципе, такое толкование возможно, тем более, что Павлов Перевоз славился и как торговый центр, а Савва попадает туда именно в день «торга». Однако остается неясным, для чего бесу и его спутнику пользоваться именно торговым путем: с одной стороны, они с легкостью преодолевают громадные расстояния «об едину нощ», а с другой – вовсе не собираются заниматься торговлей. Не исключено, что путь Саввы и его «названого брата» вызывал у современников и какие-то другие ассоциации. Примечательно и то, что встреча с нищим старцем, предупреждающем героя об опасности, происходит именно в Павлове Перевозе. Возможно, таким образом, что это село попало в «Повесть о Савве Грудцыне» благодаря своей специфической религиозной репутации. К сожалению, нельзя с точностью сказать, какую роль с этой точки зрения играли Козьмодемьянск и Шуя.
[Закрыть] на Оке.
Так, Авраамий, в «Послании к христолюбцу некому», пишет следующее:
По-видимому, какими-то сведениями о раннем сектантстве располагал и Аввакум, сообщающий об иконоборческих и евангелических тенденциях в расколе:
А иже держат Евангелие и Апостол, а святые иконы отмещут, то явныя фряги есть, сиречь немцы. И их есть вера такова: не приемлют святых 7 собор, ниж словес святых отец, ни иконного поклонения, но токмо Апостол и Евангелие, и евангелики глаголются, також люторцы и кальвинцы. Священнический чин, иноческий, отринувше: и баба, и робя, умеюще грамоте, то и поп у них[269] 269
Памятники истории старообрядчества XVII в. Л., 1927. Кн. 1, вып. 1 / Ред. В. Г. Дружинин. (РИБ; Т. XXXIX). Стб. 888.
[Закрыть].
Наконец, в принадлежащем дьякону Федору «Послании к верным об антихристе» мы, видимо, также встречаем упоминание о христовщине:
Тогда при апостоле процвете Христова вера в Солуне от сих проповедников истинных Христовых, и дьявол воздвиг своих неких безчинников и лестцов развратных, якож и зде окрест Костромы и Павлова перевоза, о нихже глаголете многая блядущих лживая и нечестивая учения дияволя, – гатко и слышати нам. И тако они Солуняне обхождаху братию и прельщаху, глаголюще, яко уже пришествию Христову второму наставшу, и слышащих ужасаху и смущаху, и Павла апостола облыгающе и тем сказующе, яко от него слышаще, еще же и от Духа глаголюще сицевая слышати, яко Христос грядет уже на суд[270] 270
Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII веке. СПб., 1900. Приложения. № 14. С. 34 (2-й пагинации). Цитируемый отрывок представляет собой комментарий ко
2 Фес. 2, 3-9.
[Закрыть].
Более подробно о костромских и павловских сектантах пишет Евфросин, автор «Отразительного писания о новоизобретенном пути самоубийственных смертей» (1691 г.):
...Вси любят зватись староверцы, а многия посреде обретаются зловерцы, иныи ж иная во злодеица, яко ж Костромския лжехристомужи поселянстии, градских обычаев неискуснии, оставя свое орало, того ради душа их задуровала, и ложнии их апостоли, бесовстии наместницы, окаяннии ж их пророцы, пагубы внуцы, Павлова ж перевозу духомолцы и иконоборцы, сквернь всяких рачители и объядения служители: день весь жря, а ночию спя, духом, на постелях, нечистым поражени, возбесяся и пеняся, молятся духом, перестанет от молитвы, ано едва дух свой в себе видит[271] 271
Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей. Вновь найденный старообрядческий трактат против самосожжения 1691 года. Сообщение X. Лопарева. СПб., 1895 (Памятники древней письменности; Т. CVIII). С. 9-10.
[Закрыть].
В дальнейшем Евфросин более детально описывает практику пророчества в среде верхневолжских старообрядцев. Дело, по-видимому, происходило в 1680-е гг.:
У Семена ж попа другой Семен мужик, по их вере пророк и духодейственной столп, о самосожженных их страдальцах радостной им возвеститель, егда бывает он посещен, то, духом ударяем, о землю поражен и, во изступлении полежав, извещение видит и, востав от поражения, благовестие кажет: великии страдалцы и святы самосожженцы! кто их не славит, то мне враг, да и дух мой мне вещает... ‹...› Поликарп бедной прелстился и в пустыни им похвалялся...: се де, отцы, пророк наш и действует им дух свят, видение де видает и недоведомая нам вещает... ‹...› Бывало то на Романове и в Пошехоньи и в-за Волгой, как вдовица или девица провинится перед ними, тамо своего пророка мужика сего шлют, а мужик тот, што мерен дровомеля деревенской, честнее себе и лутчи лает и бранит и пред госпожами своими невежливо сидит и вякает и бякает...[272] 272
Там же. С. 49.
[Закрыть]
Благодаря описаниям Евфросина становятся понятными не только особенности психосоматической техники пророчества (подразумевавшей, судя по всему, как экстатические видения с последующим их пересказом, так и автоматическую речь во время «действия духа»), но и непосредственные социальные функции поволжских пророков. Очевидно, что при помощи пророчества разрешались догматические и обрядовые споры, вопросы социального и религиозного лидерства, обосновывались эсхатологические ожидания и проповедь самосожжения[273] 273
В своем трактате Евфросин приводит еще несколько примеров деятельности «сельских провидцев»: в одном случае пророк обличает старообрядческого священника в ереси, что приводит к смене религиозного лидера общины; в другом – он видит «красных лицем» ангелов, посланных Богом к самосожженцам (там же. С. 53-54, 73).
[Закрыть].
Таковы дошедшие до нас известия о ранних этапах развития русского мистического сектантства. Из них явствует, что во второй половине XVII в. поволжские раскольники уже ориентировались на специфическую обрядовую традицию («моление духом», пророчества), отчасти противопоставленную церковному богослужению и вдохновленную эсхатологическими чаяниями[274] 274
Ср. также дело 1666 г. о костромитянине Феодуле Иванове, отрицавшем церковь и таинства, а также институт духовного отцовства: «И о себе глаголет, что де он имеет в себе живуща Духа Святого и от него де он глаголет и учит. И есть на него многие свидетели, священники и иные. И попов де зовет бесчестно» (Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. Исследование из начальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным. СПб., 1898. С. 099-0100; Румянцева В. С. Народное антицерковное движение... С. 202-203).
[Закрыть]. К концу века постепенно начинает формироваться практика радений, одновременно появляются и «лжехристомужи» – чтимые подвижники или лидеры общин, которых считали христами. По предположению М. Б. Плюхановой, «ранние радения... имели отношение к ситуации Страшного суда» и обеспечивали их участникам «пребывание в сакральной ситуации, в эсхатологическом времени»[275] 275
Плюханова М. Б. О национальных средствах самоопределения личности... С. 432, 434.
[Закрыть]. В то же время исследовательница не склонна сопоставлять радения с добровольными самосожжениями – «гарями», – полагая, что гарь – «действие реальное, наполненное священным смыслом», тогда как радение – «действие обрядово-символическое»[276] 276
Там же. С. 434.
[Закрыть]. Это противопоставление кажется странным и не соответствующим общему ходу рассуждений М. Б. Плюхановой. Конечно, прагматические последствия самосожжения и радения различались довольно радикально, однако трудно оспаривать обрядово-символическую природу обоих действий. Можно предполагать, что в определенный период и гари, и радения выполняли близкие функции, актуализируя определенные типы массовых эсхатологических представлений. С течением времени «эпидемия самосожжений» постепенно сошла на нет (хотя отдельные случаи эсхатологических самоубийств были зафиксированы и в XIX – начале XX в.), а радение превратилось в стабильную ритуальную практику без ярко выраженных эсхатологических признаков.
Итак, обрядовая практика и идеология христовщины формировалась в рамках религиозно-утопических и эсхатологических движений русских крестьян второй половины XVII в. Одним из провозвестников и инициаторов этих движений был старец Капитон, чье имя затем стало нарицательным и использовалось для обозначения раскольников, отвергающих церковную обрядность и книжность (в том числе и дониконовскую), самовольно уходящих в лесные пустыни, совершающих собственные богослужения. Другим экзонимом сектантов XVII столетия было слово ляд. В. С. Румянцева указывает на сыскное дело 1666 г. о раскольниках погоста Самети, из которого явствует, что «местные крестьяне называли единомышленников вязниковских пустынников в Костромском уезде „лядами“, а их поведение – „ледованием“»[277] 277
Румянцева В. С. Народное антицерковное движение... С. 202.
[Закрыть]. Уже в XIX в. слово ляд (мн. ляды) было зафиксировано В. И. Далем в народном лексиконе Ярославской губернии. Здесь оно использовалось для обозначения хлыстов и скопцов[278] 278
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1909 (репр. Изд. 1994 г.). Т. II. С. 287.
[Закрыть]. В середине XIX в. о «лядах» в Нерехотском уезде Костромской губернии сообщал корреспондент Русского географического общества[279] 279
Зеленин Д. К. Описание рукописей ученого архива Императорского Русского географического общества. Пг., 1915. Вып. II. С. 650.
[Закрыть]. О существовании этого термина упоминал и П. И. Мельников в статье «Тайные секты»[280] 280
Мельников П. И. (Андрей Печерский). ПСС.Т. VI. С. 253. Ср. также: СРНГ. Л., 1981. Вып. 17. С. 259.
[Закрыть]. Даль производит его «от лядеть в значении „худеть, тощать“», однако исторически эта этимология неточна. Слово ляд в значении «нечистый, черт» объясняют и из ледачий («непутевый, негодный»), и из польск. ladaczy («черт»). «Древность этого слова, – пишет М. Фасмер, – и родство с др.-инд. radhyati „приобретает силу, становится подданным“ не доказаны»[281] 281
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1967. Т. II. С. 549.
[Закрыть]. Поскольку в вышеупомянутом документе 1666 г. «ледование» понимается как «неистовство», есть все основания полагать, что в данном случае ляд означает «нечистый» и характеризует отношение современников к раннесектантскому движению Костромского уезда.
Что касается термина «христовщина», то он впервые появляется в «Розыске о раскольнической брынской вере» Димитрия Ростовского (до 1709 г.). Он описывает христовщину как отдельный раскольничий толк и сообщает о ней следующее:
В том ските или толку обретается некий мужик, егоже зовут Христом и яко Христа почитают; а кланяются ему без крестнаго знамения. Пристанище того христа в селе, зовомом Павлов Перевоз... Сказуют же того лжехриста родом быти Турченина; а водит с собою девицу красноличну и зовет ю материю себе, а верующий в него зовут ю богородицею. ‹...› Имать же той лжехристос и апостолов 12, иже ходяще по селам и деревням проповедуют христа, аки-бы истиннаго, простым мужикам и бабам; и кого прельстят, приводят к нему на поклонение. Той толк, глаголемый Христовщина, аще и хулит церковь Божию, обаче в церковь входити, ко иконам святым и к кресту прикладываться и к иерейскому благоcловению приходити не возбраняет... Поведавый же нам сие монах Пахомий, слыша от самовидца, видевшего онаго христа лживаго, приведен бо бе к нему от ученика его на поклонение. Бе же тогда той Христос на реке Волге, в селе Работки глаголемом, за Нижним Новгородом верст 40, по Волге в низ. Есть же в том селе на брезе реки церковь ветха и пуста, и собрашася тогда к нему людие верующий в онь на мольбу в церкве оной. Изыде же Христос оный из олтаря к людем в церковь и в трапезу, и зряше на главе его нечто велико обверчено по подобию венца, на иконах пише-маго, и некия малыя лица красныя по подобию птиц летаху около главы его, ихже глаголют быти херувимы (нам же мнится, яко или беси в подобиях таковых мечтательно людем зряхуся, или красками писаны бяху херувимы на писчей бумаге, и окрест венца прицеплены); седшу же ему, вси людие тамо собравшийся падше поклонишася тому до земли, аки истинному Христу; и кланяхуся непрестанно молящеся на мног час, дондеже изнемощи им от молитвы. В молитве же взываху к нему овии: господи! помилуй мя; глаголюще овии же: о создателю наш! помилуй нас. Он же к ним пророческая некая словеса глаголаше, сказующи, что будет, каковое воздуха пременение, и утверждаша их верити в онь несумненно[282] 282
Димитрий Ростовский. Розыск о раскольнической Брынской вере. С. 598-600.
[Закрыть].
Почти в те же годы с учеником подобного христа, уроженца Касимовского уезда по имени Иван Васильев Нагой (возможно, что это – тот же человек, о котором рассказывал монах Пахомий), встретился старообрядец Василий Флоров, впоследствии обратившийся в православие и написавший «Обличение на раскольников» (1737 г.)[283] 283
Время и место рождения В. Флорова неизвестны. Первоначально он принадлежал к православию, но затем перешел в раскол и несколько раз менял старообрядческие толки, пока не утвердился в «дьяконовом согласии». Именно в это время – «у показанного диакона Александра» – он встретил некоего Лазаря, ушедшего от Ивана Нагова. Пожив шесть недель у дьяконовцев, Лазарь умер. В 1718 г. Флоров ушел на юг – к Азовскому морю – и жил среди поселившихся там раскольников до 1724 г. Затем он побывал в калмыцком плену и в старообрядческих скитах на Иргизе. Вернувшись в Европейскую Россию, Флоров принял православие (по-видимому, около 1730 г.). См.: Флоров В. Обличение на расколников. М.: Н. Субботин, 1894. С. 1-14, 28; Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. С. 056-059.
[Закрыть]. Учение сектантов Флоров назвал «наговщиной» и охарактеризовал следующим образом:
Сия же их пакостная ересь: 1) иконам не поклонялися; 2) своему учителю Ивану честь и поклон отдавали, подобной яко Христу; 3) руку его целовали, яко Христову; 4) свещи пред ним вжигали; 5) девку имели некую скверную за Богородицу, – сия скверная некогда биема от сына церкве Григория в Павлове селе, в доме Димитрия Денисова, их прелщенца, извергла зачатое нечестивое семя; 5)[284] 284
Так в тексте.
[Закрыть]за апостолов 12 имели мужиков простых... Наипаче сии проходили более некие грады, села и деревни, своим неистовством и молчанием, аки бы юроды, множае босы, в раздранных одеждах, лицем почернелы, мерзости и прелести преисполненные...; 6) ядуще нощию, тайно от людей; 7) в одной кельи темной жили мужеск пол и женск; одеяние имели токмо к прикрытию нужных частей тела в келиях; 8) сей Иван Нагой дивы некия несказанныя мерзкия показоваше своим последователям...[285] 285
Обличение на расколников, сочиненное Василием Флоровым. С. 27-28.
[Закрыть]
Характерная параллель сообщению Флорова обнаруживается в материалах более поздних следственных комиссий о христовщине. В 1746 г. к следствию был привлечен алатырский крестьянин Иван Пименов, обвинявшийся в том, что он называл себя Христом. На допросе Пименов показал следующее:
От роду ему лет сто, лет шестьдесят тому назад впал он в безумие – ходил зимою и летом по лесам нагой, питался кореньем, ничего не говорил – и слыл у крестьян христом; лет двадцать тому назад от безумия избавился и стал жить у брата в д. Солдатской Алатырского уезда; местные крестьяне называют его, Ивана, «богомолом» за то, что он ходит по ярмаркам и торжкам для моленья[286] 286
Нечаев В. В. Дела следственные о раскольниках комиссий в XVIII в. // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. М., 1889. Кн. VI. С. 136-137.
[Закрыть].
Если верить хронологическим сообщениям Ивана Пименова – хотя они представляются весьма и весьма приблизительными, – получается, что его «безумие» началось в конце 1680-х, а прекратилось в конце 1720-х гг. В это же время странствовал по северо-восточной России и Иван Васильев Нагой. Конечно, вряд ли следует полагать, что речь идет об одном и том же человеке[287] 287
Против этого говорит удаленность Алатырского уезда от Павлова Перевоза, где подвизался Иван Васильев, а также различие в отчествах (или фамильных прозвищах) двух Иванов. Впрочем, последнее само по себе не показательно, если речь идет о фамильных прозвищах – в крестьянской среде они легко могли изменяться.
[Закрыть]. Важно другое: истории Ивана Васильева и Ивана Пименова свидетельствуют о том, что крестьянских «христов» в рассматриваемую эпоху было много, что речь идет не об исключениях, а о норме народной религиозной жизни конца XVII – начала XVIII в. Обращает на себя внимание и то, что отличительной чертой и того, и другого «христа» была нагота. И отсутствие одежды, и немота, отличавшая Ивана Пименова, – типичные признаки древнерусского юродивого[288] 288
Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 92-96.
[Закрыть]. О том, что последователи «наговщины» воспринимались современниками в качестве юродивых, свидетельствует и Флоров. Интересно, однако, что заставляло тех же современников считать Васильева и Пименова «христами»? Ведь, насколько мы знаем, никто не называл Христом Василия Блаженного (который, кстати, тоже имел прозвище Нагой) или Николу Салоса. Здесь можно высказать несколько предположений. С одной стороны, именно в начале XVIII в., в годы петровских преобразований, начинается более или менее постоянное преследование юродивых. «Асоциальность» древнерусских юродивых была все же социальной: несмотря на всю парадоксальность своего облика и поведения, они занимали определенное место в ролевой системе средневекового общества. Регулярное государство Петровской эпохи лишило юродивых этого места, они стали гонимыми «суеверцами». Естественно предполагать, что в таких условиях поведенческие стереотипы преследуемого юродства вполне подходили новоявленным «христам», выступавшим с эсхатологической проповедью и предлагавшим своим последователям принципиально новые формы обрядовой практики. С другой стороны, не следует забывать, что материалы по истории и феноменологии древнерусского юродства, которыми обычно пользуются исследователи этого явления, преимущественно принадлежат сфере литературного этикета. Это жития, летописные сообщения, реже – свидетельства иностранцев. Хотя в древнерусских житиях юродивых часто встречаются эпизоды очевидно фольклорного происхождения, они обрамляются сугубо книжными интерпретациями. Иными словами, мы знаем, какие выводы из простонародных рассказов о русских юродивых делал древнерусский книжник, но не знаем, как воспринимали тех же самых юродивых их современники, принадлежащие к городским низам или крестьянству. (То, что сами юродивые нередко принадлежали к культурной элите и, следовательно, строили свое поведение в соответствии с литературными образцами, дела не меняет.) Между тем, именно модели простонародной религиозности, как мы увидим далее, оказали определяющее воздействие на традицию русского мистического сектантства.
Упомяну, наконец, еще один эпизод, который, возможно, также имеет прямое отношение к предыстории русской христовщины. Речь идет об еще одном Иване – бродяге, задержанном в 1690 г. в Вязьме и допрашивавшемся в Разрядном приказе[289] 289
Зенбицкий П. Сумасшедший самозванец // ЖС. 1907. Вып. 3. С. 153-157.
[Закрыть]. Иван был самозванцем, выдававшим себя за сына Ивана Грозного (вероятно, что в данном случае подразумевался не царевич Димитрий, а убитый отцом Иван Иванович). Вместе с тем он утверждал, что живет «на небесах», повелевает ангелами и обладает даром творить чудеса:
Зовут де его Ивашком, а отец де у него был царь Иван Васильевич, а был де он царем на Москве тому ныне лет со сто. А он де родился от него, а женат де он не был. И которые де люди глазами не видят и руками и ногами не владеют, и те де болящие молитвою его здравы бывают. А по их де молитву творят (творит? – А. П.): «Сусе Христе, помилуй нас!» А крестил де себя он сам. А живет де он на небесах и ходит де он на небеса в дирю (дыру? – А. П.), а принимают де ево ангели. ‹...› А как он ходил и к нему пришли ангели: тысяча ангелов да шестьсот казаков донских. А казаки де и ангели ели мясо, а он де говел и мяса не ел. Которые де люди мяса едят, и те пойдут на тот свет. А он де посылал грамоты по русским городом – русским языком – сам, что он царя Ивана Васильевича, и оне б то видели. И ныне пошел было к тотаром и хотел их приводить к вере, чтобы они крестились. ‹...› А хотел де он управеть веру и был на Дону и на Самаре. ‹...› А на небеси де больши ево нет. А как де он шел с казаками, и велел им сказывать, что де к Москве идет сын царя Ивана Васильевича и они бы московские люди ево женили. И грамоты де он писал своею рукою и отдавал ангелам[290] 290
Там же. С. 153-154. Судя по всему, этот Иван имел какое-то отношение к волнениям донских казаков в 1680-х гг. В своих показаниях он также сообщил, что «пришел в русские городы тому ныне другой год А послали де его казаки, было де их триста человек; а пошли де они все около Москвы по городом, а он де им сказался Иваном, царя Ивана Васильевича сыном. И чтобы де они не мешкав, а он де идет за ними. ‹...› А на Дону он де был при Фроле Минаеве» (с. 154).
[Закрыть].
Характерно, что в показаниях самозваного «царевича Ивана» просматривается ряд черт, сопоставимых с религиозными практиками ранней христовщины (см. ниже) – использование Иисусовой молитвы для исцеления больных и порицание мясной пищи. Симптоматично и совпадение политического самозванства с самозванством религиозным, хотя не совсем понятно, что именно Иван имел в виду, говоря, что «на небеси больши ево нет».
Речи Ивана настолько обескуражили следователей, что самозванца решено было подвергнуть медицинскому освидетельствованию. Врачебное заключение оказалось единогласным: подследственный страдает врожденной «меланхолией», иначе говоря – безумен, «и надобно будет впредь за ним надзирать». После этого Ивана отправили «под крепкий начал» в ростовский Авраамиев монастырь. Дальнейшая судьба его неизвестна.
Данила Филиппович и Иван Тимофеевич
Нельзя обойти вниманием и наиболее проблематичный источник по истории раннесектантского движения – хлыстовские предания о Данииле Филиппове и Иване Тимофееве Суслове. Большинство исследователей, начиная с И. М. Добротворского и П. И. Мельникова, считали их основателями христовщины и относили время ее появления к 1645 г.[291] 291
См. Мельников П. И. (Андрей Печерский). ПСС. Т. VI. С. 270-277, 305-310; Добротворский И. Люди божии. С. 6-14; Кутепов К., свящ. Секты хлыстов и скопцов. Казань, 1882. С. 41; Эткинд А. Хлыст (Секты, литература и революция). M., 1998. С. 27. Н. В. Реутский считал Данилу Филипповича легендарным персонажем и полагал, что основателем христовщины был Иван Суслов (Люди Божьи и скопцы. С. 27-30).
[Закрыть] Вот, например, как описывает эти события П. И. Мельников:
Крестьянин Юрьевского уезда Данила Филиппов также был в числе учеников Капитона... Во время сильных споров о том, по старым или по новым книгам можно спастись, Данила Филиппович... решил, что ни те, ни другие никуда не годятся, и что для спасения души необходима одна:
Книга золотая,
Книга животная,
Книга голубиная:
Книга сударь Дух Святой.
Он учил, что надо молиться духом, и что при таком только молении в человека может вселиться Дух Божий. Хлысты рассказывают, что их учитель, в доказательство ненужности и старых, и новых книг, собрал те и другие в один куль, положил в него для груза камней и бросил в Волгу.
Через несколько времени Данила Филиппович является в окрестностях Стародуба, находившегося в тогдашнем Муромском уезде. В Стародубской волости, в приходе Егорьевском, говорят хлысты, на Гору Городину... сошел с небес в славе Своей сам Господь Саваоф. Силы небесные вознеслись назад, на небо, а Саваоф остался на земле в образе человеческом, воплотясь в Даниле Филипповиче[292] 292
Мельников П. И. (Андрей Печерский). ПСС.Т. VI. С. 270-271.
[Закрыть].
Согласно тому же автору, Данила Филиппов поселился в д. Старой под Костромой. Здесь он собирал своих учеников и устраивал радения. «Христом» Данилы стал уроженец с. Максакова Муромского уезда Иван Тимофеевич Суслов. И Мельников, и другие исследователи почти не сомневались в том, что Суслов и был тем самым лжехристом-«турченином», о котором писал Димитрий Ростовский. По хлыстовским преданиям, Суслов был схвачен властями в годы правления Алексея Михайловича. Его трижды казнили, и трижды он воскресал из мертвых, после чего царь велел его освободить.
С тех пор Иван Тимофеевич, говорят хлысты, тридцать лет прожил в Москве спокойно, распространяя тайное учение людей божьих... ‹...› Сюда в 1699 году пришел из Костромы к «возлюбленному сыну своему» Ивану Тимофеевичу господь саваоф, верховный гость Данила Филиппович, на сотом году своей жизни. Здесь он много беседовал с сыном своим за столом, который до 1845 г., как святыня, сохранялся у московских хлыстов. По рассказам их, из этого дома 1-го января 1700 года, в Васильев день, Данила Филиппович, после долгого радения... вознесся на небо. Потому, говорят они, с этого дня и стали считать новый год[293] 293
Там же. С. 276.
[Закрыть].
Что касается Суслова, то он скитался по разным местностям Центральной России, затем вернулся в Москву и был погребен в женском Ивановском монастыре, где подвизались его последовательницы. Он умер во второй половине 1710-х гг.
У нас нет серьезных оснований считать Данилу Филипповича сугубо мифологическим персонажем, однако все историко-хронологические построения, касающиеся его и Суслова биографий, кажутся весьма проблематичными. Столь же сложно говорить о тождестве Суслова с «лжехристами», упоминаемыми Димитрием Ростовским и Василием Флоровым. Дело в том, что материалы, которыми пользовался Мельников, – это предания московских хлыстов, зафиксированные во время следствия конца 1830-х гг. Собственно говоря, Мельников почти дословно цитирует «Показание Симбирской губернии и уезда Тинковского удельного крестьянина Козьмы Властникова о сущности и обрядах хлыстовской секты», данное в 1838 г. в секретной канцелярии Москвы[294] 294
Отсюда же Мельников позаимствовал и т. н. «„двенадцать заповедей“ Данилы Филипповича». Публикацию следственных материалов см.: Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1: Христовщина, т. 1. Пг., 1915. С. 57-65.
[Закрыть]. Нам известны сектантские песни, в которых упоминаются Данила Филиппович и Иван Тимофеевич[295] 295
Рождественский Т. С, Успенский М. И. Песни русских сектантов-мистиков. С. 3-7 (№ 1-5, 703-713 (№ 590-597), 710-729 (№ 600-605); Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1: Христовщина, т. 3. С. 409-412 (№ 1-4). См. также примечание 565 к этой главе.
[Закрыть], но их число невелико, и, по всей вероятности, они происходят из того же «толка» христовщины XIX в. Вместе с тем нам известны и другие персонажи хлыстовских преданий: так, например, в Рязанской и Московской губерниях бытовала песня о «христе» Иване Емельянове и его прении с Иваном Грозным[296] 296
Мельников П. И. (Андрей Печерский). ПСС.Т. VI. С. 264-266.
[Закрыть]. С другой стороны, из следственных материалов первой половины XVIII в. мы узнаем о других сектантских «христах», никак не фигурирующих в позднейшем хлыстовском фольклоре. Таким был, например, ярославец Степан Васильев Соплин (см. ниже). Наконец, в других хлыстовских общинах середины – второй половины XIX в. вовсе не существовало рассказов и песен о Даниле Филиппове и Иване Суслове.
Таким образом, у нас есть достаточные основания для критики прямолинейных реконструкций ранней истории христовщины, принятых большинством исследователей прошлого столетия. Вероятно, что и Данила Филиппов, и Иван Тимофеев Суслов (мы располагаем документальными свидетельствами первой половины XVIII в. о Суслове; аналогичные данные о Даниле неизвестны) были реальными людьми, жившими в конце XVII – начале XVIII в. и, возможно, руководившими христовскими общинами Поволжья и Подмосковья; их не следует считать «первыми хлыстами». По своей социальной организации ранняя христовщина была полицентричной. Важно подчеркнуть, что движение мистического сектантства тесно связано с принципом харизматического «учительства»: исключительную роль в общине или группе общин играл лидер, считавшийся «христом» или «пророком» и окружавший себя учениками. Таких лидеров в ранней истории христовщины могло быть много (о чем свидетельствуют и вышеприведенные материалы). Судя по всему, первоначально они вели страннический образ жизни, путешествуя со своими учениками по городам и селам, подобно описанному Флоровым Ивану Нагому. Впоследствии, когда хлыстовское учение получило достаточное распространение, сектантские «христы», «богородицы» и «пророки» становились оседлыми горожанами, крестьянами или иноками. В одних общинах фигуры «первых учителей» играли важную идеологическую роль: они становились персонажами радельных песен, преданий и легендарных циклов[297] 297
Любопытно, что предания о Даниле Филипповиче подчеркивали кровнородственную связь всех хлыстовских лидеров. «У хлыстов, – пишет Мельников, – есть родословная потомства Данилы Филипповича. Все потомки его были христами, пророками, богородицами и пророчицами. Последняя в роде богородица Устинья Васильевна была взята в 1848 году в Костромской губернии и заключена в Уфимский женский монастырь, где и умерла» (Мельников П. И. (Андрей Печерский). ПСС. Т. VI. С. 278).
[Закрыть]. В других наиболее существенным становилось поклонение «действующим», живым учителям. Такой представляется ситуация в XIX в., такой она могла быть и столетием раньше.