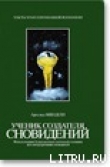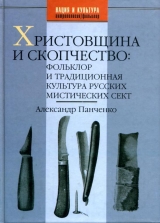
Текст книги "Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект"
Автор книги: Александр Панченко
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 37 страниц)
Так или иначе, очевидно, что основа и непосредственный источник религиозной деятельности – эмпирический опыт переживания сверхъестественного и сакрального. Несмотря на то что религиозный опыт является дорефлексивным и неверифицируемым феноменом, его последствия для повседневной социальной жизни не следует недооценивать. «Религиозный опыт, – отмечает П. Бергер, – радикально релятивизирует, если не обесценивает вообще, обычные заботы человеческой жизни. Там, где говорят ангелы, всякие житейские дела становятся незначительными, бледнеют до состояния нереальности. Если б ангелы говорили все время, то деловая жизнь, вероятно, целиком остановилась бы»[160] 160
Бергер П. Религиозный опыт и традиция. С. 352.
[Закрыть]. Иными словами, сам по себе религиозный опыт деструктивен по отношению к жизнедеятельности человеческого коллектива. Для его адаптации необходимы специальные культурные механизмы. На уровне религиозных институций этот контроль зачастую принимает репрессивные формы: проявления религиозных девиаций и инакомыслия последовательно и жестоко караются. На уровне религиозных практик проблема решается более толерантно: адаптация и социальное (ре)конструирование религиозного опыта осуществляются при посредстве традиционных ритуальных и фольклорных форм, в частности – благодаря принятым в коллективе формам наррации. Таким образом, религиозные практики, включающие традиционные типы ритуализованного поведения, корпус фольклорных мотивов и сюжетов, готовых текстуальных форм, а также норм и правил построения устных (а иногда – и письменных) текстов, служат устойчивым и социально необходимым медиатором между максимальной стабильностью институций и абсолютной нестабильностью религиозного опыта. Ситуацию можно представить в виде следующей графической схемы:
социализация ← → индивидуализация
стабильность нестабильность
РЕЛИГИОЗНЫЕ ↔ религиозные ↔ РЕЛИГИОЗНЫЙ
ИНСТИТУЦИИ практики ОПЫТ
Очевидно, что одна из главных функций религиозных практик состоит в поддержании равновесного соотношения между религиозными институциями и религиозным опытом. В качестве способа непосредственной символизации религиозного опыта религиозные практики обладают достаточной стабильностью. Вместе с тем, по сравнению с религиозными институциями, они предлагают гораздо больший выбор поведенческих стратегий. Равновесие поддерживается путем взаимного обмена. С одной стороны, религиозные практики служат базовым фондом для пополнения институциональных форм и, одновременно, подвергаются более или менее интенсивному давлению со стороны последних. С другой стороны, практики стимулируются религиозным опытом и, вместе с тем, обеспечивают первичный набор средств для его адаптации и символизации.
Исследование религиозного фольклора и религиозных практик с опорой на традиционное для фольклористики жанровое деление наталкивается на определенные трудности. Дело в том, что в силу своих социокультурных функций (о которых речь шла выше) религиозный фольклор не обладает достаточной степенью системности для образования устойчивой жанровой структуры. По-видимому, она может формироваться только в тех случаях, когда та или иная практика имеет тенденцию к институциолизации. С другой стороны, формы текстов, которые можно отнести к религиозному фольклору, как правило, не укладываются в различные жанровые систематизации, разработанные на основании других материалов. Еще четверть века назад Д. Йодер писал: «Большинство американских определений фольклора не предоставляют категорий, позволяющих включить в него религиозные явления... Бесспорно, „религия“ – не „жанр“ и, следовательно, не может быть включена в устаревшие определения с жанровой ориентацией. Очевидно, религия может быть причислена к фольклору благодаря более новым дефинициям, имеющим культурную ориентацию»[161] 161
Yoder D. Toward a Definition of Folk Religion. P. 9.
[Закрыть]. Показательно, например, что русские «духовные стихи» – устные песнопения религиозного содержания – в жанровом отношении представляют собой гетерогенную группу текстов, формально и содержательно восходящих к различным источникам[162] 162
См.: Коробова А. В. Проблемы классификации поэтических жанров фольклора религиозной тематики // Славянская традиционная культура и современный мир: Сб. материалов научно-практической конференции / Сост. В. Е. Добровольская. М., 1997. Вып. II. С. 28-38.
[Закрыть]. Однако и в бытовом, и в ритуальном контексте духовные стихи демонстрируют большее или меньшее функциональное единство[163] 163
См., например: Резниченко Е. Б. «Поминальные стихи» Смоленщины // ЖС. 1994. № 3. С. 38-43.
[Закрыть]. Думаю, что религиозный фольклор все же обладает специфической логикой, определяющей как его внутреннюю динамику, так и взаимоотношения с институциями. Обнаружение этой логики, соотнесенных с ней концептов и их социального функционирования представляется одной из существенных задач изучения конкретных религиозных практик.
Внутренняя динамика институциолизованных форм религиозной словесности и религиозного же фольклора достаточно сильно разнится. Определенную роль здесь играет соотношение письменной и устной традиций. Я не хочу сказать, что религиозные институции, характерные, скажем, для русского православия, основываются исключительно на книжной традиции, тогда как крестьянские религиозные практики воспроизводятся лишь в устной, фольклорной форме. Однако с определенной долей огрубления можно сказать, что в контексте крестьянской культуры фольклор выполняет примерно те же функции, что и книжное догматическое учение для церковной религии. Вспомним определение, предложенное К. В. Чистовым для термина «социально-утопическая легенда»: «...Говоря о социально-утопических легендах, – пишет он, – мы будем иметь в виду как сами народные представления социально-утопического характера, так и всю сумму связанных с ними словесных проявлений – слухи и толки, рассказы-воспоминания (мемораты) и более или менее законченные сюжетные и вошедшие в традицию рассказы (фабулаты)»[164] 164
Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967. С. 13.
[Закрыть]. Если применить эту модель к религиозному фольклору и говорить о религиозной легенде как о группе разных типов текстов и представлений, находящихся в динамической связи, то окажется, что функционирование этой группы чрезвычайно сходно с тем, как действует «официальное» богословие в своих экзегетических и герменевтических формах. Особенно показательны ситуации, когда источником для «народного богословия» оказывается книжный текст: такая ситуация наиболее характерна для старообрядческой и сектантской культуры, где проблема отношения к институциолизованным формам религии имеет особенно острый характер[165] 165
Вопрос о роли институций в религиозной культуре русского старообрядчества и сектантства представляется достаточно сложным в силу особого социального положения этих групп. С одной стороны, многие старообрядческие и сектантские толки противостояли официальным институциям, формировали собственную, «альтернативную» иерархию, тяготели к книжной (и, шире, письменной) культуре. С другой стороны, эти же движения с особой активностью генерировали и воспроизводили различные формы религиозного фольклора (см.: Никитина С. Е. Народная словесность и народное христианство // ЖС. 1994. № 2. С. 8-12). Здесь можно усмотреть закономерность, по которой нестабильность и девиантность религиозных институций повышает значение религиозного фольклора, в свою очередь тяготеющего к институциональности. Очевидно, следует согласиться с Р. Крамми, полагающим, что исследование русского старообрядчества могло бы способствовать прояснению многих аспектов дискуссии о народной религии (Crummey R. Old Belief as Popular Religion: New Approaches. P. 710-712).
[Закрыть]. Так, С. Е. Никитина, исследовавшая роль книжности в традиции поморских беспоповских общин, выделила особый тип фольклорных текстов-интерпретаций, «входящих в область народной герменевтики. Это толкование христианских текстов, главным образом Житий, читаемых в перерывах соборной службы или после воскресного молитвенного собрания. Текст читается небольшими фрагментами (чаще по одному предложению), тут же пересказывается и комментируется»[166] 166
Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993. С. 36-37.
[Закрыть]. Очевидную связь с традицией «народного богословия» демонстрируют и малоисследованные крестьянские рассказы «о хождении Иисуса Христа», которое, по уверению этнографа начала XX в., «приурочивается именно к земле русской». «Нередко... – продолжает он, – рассказчики точно указывают, от какой деревни до какой в известный момент было совершено путешествие, на каком именно месте произошло данное событие. Я помню, на моей родине один старик показывал, например, даже дерево, кривую старую осину в глухом месте большого казенного леса, на которой удавился будто бы предатель Христа – Иуда»[167] 167
Успенский Д. И. Народные верования в церковной живописи // ЭО. 1906. № 1-2. С. 83, прим. 1; примеры таких рассказов см.: Народные русские легенды А. Н. Афанасьева. Новосибирск, 1990. С. 31-46; Баранова В., Данькова Е., Маслинский К. Народные рассказы о Боге в Тверской области // ЖС. 1996. № 4. С. 51.
[Закрыть]. Несмотря на возможное влияние книжной традиции и процессов сюжетной миграции (хотя и здесь много спорных пунктов), очевидно, что эти рассказы функционировали в некоем повседневном культурном контексте, о котором нам почти ничего не известно. По-видимому, исследование этого контекста имеет определенные перспективы в свете теории этногерменевтики[168] 168
См.: Христофорова О. Б. Некоторые подходы к исследованию «нормативной герменевтики» // Невербальное поле культуры. Тело. Вещь. Ритуал. М., 1996. С. 63-70.
[Закрыть], позволяющей по-новому взглянуть на процессы смыслообразования в традиционных культурах и – в нашем случае – преодолевающей противопоставление «магической ментальности», присущей Средневековью и крестьянской культуре, и «просвещенной религии», сформировавшейся в Европе XVII в.[169] 169
Thomas K. Religion and the Decline of Magic; Levin E. Dvoeverie and Popular Religion; критику этой концепции см.: Badone E. Introduction. P. 9.
[Закрыть]
Обратим внимание на ту роль, которую играют мотивы святотатства, наказания и искупления в самых разных жанрах религиозного фольклора[170] 170
См.: Панченко А. А. Исследования в области народного православия. С. 246-254.
[Закрыть]. Судя по всему, эта коллизия имеет очень важное значение для религиозной культуры в целом и для религиозных практик – в особенности. Здесь, очевидно, следует говорить о принципиальной антиномичности религиозного сознания, балансирующего в рамках противопоставления святости и кощунства, веры и неверия и т. д. Это соображение, в свою очередь, позволяет включать в понятие религиозного фольклора тексты и ритуализованные действия, тяготеющие и к тому, и к другому из упомянутых полюсов. В качестве примера можно указать на статью Д. Хаффорда «Традиции неверия». Согласно этому исследователю, религиозный фольклор в равной степени включает и «верования» (beliefs), и «не-верования» (disbeliefs), взаимно дополняющие друг друга и, в определенном смысле, составляющие единое целое. «С этой точки зрения атеисты оказываются верующими в той же степени, что и религиозные люди. Религиозный человек столь же скептически настроен по отношению к материализму, сколь материалист – по отношению к сверхъестественному. Традиции неверия особенно интересны потому, что данные показывают их удивительную однородность во всех социальных слоях: от совершенно необразованных не-верующих „из народа“ (folk-disbelievers) до наиболее рафинированных материалистов»[171] 171
Hufford D. J. Traditions of Disbelief // New York Folklore. 1982. № 3/4. (The Folklorist and Belief / Ed. by L. Fish) P. 48.
[Закрыть]. Исходя из этих положений, Хаффорд выделяет класс текстов, названных им disbelief stories и фактически симметричных своей противоположности, т. е. belief stories. Это наблюдение позволяет говорить о необходимости специального анализа тех мотивов и систем аргументации, к которым прибегают люди, поддерживающие соответствующие «верования» или «не-верования». Особенно актуальным такой анализ может быть в тех ситуациях, где социальные обстоятельства вынуждают носителя религиозной практики к полемическому обоснованию разделяемых им представлений.
Выше я уже касался другой функциональной особенности религиозного фольклора, связанной с символизацией и социализацией персонального религиозного опыта. Как мне кажется, эти процессы играют в традиционной культуре чрезвычайно важную роль. Поэтому для исследования религиозного фольклора особое значение имеет анализ традиционных способов адаптации так называемых «измененных состояний сознания» (altered states of consciousness): различных форм транса и одержимости, галлюцинаций, сновидений. Позволю себе сделать небольшое отступление и продемонстрировать перспективы такого анализа на одном примере. Речь идет о роли сна и сновидения в крестьянских религиозных практиках.
* * *
Проблемы сна и сновидения в контексте антропологического и фольклористического анализа в последнее время неоднократно обсуждались в западной науке[172] 172
См., в частности: Virtanen L. Dream-telling Today // Studies in Oral Narrative / Ed. by A.-L. Siikala. Helsinki, 1989. (Studia Fennica; 33); Kaivola-Bregenhøj A. Dreams as Folklore // Fabula 1993. Bd. 34, Hf. 3/4 (здесь же – новейшая библиография вопроса), а также подробный обзор проблематики в работе К. О’Нелла (O’Nell C. W. Dreams, Culture and the Individual. San Francisco, 1976).
[Закрыть]. В отечественной гуманитарии эти вопросы, к сожалению, редко подвергались специальному рассмотрению. Речь идет не столько о роли мотива сна в различных фольклорных и литературных текстах – об этом писали не раз, – сколько о культурном преломлении сна как такового, сна как психосоматического феномена. Между тем хорошо известно, что все культурные традиции придают то или иное значение сновидениям и что у разных народов это значение может существенно различаться.
Сложность вопроса усугубляется существованием различных философских и психологических подходов к проблеме сновидения. Большинство из них (и в частности, теоретический и практический психоанализ, где темы сна и сновидения играют чрезвычайно важную роль) исходят из того, что сновидение представляет собой процесс, протекающий в реальном времени в сознании спящего. Предполагается, что сновидение в существенной степени подобно процессам, происходящим в сознании бодрствующего человека. После пробуждения сновидец может представить себе и другим отчет о сновидении при условии «запоминания» последнего[173] 173
Малкольм H. Состояние сна. M, 1993. С. 31-35. См. Также O’Nell C. W. Dreams, Culture and the Individual. P. 3.
[Закрыть].
Однако это исходное положение может быть поставлено под сомнение, что еще в 1950-х гг. было продемонстрировано учеником Л. Витгенштейна Н. Малкольмом. Согласно его построениям, представление о сновидении как о реальном процессе не имеет смысла, так как не подлежит верификации. Единственный критерий сновидения – это рассказ о нем, и поэтому понятие сновидения производно не от психического опыта спящего, а от рассказа проснувшегося. Сон – не то, что снится спящему, а то, о чем рассказывает бодрствующий[174] 174
Малкольм Н. Состояние сна. С. 86-132.
[Закрыть].
Книга Малкольма «Состояние сна» вызвала оживленную философскую полемику, однако нам нет нужды входить в подробности последней. Для культурно-антропологического и фольклористического анализа феномена сновидения важно одно – понимание последнего сводится к исследованию практики «рассказывания снов» (dream-telling). Эта практика, в свою очередь, подразумевает серию коммуникативных процессов (к их числу относится и автокоммуникация[175] 175
«Опыт начинает эволюционировать в нарратив даже во время припоминания сна», – осторожно замечает А. Кайволо-Брегенхой (Dreams as Folklore). Эту мысль можно сформулировать и по-другому: «припоминание» сна и есть момент его рождения; сновидение как культурная реалия существует только в качестве нарратива или символа.
[Закрыть]), обладающих культурной, социальной и локальной спецификой: в разных странах и обществах сны рассказываются по-разному и с разными целями[176] 176
O’Nell C. W. Dreams, Culture and the Individual. P. 22-32.
[Закрыть].
К сходным заключениям, хотя и с других позиций, приводит известная теория «обратного времени» сновидения, высказанная отцом Павлом Флоренским. «Едва ли не правильно, – пишет он, – то толкование сновидений, по которому они соответствуют в строгом смысле мгновенному (выделено автором. – А. П.) переходу из одной сферы душевной жизни в другую и лишь потом, в воспоминании, т. е. при транспозиции в дневное сознание, развертываются в наш, видимого мира, временной ряд, сами же по себе имеют особую, не сравнимую с дневною, меру времени, „трансцендентальную“»[177] 177
Флоренский П. А. Иконостас: Избранные труды по искусству. СПб., 1993. С. 4-5.
[Закрыть]. Впоследствии концепция Флоренского была развита Б. А. Успенским, предложившим объяснять структуру и сюжетику сновидения при помощи понятия «семантической доминанты», т. е. того образа, который воспринимается сновидцем как «знаковый и значимый» и детерминирует «прочтение» сновидения. «Эта конечная интерпретация... – указывает исследователь, – задает, так сказать, ту точку зрения, ту перспективу, с которой видятся эти события. Это своего рода сито, фильтр, через который отсеиваются те образы, которые не связываются с конечным (значимым) событием... и который заставляет вдруг увидеть все остальные образы как содержательно связанные друг с другом, расположить их в сюжетной последовательности»[178] 178
Успенский Б. А. История и семиотика: (Восприятие времени как семиотическая проблема). Статья первая // Труды по знаковым системам. Тарту, 1988. Вып. 22: Зеркало. Семиотика зеркальности (Учен. зап. ТГУ; Вып. 831). С. 72.
[Закрыть].
Итак, в качестве основания для культурно-антропологической интерпретации сновидений может быть предложена следующая модель. Сновидение, будучи неопознаваемым и неверифицируемым психосоматическим опытом, становится достоянием индивидуального сознания и общества благодаря системе коммуникативных «фильтров», причем последние можно трактовать и как нечто, отсеивающее «незначимые» элементы опыта, и в качестве определенного механизма, конструирующего сам этот опыт в том виде, в котором он может быть пригоден для социального использования. Однако такая модель не дает ответа на вопрос о культурной специфике сновидения. В самом деле, точно так же можно описать формирование исторического нарратива (о чем, кстати, писал и Б. А. Успенский[179] 179
Там же. Ср. сходные наблюдения, недавно высказанные С. Ю. Неклюдовым (Неклюдов С. Ю. Исторический нарратив: Между «реальной действительностью» и фольклорно-мифологической схемой // Мифология и повседневность: Материалы научной конференции 18-20 февраля 1998 г. СПб., 1998. С. 288-292).
[Закрыть]), автобиографического повествования или personal experience story. Конечно, указанные особенности припоминания и рассказывания сновидческого опыта создают своеобразную семиотическую ситуацию, связанную с высокой степенью знаковой неопределенности сновидения. Именно это своеобразие позволило Ю. М. Лотману определить сон как «семиотическое зеркало», в котором каждый видит «отражение своего языка»[180] 180
Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 222.
[Закрыть]. Однако и это определение имеет лишь прикладной характер. Исходя из того что сон служит «резервом семиотической неопределенности, пространством, которое еще надлежит заполнить смыслами», «идеальным ich-Erzählung’ом, способным заполняться разнообразным, как мистическим, так и эстетическим, толкованием»[181] 181
Там же. С. 226.
[Закрыть], мы неизбежно сталкиваемся с вопросом: как и почему происходит наделение сновидения теми или иными смыслами в рамках различных культурных практик?
Исследователи, писавшие о роли сновидений в традиционных обществах и тем или иным образом пытавшиеся разрешить этот вопрос, нередко указывали на то, что сон может ассоциироваться со смертью, «потусторонним» или «сакральным» миром[182] 182
См., например: Успенский Б. А. История и семиотика. С. 77-80.
[Закрыть]. На мой взгляд, это наблюдение представляется чересчур абстрактным, тавтологичным и не позволяющим понять, почему со сновидениями связываются конкретные типы представлений. По-видимому, здесь необходимы более предметные суждения, основанные на анализе функций сновидения в контексте тех или иных традиций. Можно, впрочем, высказать и исходное предположение общего порядка: не следует ли говорить о том, что именно при помощи социальной адаптации сновидений многие культуры конструируют само представление о трансцендентной реальности и что, таким образом, тема сновидения может служить критерием для анализа представлений этого рода?
Я уже упомянул, что вопрос о роли сна и сновидения в восточнославянской народной культуре изучен довольно плохо. Единственной обзорной работой по этой теме остается статья А. В. Балова, опубликованная еще в конце XIX столетия[183] 183
Балов А. Сон и сновидения в народных верованиях // ЖС. СПб., 1891. Вып. 4. С. 208-213.
[Закрыть]. Согласно его наблюдениям, можно говорить о следующих «видах» снов, имеющих мифологическое значение для народной культуры: «кошмар», который, по уверениям Балова, «почти повсеместно считается делом домового»[184] 184
Там же. С. 208-209.
[Закрыть], «соблазнительные» и «греховные» сны, «производимые действием дьявола»[185] 185
Там же. С. 209.
[Закрыть], «вещие сны», предвещающие судьбу (к ним относятся и сновидения, связанные с гаданием, и так называемые праздничные сны)[186] 186
Там же. С. 209-212.
[Закрыть], «религиозные» сны, чье происхождение «народ единогласно приписывает Богу и святым Его»[187] 187
Там же. С. 212.
[Закрыть], и, наконец, сновидения, в которых людям являются умершие[188] 188
Там же. С. 213.
[Закрыть]. Конечно, эта классификация имеет довольно условный характер, однако она все же может быть использована в качестве исходной модели при анализе темы сна и сновидения в русской крестьянской традиции. Здесь стоит предложить лишь одну предварительную коррективу. Дело в том, что вышеупомянутые особенности роли сна в культуре естественным образом приводят к поливалентности и вариативности его фольклорных функций. Ситуация припоминания и рассказывания сновидения придает последнему форму нарратива или символа; уже на этой стадии сон получает статус независимой фольклорной единицы. В дальнейшем и сон-нарратив, и сон-символ может быть инкорпорирован в более сложную систему верований, обрядовых действий и т. п.[189] 189
См. девятичленную модель интерпретации «вещих снов» (omen dreams), предложенную А. Кайволо-Брегенхой (Dreams as Folklore. P. 221).
[Закрыть] Таким образом, в фольклоре сновидение играет двойственную роль: с одной стороны, сновидческий опыт может привести к формированию того или иного нарратива либо побудить сновидца к определенным ритуальным и прагматическим действиям. С другой – сновидение нередко служит сюжетным (или даже сюжетообразующим) элементом различных фольклорных форм. Естественно предполагать, что вторая из названных функций сна некоторым образом связана с первой, хотя эта связь существенно различается применительно к разным типам текстов и формам ритуальной деятельности. Кроме того, необходимо подчеркнуть возможность различных акцентов в конструировании и интерпретации сна как культурной реальности. Сон-символ всегда воспринимается как сообщение, требующее непременной расшифровки. Сон-нарратив допускает разные типы толкования: оно может быть и символическим, и «реалистическим» (т. е. сновидение воспринимается как событийная последовательность, протекающая в реальном времени, но в другой реальности). Существенно различается и модальность «сообщений», которые традиционная культура усматривает в тех или иных сновидениях: сон может информировать, предупреждать, принуждать и т. д.
Высказанные соображения, как кажется, приводят к мысли о необходимости исследования роли сновидений в контексте локально и функционально ограниченных культурных форм. Попробуем продемонстрировать возможности такого исследования на примере того, что Балов называл религиозными сновидениями. Общеизвестно, что тема сна и сновидения занимает далеко не последнее место в религиозном дискурсе христианских культур. Конечно, рамки настоящего издания не позволяют рассмотреть весь спектр значений, ассоциирующихся с этой темой даже в рамках русского православия. Кроме того, на мой взгляд, исследование указанной проблематики предпочтительнее начинать с анализа традиционных религиозных практик, связанных с повседневным течением крестьянского быта и не поглощенных институциолизованными формами религиозной жизни. Иными словами, речь идет о той роли, которую сновидение играет в традиционном религиозном обиходе.
Тема сна достаточно часто фигурирует в народных рассказах о деревенских святынях, приходских церквах, часовнях и тому подобных локальных культовых объектах. Как правило, сон используется здесь в качестве дополнительного сюжетного элемента преданий, повествующих о происхождении святыни, проявлении ее чудесных свойств и установлении соответствующих правил контакта между крестьянской общиной и сакральным объектом (локусом)[190] 190
Подробнее о фольклорных текстах этого рода см.: Панченко А. А. Исследования в области народного православия. С. 115-132, 246-254.
[Закрыть], и представляет собой «прямую речь» священного персонажа, адресованную недогадливым крестьянам. Так, в пошехонском предании об основании с. Давыдовского рассказывается, как первопоселенцы строили церковь св. Георгия на выбранном ими месте, но каждую ночь кладка разрушалась, а все строительные материалы переносились туда, где сейчас стоит село. Многие предания, содержащие подобные мотивы, обходятся без сюжетных дополнений: если икона, почитаемый крест или бревна для постройки церкви «уходят» в определенное место, – значит, именно оно пригодно для контактов с сакральным миром. Однако пошехонцы нуждаются в более отчетливом разъяснении.
Наконец, одному благочестивому старцу во сне явился св. Георгий Победоносец и объявил, что ему неугодно сооружение храма на горе Софронихе, что место это для основания селения непригодно, так как на нем невозможно будет достать ни капли воды, и указал на новое место для сооружения храма, на место близ р. Шиги. Сон был передан старцем строителям храма, после чего последние решили воздвигнуть храм на указанном месте[191] 191
Балов А. Сон и сновидения... С. 212.
[Закрыть].
Нередко сновидение становится и более значимым элементом преданий о местных святынях, но при этом его сюжетная функция остается прежней: сон содержит сообщение, непосредственно исходящее из «божественной» сферы. Так, например, обстоит дело в рассказах о священном источнике и чтимой возвышенности («Высокой горе») близ с. Мелковичи Батецкого района Новгородской области. Богомольцы собираются к источнику на праздник Варламия Хутынского (переходящее празднование прп. Варлаама Хутынского в 1-ю пятницу Петрова поста). В этот же праздник обязательно поднимались на «Высокую гору», где, по преданию, «ушла в землю» церковь Печерской Божьей Матери. В 1990 г. здесь были записаны следующие рассказы:
Одна многодетная женщина долго болела и услышала во сне, что должна идти к нашему ключику. Здесь она должна была найти икону с изображением Печерской Божьей Матери. Она пришла и увидела, что икона плавает в воде ликом вниз. Женщина растерялась и пошла в деревню к священнику. Когда они вернулись, иконы в воде не было. Священник приказал построить сруб у источника. Женщине после этого приснился сон, будто Божья Матерь с иконы говорит: «Ты меня не достала, а теперь меня срубом затиснуло, и мне не выйти». Так эта женщина иконы не увидела. Все это было в праздник Варлаама Хутынского, поэтому празднуют в день святого, а икона должна быть другая. ‹...› Однажды одному мужику, у которого болели ноги, приснился сон, будто слышит он: «Огороди гору заборчиком, хоть в две жерди. Нехорошо – место святое, по нему коровы ходят. За это ноги твои поправятся». Мужик постеснялся сделать забор, так и умер больным[192] 192
Полевые записи Т. А. Жегловой (Санкт-Петербургский Городской дворец творчества юных), 1990 г. Пользуюсь случаем выразить свою признательность Т. А. Жегловой, любезно предоставившей мне эти записи.
[Закрыть].
Сходные мотивы встречаем и в рассказе о происхождении почитаемого «живого» родника близ г. Троицка Пензенской губернии:
Одной богомолке во сне три раза являлась Божья Матерь и велела в указанном месте рыть землю и отыскать там ее икону. Но богомолка долго не исполняла приказания, пока не захворала. Во время болезни ей опять было видение, чтобы она всенародно покаялась и, после того как выздоровеет, исполнила возложенное на нее поручение. Богомолка так и сделала. Выздоровев, она отправилась в указанное место и начала рыть. Рыть же надо было только в полдень и полночь. Рыла она одна три недели и, наконец, нашла образ Божией Матери, который и стоит теперь в часовенке, около родника[193] 193
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. По материалам этнографического бюро князя В. Н. Тенишева. СПб., 1903. С. 197.
[Закрыть].
Иногда сновидение оказывается центральным мотивом предания о происхождении святыни (так, собственно говоря, обстоит дело во многих религиозных традициях, о чем, в частности, свидетельствует известная ветхозаветная история о «лестнице Иакова»: Быт. 28, 10-22). В приводимом Баловым рассказе о почитаемом камне-«следовике» близ с. Федоринского Пошехонского уезда преподобная Феодора является некоему «богобоязненному мужу», уснувшему у камня, и приказывает ему «воздвигнуть в честь ее часовню»:
Сходную роль мотив сновидения играет в одном из рассказов о местночтимой могиле Василия Трудящегося близ д. Сорочкино Лужского района Ленинградской области. В 1901 г. местный учитель сообщал о ней следующее:
Много лет тому назад пришел человек, поселился в глухом лесу, среди болот, где сделал себе землянку и жил в ней до своей смерти. Местные крестьяне наткнулись на эту землянку, нашли человека умершим, сидя над раскрытой книгой. Его похоронили тут же, и могила эта чтится окрестными крестьянами[195] 195
Архив ИИМК РАН. Ф. 37. № 7. Л. 12 об.
[Закрыть].
Это известие дополняется сообщением, опубликованным в 1932 г. в журнале «Антирелигиозник»:
Через некоторое время (после смерти Василия. – А. П.) поп Первенский заявил однажды в церковной проповеди, что ему явился во сне покойный Василий и сказал: «Что ты по мне не послужишь. Надо бы послужить». Нашелся какой-то Ванюшка-юродивый..., который стал украшать могилу. Началось служение на могиле[196] 196
Куразов Н. По колхозам Ленинградской области // Антирелигиозник. 1932. № 17/18. С. 44.
[Закрыть].
В тех народных рассказах о местных святынях, где акцентируется мотив святотатства, сон оказывается грозным предупреждением о грядущем наказании. В записанном нами новгородском предании о крестьянине, увезшем местночтимый крест и использовавшем его с профанной целью, фигурирует именно такая ситуация:
Он взял его и унес домой. Поставил в эту, в печку, в ригу, значит, в чело – чтобы, когда затопишь, чтоб в эти окошки дым выходил. Ему приснилось, ему приснилось, значит так, что где ты взял, туда и свези, то тебе, значит, буде нехорошо. Он соскочил ‹...› и сразу лошадь впрег и свез на место его, поставил опять, значит.
По другой версии этого предания, святотатец отбивает часть («ухо») креста:
Привез – и в эту саму, в каменку, в баню. ‹...› И отколол одно это вот как бы ухо, когда ставил. И ему приснился сон, что поставь этот камень на место, где его взял. ‹...› И вот у его заболело ухо, у него это ухо отвалилось[197] 197
См. Панченко А. А. Исследования в области народного православия. С. 124-125.
[Закрыть].
Наконец, сновидение может выступать и в качестве наказания за небрежное отношение к святыне или чтимому могильнику. Так, например, произошло с крестьянами деревни Засосье (Сланцевский район Ленинградской области), близ которой стоял средневековый курган с двумя каменными крестами. Собиратель писал в 1880-х гг.:
Рассказывают, что под этими крестами погребены родоначальники и основатели деревни, Владимир и Симеон, и что в старину кому-то, обладавшему богатырскою силою, вздумалось нести один из этих крестов к церкви, но на половине дороги крест придавил его к земле так, что он не мог сдвинуться с места. Когда же он вознамерился возвратиться с крестом назад, то и сила возвратилась к нему и крест легко был снесен им на прежнее место. В Троицкую субботу крестьяне... приходят на этот курган с кутьею и молятся за упокой душ своих родоначальников и всех неизвестных усопших, здесь будто бы погребенных. Говорят, что они однажды не исполнили этого обряда и за то были наказаны страшными сновидениями[198] 198
Трусман Ю. А. Финские элементы в Гдовском уезде Санкт-Петербургской губернии // Известия РГО. 1885. Т. XXI. С. 193.
[Закрыть].
Итак, в народных рассказах о почитаемых местах, местных подвижниках, чтимых могильниках сон выступает в качестве «прямой речи» священного персонажа, объекта или менее определенной сакральной «инстанции». Эта речь обращена к конкретному человеку либо общине и содержит разъяснения, предписания или предупреждения, касающиеся способов и правил контакта с сакральным миром. Следует отметить, что в подобных преданиях и меморатах сновидение является чуть ли не единственным видом прямого высказывания на языке, понятном человеку. В остальных случаях «сигналы», подаваемые сферой «божественного», транслируются при помощи акционального кода, требующего дополнительной расшифровки. Естественным представляется вопрос о функционировании сновидений такого рода в реальной обрядовой практике крестьянства.
Особое место в повседневной религиозной жизни русской деревни занимает практика так называемых заветов (их также именуют «обетами», «оброками») и т. п. – вотивных пожертвований святыне или святому. «Завет» может иметь и акциональный характер (воздержание от работы или работа в пользу монастыря или церкви). Широко распространены и «заветные праздники», учреждавшиеся в связи с различными кризисными ситуациями: пожарами, неурожаями, моровыми поветриями и т. п.[199] 199
Подробнее см.: Панченко А. А. Исследования в области народного православия. С. 82-101. Замечу, кстати, что обет является одной из самых распространенных форм религиозных практик и известен многим культурам.
[Закрыть] Исследователи, писавшие об этой форме народного православия, обычно интерпретировали ее в свете «магических традиций» или, в лучшем случае, говорили о «кризисной информации», закодированной в форме обетного приношения[200] 200
См.: Щепанская Т. Б. Кризисная сеть (традиции духовного освоения пространства). С. 119.
[Закрыть]. На самом деле, однако, завет оказывается более сложной формой коммуникации с сакральным миром. Известны случаи, когда инициатором завета выступает не человек, а его священный партнер по религиозному диалогу, а транслятором такой инициативы как раз и оказывается сновидение. «Приснится завет, надо сходить положить, очистить душу», – говорят в Заонежье[201] 201
Новикова В. В. Вышитые изделия в традиционной обрядности Заонежья (по материалам экспедиций 1986—1987 гг.) // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1988. С. 62.
[Закрыть]. Очевидно, что эта ситуация требует более детального анализа. В самом деле, что имеет в виду крестьянин, говоря о «приснившемся завете»?
В 1997 и 1998 гг. фольклорно-этнографическая экспедиция Европейского университета в Санкт-Петербурге (далее – ЕУСПб), работавшая на северо-востоке Новгородской области, зафиксировала некоторые данные, которые, как кажется, проливают свет на роль сновидений в практике заветов. Для обрядовой жизни населения этой местности особое значение имеют так называемые жальники, представляющие собою заброшенные могильники эпохи позднего Средневековья[202] 202
О них см.: Панченко А. А. Исследования в области народного православия. С. 207-216; Панченко А. А., Петров Н. И. «Жальники» востока Новгородской области в современной сельской культуре // Дивинец Староладожский: Междисциплинарные исследования. СПб., 1997. С. 85-94.
[Закрыть]. Они могут считаться как опасными и нечистыми, так и священными локусами. Иногда крестьяне считают жальники погребальными памятниками и связывают с ними предания о нашествии интервентов. Нередко жальники считают островком соснового леса, оставленным при распашке полей или посаженным «по завету». С некоторыми из них ассоциируются предания о провалившейся церкви или часовне. Отношение крестьян к жальникам может быть разнообразным: на некоторых из них справляют престольные и заветные праздники, поминают «забыдущих родителей» и «поют Христа» на Пасху, устраивают гулянья молодежи. На некоторых жальниках «пугает»: по ночам там видят огоньки или встречают русалок. На некоторых жальниках хоронят выкидыши и детей, умерших до крещения. Довольно часто с жальниками ассоциируются представления о кладах. На мой взгляд, такое разнообразие поверий и обрядов, связанных с этими могильниками, коренится в общих проблемах динамики народного отношения к древним погребальным памятникам. Для настоящего сообщения важно другое: в некоторых случаях именно жальники служат местом, куда приносят «приснившиеся заветы».