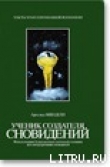Текст книги "Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект"
Автор книги: Александр Панченко
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 37 страниц)
Однако, насколько мне известно, современная крестьянская легендарная традиция все же не содержит мотива ритуального человеческого жертвоприношения у сектантов или старообрядцев. Для того чтобы понять обстоятельства распространения и функции этой легенды применительно к христовщине и скопчеству, необходимо рассмотреть ее аналогии в более широком контексте. Наиболее известная и хорошо исследованная параллель – это уже упоминавшийся «кровавый навет» (называемый также «легендой о ритуальном убийстве»), согласно которому евреи ежегодно приносят в жертву христианского ребенка и используют его кровь в своих ритуалах[457] 457
Мотив Th V 361 («Евреи умерщвляют христианского ребенка, чтобы добыть кровь для своего ритуала (Хью из Линкольна)»). См.: Кровь в верованиях и суевериях человечества / Сост., примеч. В. Ф. Бойкова. СПб., 1995; [Гессен Ю., Вишницер М., Карпин А.] «Записка о ритуальных убийствах» (приписываемая В. И. Далю) и ее источники. СПб., 1914; Трахтенберг Дж. Дьявол и евреи: Средневековые представления о евреях и их связь с современным антисемитизмом. М.; Иерусалим, 1998. С. 102-147; The Blood Libel Legend: A Casebook in Anti-Semitic Folklore / Ed. by A. Dundes. Madison, 1991; Hsia R. Ро-Chia. The Myth of Ritual Murder. Jews and Magic in Reformation Germany. New Haven; L., 1988. В этих изданиях – подробная библиография вопроса. Ср.: Ashliman D. L. Anti-Semitic Legends (http://www.pitt.edu/~dash/antisemitic.html).
[Закрыть]. В связи с кровавым наветом находятся и многочисленные легенды об осквернении евреями гостии, на которой из-за этого выступает кровь, а также представления о евреях-отравителях.
Впервые в истории европейского Средневековья кровавый навет встречается в норвичском деле 1144 г., когда местные евреи были обвинены в том, что накануне христианской Пасхи они купили христианского отрока Уильяма, подвергли его мучениям, подобным мучениям Христа, после чего в Страстную пятницу распяли на кресте и закопали в землю[458] 458
Трахтенберг Дж. Дьявол и евреи. С. 122-123; Dundes A. The Ritual Murder or Blood Libel Legend: A Study of Anti-Semitic Victimization trough Projective Inversion // The Blood Libel Legend. P. 339-340.
[Закрыть]. Во второй половине XII в. такие обвинения широко распространились в Англии, Франции и Испании. В течение последующих четырех столетий легенда о еврейском ритуальном убийстве постепенно мигрировала на восток: через германоязычные земли в страны Восточной Европы. При этом с 30—40-х гг. XIII в. (события в Фульде и Вальреасе) евреев стали обвинять не только в ритуальном убийстве христиан, но и в использовании крови жертв с обрядовыми или магическими целями. Кульминация «эпидемии» кровавого навета пришлась на XV—XVI вв., затем количество обвинений в странах Западной и Центральной Европы стало уменьшаться (думается, что одной из причин этого была Реформация). Однако в восточноевропейских землях (особенно в Польше) кровавый навет получил широкое распространение как раз в XVI—XVII вв.[459] 459
Hsia R. Ро-Chia. The Myth of Ritual Murder. P. 3.
[Закрыть]
В XVIII—XIX вв. обвинения евреев в ритуальном убийстве преимущественно сохранялись в Польше и на западных окраинах восточнославянского ареала[460] 460
Даль В. И. Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их // Кровь в верованиях и суевериях человечества. С. 402-413.
[Закрыть].
Одно из самых известных дел, связанных с кровавым наветом, расследовалось в 1255 г. в Линкольне, где девятнадцать евреев были повешены за то, что они якобы распяли отрока Хью. Эта история послужила основой для английской народной баллады «Сэр Хью, или Дочь еврея», а также для одного из «Кентерберийских рассказов» Чосера («The Prioress’s Tale»)[461] 461
Трахтенберг Дж. Дьявол и евреи. С. 124; Dundes A. The Ritual Murder or Blood Libel Legend. P. 338-339.
[Закрыть]. Другая хорошо знакомая фольклористам легенда о ритуальном убийстве связана с местечком Юденштайн под Инсбруком, где по меньшей мере с начала XVII в. существовал локальный культ малолетнего Андреаса (Андерля) Окснера. Согласно преданию, в 1462 г. он был продан евреям, которые замучили его до смерти на большом плоском камне и повесили тело на березе. Мать Андерля отнесла его тело в местную церковь, впоследствии туда же был перенесен и камень (отсюда – название Юденштайн). Что до березы, то когда некий пастух срубил ее и попытался отнести к себе домой, он сломал ногу и умер от раны[462] 462
Grimm J. und W. Deutsche Sagen. Berlin, 1956. S. 331-332 (№ 353).
[Закрыть]. Очевидец, побывавший в Юденштайне в 1952 г., «увидел в нефе, рядом с алтарем... три деревянные или восковые фигуры, стоящие в угрожающих позах, с ножами в руках, вокруг камня, на котором в умоляющей позе распростерт ребенок, одетый в белое. Эта сцена была призвана напоминать о ритуальном убийстве Андреаса из Ринна в Юденштайне... Позднее он узнал, что в течение почти двух столетий Юденштайн служил местом паломничества, где дети, приводимые родителями, могли своими глазами увидеть реконструкцию того, как три еврея убивают маленького ребенка примерно их возраста»[463] 463
Dundes A. The Ritual Murder or Blood Libel Legend. P. 342-343.
[Закрыть]. Скандал, поднявшийся в 1950-х гг. по поводу этого культа, не привел к каким-либо переменам, и юденштайнская святыня сохранялась до середины 1990-х гг., когда культ Андерля из Ринна был официально запрещен. Юденштайн попытались превратить в мемориал жертв антисемитизма, а также детей, страдающих от преступлений и жестокого обращения взрослых, однако консервативная часть прихожан по-прежнему сохраняет приверженность юденштайнскому культу в его старинном значении[464] 464
Cm.: Halsall P. Medieval Sourcebook: A Blood Libel Cult: Anderl von Rinn, d. 1462 (http://www.fordham.edu/halsall/source/rinn.html).
[Закрыть]. Среди наиболее известных случаев обвинения евреев в ритуальном убийстве на территории Российской империи можно назвать велижское дело 1823 г., а также дело Менделя Бейлиса (Киев, 1913 г.), вызвавшее широкий резонанс во многих европейских странах. Пользуясь выражением А. Дандеса, кровавый навет, наряду с другими мифами этнической и социальной агрессии, можно назвать «зловещим фольклором» (evil folklore): подобные обвинения стоили жизни многим ни в чем не повинным людям. К сожалению, сторонники кровавого навета были и среди европейских фольклористов XIX—XX вв. К исследователям, в той или иной степени убежденным в исторической достоверности легенды о еврейском ритуальном убийстве, Дандес относит Р. Бертона, В. И. Даля, Дж. Фрэзера, К. Баройю, В.-Е. Пойкерта[465] 465
Dundes A. The Ritual Murder or Blood Libel Legend. P. 346-348. Справедливости ради нужно отметить, что авторство Даля (речь идет о «Розыскании о убиении евреями христианских младенцев...») является дискуссионным. Так, Ю. Гессен полагал, что «Розыскание...» написано не Далем, а директором департамента иностранных исповеданий Скрипицыным или генерал-майором Каменским ([Гессен Ю., Вишницер М., Карпин А.] «Записка о ритуальных убийствах»... С. 30-31). Однако аргументы Гессена нельзя признать достаточно вескими. Дандес ошибочно полагает, что работа Даля «основана на полевой работе среди так называемых старообрядцев» (с. 346), однако на самом деле в «Розыскании...» используются отечественные и западные публикации XVII—XIX вв., а также следственные материалы по велижскому делу.
[Закрыть]. Однако начиная с конца XIX – начала XX в., большинство историков, этнографов и фольклористов пытались анализировать кровавый навет не с точки зрения его исторической достоверности, а на основании различных социально-психологических, культурно-исторических и мифологических факторов.
Объяснения генезиса и функций легенды о ритуальном убийстве варьируются достаточно широко: от сугубо исторических и историко-этнографических до психоаналитических. С. Рот, например, полагает, что первоначальным стимулом для распространения кровавого навета стали обряды Пурима, включающие ритуальное поругание изображения Амана. Поскольку в календарном отношении Пурим близок к Пасхе, «эта процедура была истолкована как надругательство над христианством. Так появилось обвинение в ритуальном убийстве... Однако народная логика требовала большего, нежели бессмысленное надругательство. Нужна была и его цель. Поэтому предположили, что кровь используется в медицинских целях... или для пасхального причастия (!)»[466] 466
Roth С. The Feast of Purim and the Origins of the Blood Accusation // The Blood Libel Legend. P. 270.
[Закрыть]. По мнению Г. Штрака, легенда о ритуальном убийстве и использовании крови христиан обязана своим происхождением одновременно и средневековым представлениям об особой магической и целебной силе крови, и неправильному пониманию различных элементов обрядовой традиции иудаизма. При этом Штрак одним из первых подчеркнул социально-исторические особенности возникновения кровавого навета, указав, что обычно он ассоциируется с религиозными (реже – социально-политическими) меньшинствами. Он напомнил, что обвинения в ритуальном каннибализме и инцесте или групповом совокуплении выдвигались против ранних христиан, монтанистов, катаров, вальденсов и т. п.[467] 467
Штрак Д. Кровь в верованиях и суевериях человечества. С. 221-228.
[Закрыть] Сходные позиции занимает Дж. Трахтенберг, отмечающий, кроме того, проективный аспект кровавого навета: «Нетрудно представить себе, как наивные, одержимые теологией люди проецировали свои верования и связанные с ними обрядовые действия на религиозные представления другого народа: если „кровь Христова“ может спасти христиан, почему бы и евреям не воспользоваться ее чудодейственными свойствами, и если кровь играет столь существенную роль в христианских обрядах, почему этому не может быть соответствия в еврейской ритуальной практике?»[468] 468
Трахтенберг Дж. Дьявол и евреи. С. 146.
[Закрыть]. Несколько по-иному смотрит на проблему представительница немецкой школы «психоистории» М. Шульц. Согласно ее мнению, средневековые обвинения в ритуальном убийстве непосредственно связаны с исторической динамикой отношения общества к детям. Кровавый навет и сходные с ним легенды появляются в те эпохи, когда традиционно пренебрежительное отношение к детям сменяется отчетливо выраженным беспокойством за жизнь и здоровье ребенка. Если в такой ситуации общество сталкивается с этническим или социальным меньшинством, где детям уделяется больше внимания и заботы, «у большинства возникает чувство вины, от которого необходимо избавиться. Это избавление достигается посредством проекции на другую группу, по отношению к которой ощущается неполноценность»[469] 469
Schultz M. The Blood Libel: A Motif in the History of Childhood // The Blood Libel Legend. P. 278.
[Закрыть]. Такая ситуация и приводит к появлению легенд об убийстве и ритуальном жертвоприношении детей.
Проективному аспекту кровавого навета уделяется большое внимание в собственно психоаналитической историографии, хотя большинство объяснений, предлагаемых ее представителями, имеют, на мой взгляд, курьезный характер. Так, по мнению Т. Райка, легенда о ритуальном убийстве представляет собой проекцию бессознательного чувства вины, возникающего у христиан в связи с комплексом бого– и отцеубийства. «Человечество... посредством этой легенды открыто признается в старинном стремлении к деициду»[470] 470
Reik Th. Der Eigene und der Fremde Gott: Zur Psychoanalyse der Religiösen Entwicklung. Leipzig, 1923. S. 129 (цит. по: 351).
[Закрыть]. Согласно М. И. Зейдену, кровавый навет также объясняется эдиповым комплексом христианской культуры, поскольку исторически иудаизм породил христианство и, соответственно, иудеи являются «отцами» христиан. Еврей, по Зейдену, это «жестокий отец, который стремится погубить своих невинных первенцев». «Таким образом, в качестве ритуального убийцы маленьких детей средневековый еврей персонифицирует и отражает бессознательный страх „первенца мужского пола“, страх ребенка, что его отец, чьим соперником он является по отношению к жене последнего (и, следовательно, его собственной матери), может однажды его кастрировать»[471] 471
Seiden M. I. The Paradox of Hate: A Study in Ritual Murder. N. Y., 1967. P. 78,145-146 (цит. по: Dundes A. The Ritual Murder or Blood Libel Legend. P. 351).
[Закрыть]. Наконец, Э. Раппапорт видит в легенде о ритуальном убийстве своеобразную проекцию христианских представлений, связанных с доктриной пресуществления[472] 472
Rappaport E. A. The Ritual Murder Accusation: The Persistence of Doubt and the Repetition Compulsion // The Blood Libel Legend. P. 304-335.
[Закрыть].
Из психоаналитических посылок исходит и Дандес, опирающийся на собственную теорию «проективной инверсии» как механизма порождения фольклорных мотивов и сюжетов. Проективная инверсия, по Дандесу, «подразумевает психологический процесс, когда А обвиняет Б в совершении действия, которое, в действительности, хочет совершить сам»[473] 473
Dundes A. The Ritual Murder or Blood Libel Legend. P. 352-353; ср.: Dundes A. Projection in Folklore: A Plea for Psychoanalytic Semiotics // Dundes A. Interpreting Folklore. Bloomington, 1980. P. 33-61.
[Закрыть]. Такая проекция в контексте взаимоотношений различных социальных групп и определяет, по мнению исследователя, специфику тех или иных легендарных сюжетов. Что касается легенды о ритуальном убийстве, то она, согласно Дандесу, является проекцией бессознательного чувства вины, вызываемого у христиан евхаристией и ее культурно-историческими ассоциациями. «В конце концов, римляне, а не евреи убили спасителя, и именно христиане используют его кровь в своем ритуале. Евхаристия – один из главных ритуалов христианства, и она остается таковой, неважно, верят ли, что хлеб и вино действительно превращаются в тело Иисуса Христа, или же просто напоминают о последней трапезе Иисуса. Вкушение крови и плоти спасителя представляет собой, в конечном счете, символический каннибализм. ‹...› В нормальных условиях участники евхаристии должны чувствовать вину за совершение акта каннибализма... Куда же переносится вина за этот акт? Я утверждаю, что она... проецируется на другую группу, идеальную в роли козла отпущения. Благодаря такой проективной инверсии, не мы, христиане, виновны в убийстве индивидуума с целью использования его крови для ритуальных религиозных целей (евхаристия), но, скорее, вы, евреи, повинны в убийстве индивидуума с целью использования его или ее крови для ритуальных религиозных целей – чтобы приготовить мацу»[474] 474
Dundes A. The Ritual Murder or Blood Libel Legend. P. 352.
[Закрыть]. В качестве подтверждения «каннибалических» ассоциаций, вызываемых евхаристией, Дандес приводит соответствующие обвинения, выдвигавшиеся римлянами против ранних христиан (свидетельства Плиния Младшего, Минуция Феликса, Тертуллиана и др.).
Хотя подчеркиваемый Дандесом проективный аспект легенды о ритуальном убийстве представляется достаточно важным, в остальном его концепция выглядит довольно спорной. Во-первых, она, как и любая другая психоаналитическая теория, характеризуется достаточно произвольным способом определения первичных мотиваций, вызывающих к жизни то или иное «вытеснение» или «замещение» (в данном случае такой мотивацией оказывается чувство вины, якобы испытываемое христианами во время евхаристии, особенно – в контексте пасхального периода). Во-вторых, идея Дандеса совершенно не объясняет, почему легендарные формы, очень сходные с кровавым наветом, возникают и вне собственно христианского религиозного контекста. Так, например, обстоит дело с современными городскими легендами. Даже если не касаться многочисленных рассказов о кровавых ритуалах сатанистских сект (поскольку их также можно интерпретировать в качестве инвертированной проекции христианской ритуалистики), остаются легенды о трансплантации детских внутренних органов (так называемого «babyparts stories»), широко распространившиеся в странах третьего мира во второй половине 1980-х гг.[475] 475
Campion-Vincent V. Demonologies in Contemporary Legends and Panics. Satanism and Babyparts Stories // Fabula 1993. Bd. 34, Heft 3/4. S. 238-251.
[Закрыть], или современные им отечественные нарративы о «кооператорах», жарящих шашлыки из детского мяса[476] 476
Новичкова Т. А. Два мира – земной и космический – в современных народных легендах // Русская литература. 1990. № 1. С. 134-136.
[Закрыть]. Наконец, теория Дандеса не позволяет понять, почему в некоторых случаях (скажем, применительно к сектантам) с мотивом ритуального жертвоприношения младенцев стойко ассоциируется мотив группового совокупления и/или инцеста.
Тема каннибализма вкупе с инфантицидом имеет в европейской культуре достаточно богатую историю. В волшебной сказке и в крестьянском мифологическом нарративе каннибалами, как правило, оказываются представители потустороннего мира, более или менее отчетливо связанные с царством мертвых. Однако более широкая семиотическая и историко-литературная перспектива показывает, что тема каннибализма чаще всего используется для маркировки антисоциального или иносоциального, т. е. «чужой» культуры, «чужих» обычаев и т. п. Каннибалом зачастую изображается не столько представитель «иного» мира, сколько член «иного» социума: хотя и «чужой», но все-таки – человек. Если европейцы привычно представляют себе «черных каннибалов», то африканцы, столкнувшись с европейской цивилизацией, тоже рассказывали друг другу истории о белых людоедах[477] 477
См.: Богданов К. А. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб., 2001. С. 242-284.
[Закрыть]. В русских преданиях одним из признаков «литвы», представляемой в качестве хотя и инобытийного, но все же человеческого сообщества, оказывается ее склонность жарить на сковородках или варить маленьких детей[478] 478
АРГО. P. XXXII. № 33. Л. 6; ФЭ ЕУСПб. 1997 г. Новгородская обл. Хвойненский р-н. ПФ-3.
[Закрыть]. Таким образом, темы каннибализма и инфантицида используются массовым сознанием для характеристики «чужого» социального порядка, при этом последний зачастую описывается как набор инвертированных нормативов и табу, характерных для «своей» культуры. Аналогичную роль в данном контексте играют, по-видимому, и мотивы беспорядочных сексуальных отношений, оргий и инцеста.
Представляется, что упомянутая инверсия привычных культурных стандартов является доминирующим адаптивным механизмом в фольклорном конструировании образа «чужой» социальной группы. Особую роль он приобретает, когда речь идет не просто об иносоциальном, но об инорелигиозном, о «чужой вере»[479] 479
Ср.: Campion-Vincent V. Demonologies in Contemporary Legends and Panics. S. 247-248.
[Закрыть]. При этом «подручным материалом» для создания инвертированных образов оказываются, судя по всему, культурные формы, вызывающие повышенное чувство неопределенности и тревоги. Наверное, следует согласиться с Дандесом касательно проективного значения кровавого навета, поскольку об ассоциациях причастия с каннибализмом свидетельствуют не только обвинители христианства, но и сами христиане. Средневековая христианская агиография изобилует практически однотипными повествованиями (так называемая «легенда о евхаристическом чуде») о том, как иноверец (обычно это еврей или сарацин), желая понять смысл таинства евхаристии, приходит в церковь во время причащения и видит, что священник умерщвляет маленького ребенка, разрезает его на части и подает собравшимся мясо и кровь. Увиденное чудо заставляет иноверца креститься[480] 480
Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. XVII. Амфилох-Evalach в легенде о св. Граале // Сборник ОРЯС АН. 1889. Т. 46, № 6; Он же. К видению Амфилоха // ЖС. 1890. Вып. I. Отд. 1. С. 124-125; Туницкий Н. Древние сказания о чудесных явлениях Младенца Христа в эвхаристии // Богословский Вестник. 1907. № 2. С. 201-229; Яцимирский А. И. К истории апокрифов и легенд в южно-славянской письменности. IX. Сказание об эвхаристическом чуде // Известия ОРЯС АН. 1910. Т. XV, кн. 1. С. 1-25 (здесь – подробная библиография вопроса).
[Закрыть]. Любопытно, что этот сюжет воспроизводился не только в христианской письменности, но и в иконографии. Для нас в этом контексте особенно показательны стенописи алтаря церкви Иоанна Предтечи в Толчкове (Ярославль, росписи 1694—1695 гг., артель иконописцев под руководством Дмитрия Григорьева), представляющие собой иллюстрации к символическому истолкованию литургии, приписываемому Григорию Богослову, а также к различным легендарным сюжетам, соотносимым с православным богослужением. На разных стенах жертвенника здесь находятся изображения двух наиболее распространенных в православной традиции вариантов сказания о евхаристическом чуде (чудо из жития Василия Великого и так называемое «видение Амфилохия»), причем во втором случае на фреске прямо изображается заклание ребенка: «В пятиглавой церкви священник в фелони совершает литургию: он стоит пред престолом и копием прободает Младенца, лежащего на дискосе; надпись: Амфилог, царь Сарацинский в Иерусалиме, пришед в церковь Божию во время Святой Литургии, виде яко священник Христа яко Младенца зарезал»[481] 481
Покровский Н. В. Очерки памятников христианского искусства. СПб., 2000. С. 212-213.
[Закрыть]. В средневековой католической традиции также достаточно часто встречаются рассказы «о появлении во время причастия Христа в образе ребенка или агнца»[482] 482
Штрак Г. Л. Кровь в верованиях и суевериях человечества. С. 30.
[Закрыть]. Можно предположить, что евхаристические коннотации такого рода действительно послужили основой и для легенд о еврейском ритуальном убийстве, и для рассказов о кровавом жертвоприношении у западноевропейских и русских сектантов. Однако дело тут не столько в чувстве вины, о котором пишет Дандес, сколько в том, что эти мотивы оказались наиболее созвучными традиционным представлениям об иносоциальном и, соответственно, о том, какой может и должна быть «чужая религия». Необходимо подчеркнуть, что появление легенды о ритуальном убийстве в разных социальных, этнических и религиозных контекстах не может быть объяснено лишь миграцией сюжета или отдельных мотивов и, следовательно, здесь следует предполагать их самозарождение. Едва ли не каждый ритуал, будучи пороговой, лиминальной ситуацией, неизбежно предполагает и позитивные, и негативные эмоции его участников. Вряд ли, однако, следует полагать, что чувства тревоги, неопределенности, страха и т. п., возникающие у людей, совершающих тот или иной обряд, должны обязательно вытесняться и проецироваться вовне. В нормальной ситуации механизм снятия таких эмоций задается самой ритуальной структурой. Однако, когда речь идет об адаптации «чужих обрядов» и «чужой религии», в дело идут именно эти «ритуальные страхи».
Показательно, что средневековая Русь практически не была знакома с легендой о ритуальном убийстве у евреев. Ее единственный и достаточно ранний отголосок можно видеть в 16-м слове Киево-Печерского патерика, где рассказывается о черноризце Евстратии, распятом евреями в Корсуни[483] 483
ПЛДР: XII век. М., 1980. С. 488-491.
[Закрыть]. Широкую известность кровавый навет получил в России лишь в конце XVIII в. – благодаря польскому влиянию[484] 484
[Гессен Ю., Вишницер М., Карпин А.] «Записка о ритуальных убийствах»... С. 14.
[Закрыть]. Однако уже в 1670-х гг. русский читатель мог ознакомиться со вполне представительной подборкой материалов о еврейском ритуальном убийстве. Это книга архимандрита Иоанникия Голятовского «Мессия правдивый», представляющая собой объемистый антиеврейский трактат в форме диалога между евреем и христианином и являющаяся откликом на появление лжемессии Сабефа Себе. Первоначально «Мессия правдивый» был напечатан в Чернигове по-польски, а в 1669 г. в Киеве вышел русский перевод этой книги. Описывая различные злодеяния евреев, Голятовский уделяет внимание и кровавому навету[485] 485
Иоанникий (Голятовский), архим. Мессия правдивый. Киев, 1669. Л. 385-389.
[Закрыть]. Он упоминает двенадцать случаев еврейского ритуального убийства (преимущественно по польским и немецким источникам) в разных европейских странах: от Испании и Англии до Малороссии. Здесь же Голятовский называет четыре причины, по которым евреям необходима кровь христианских младенцев: во-первых, она нужна для «жидовских чар», т. е. для колдовства; во-вторых, евреи тайком дают кровь в еде и питье («в покармах и в напоях») самим же христианам, чтобы достичь их «милости» и «приязни»; в-третьих, кровь христианских младенцев используется евреями для избавления от смрада, которым они смердят «з прироженя своего»; наконец, в-четвертых (и это тайна, которую знают лишь «рабинове»), христианская кровь используется для своеобразного соборования – умирающего еврея «тоею кровю... намазуют», произнося при этом примерно следующее: «Если распятый Иисус – настоящий мессия, обещанный законом и пророками, то пусть кровь невинного человека, умершего с верой во Христа, очистит тебя от грехов и поможет тебе получить жизнь вечную»[486] 486
Там же. Л. 389.
[Закрыть]. Книга Голятовского была довольно хорошо известна в России конца XVII в., поэтому не исключено, что она могла повлиять на соответствующие слухи и толки о ритуальном жертвоприношении у раскольников. Это тем более вероятно, что описанные Иоанникием первый и второй способы использования христианской крови отчасти соответствуют тому применению «брашна» и «пития» с частицами младенческого сердца, о котором писал митрополит Игнатий.
Что касается мотива свального греха, столь прочно утвердившегося в расхожих представлениях о русских мистических сектах, то, не останавливаясь на его семантике в общеевропейской и общехристианской традиции, я коснусь лишь некоторых аспектов актуализации этой темы в русском контексте. Из какого «подручного материала» мог получиться образ «экстатически-непристойного празднества»? Ближайшая аналогия в данном случае – это вышеупомянутые святочные и троицко-купальские собрания молодежи, когда, по формулировке Стоглава, «сходятся народи мужи и жены и девицы на ночное плещевание..., на бесовские песни и плясание и на богомерзкие дела, и бывает отроком осквернение и девкам разтление»[487] 487
Стоглав. С. 141. Некоторые современные исследователи полагают, что свальный грех действительно был более или менее постоянным компонентом святочных собраний крестьянской молодежи. Ср.: «В разных районах России на посиделках парни и девушки „жирились“, потушив огонь, нередко дело доходило до свального греха» (Гура А. В. Коитус // СД М., 1999. Т. 2. С. 525).
[Закрыть]. Насколько мы можем представить себе эротический компонент этих ритуальных комплексов по материалам XIX—XX вв., он выполнял прежде всего инициационную, регулятивную и нормирующую функции. Однако, с точки зрения стороннего наблюдателя, «срамные» крестьянские игры вполне могли выглядеть беспорядочной оргией, к тому же представители церковно-учительной традиции ассоциировали подобное времяпрепровождение с топосом «языческого праздника», т. е. опять-таки инорелигиозного, беспорядочного, оргиастического и бесовского ритуала.
Хорошей, хотя источниковедчески и несколько проблематичной, иллюстрацией здесь может служить 82-я новелла из сборника Челио Малеспини (1580 г.), озаглавленная «Смехотворное путешествие Лактанция Рокколини в Московию». Ее герой, тосканец на службе императора Карла V, отправляется с дипломатическим поручением в Россию. Однажды, «морозным январским днем», он вместе со свитой и провожатыми сбивается с дороги. Наступает вечер. После некоторых приключений путешественники наконец отыскивают жилье и попадают в большое глинобитное здание «с одним пространным покоем посредине, в котором более полуторы тысячи человек, мужчин и женщин, старых и молодых, заняты были плясками по их обычаю. Все пространство освещалось только одною лучиной (lucerna?), тою самою, которая показалась путникам издали; самый же покой похож был скорее на большую конюшню, чем на что-либо другое». Рокколини сажают за трапезу. После ужина он спрашивает о причине веселья. Ему отвечают, «что таков древний обычай этого края: в известные времена собираются вместе соседние мужчины и женщины и, поплясав и позабавившись вместе порядком, тушат лучину, после чего каждый берет ту женщину, которая случится к нему ближе, и совершает с нею половой акт; затем лучина снова зажигается, и снова начинаются пляски, пока не рассветет и все не отправятся по домам». Тосканцу и его спутникам предлагают принять участие в «местном обычае», однако герой отказывается от предложения и предпочитает уединиться «с одной из самых красивых девушек села» в особой светелке[488] 488
Веселовский А. Несколько географических и этнографических сведений о древней России из рассказов итальянцев: Отд. отт. из 2-го т. ЗРГО по ОЭ. СПб., 1870. С. 22-29.
[Закрыть]. Вероятно, что первоначальным источником этой новеллы из сборника Малеспини был подлинный рассказ какого-нибудь путешественника, присутствовавшего на святочных собраниях молодежи (напомню, что действие происходит в январе) в южнорусской или украинской деревне и отметившего там обычай подночевывания, т. е. совместных ночевок парней и девушек по окончании вечера.
Напомню, что хлыстовские радения – «апостольские беседы» – могли прямо противопоставляться «беседам» традиционным, т. е. именно таким молодежным собраниям. В сектантской «песенке», известной нам по сборнику Василия Степанова (о нем – ниже, в гл. 3), поется:
У нашего государя доброхота,
Гостя государя дорогова,
У батюшки государя у роднова
Была тихая смиренная беседа.
И съезжались тут князи и бояре,
Честные все тут власти патриархи
И все тут православные христиане.
Таким образом, обвинения сектантов в свальном грехе также строятся на принципе обратной аналогии. Если ритуальное убийство младенца и ритуальный же каннибализм конструировались массовым сознанием в качестве сектантской евхаристии, то легенда о беспорядочных сексуальных отношениях на радении создавала образ хлыстовского богослужения. И в том, и в другом случае в дело вступал механизм конструирования «чужой религии», основанный на проекции инвертированных и вытесненных смыслов и коннотаций, присущих ритуальным формам «своего» религиозного и культурного обихода[489] 489
Другим примером работы этого механизма могут служить средневековые представления об идолопоклонничестве мусульман, отразившиеся как в западноевропейском героическом эпосе, так и в сочинениях хронистов эпохи крестовых походов. В недавней работе С. И. Лучицкой вполне обоснованно доказывается, что роскошный, инкрустированный золотом идол Мухаммада, якобы низвергнутый Танкредом в мечети Аль-Акса 15 июля 1099 г., является, как и другие «мусульманские идолы», проекцией тех идолопоклоннических коннотаций, которые неизбежно сопровождали почитание священных изображений в повседневном обиходе средневекового христианства. См.: Лучицкая С. И. Мусульманские идолы // Другие средние века. К 75-летию А. Я. Гуревича / Сост. И. В. Дубровский, С. В. Оболенская, М. Ю. Парамонова. М.; СПб., 1999. С. 219-236.
[Закрыть].