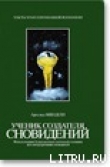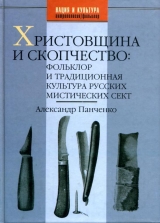
Текст книги "Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект"
Автор книги: Александр Панченко
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Генезис и состав радельной лирики: сборники Василия Степанова и Александра Шилова
Так называемые «песни русских сектантов-мистиков» представляют собой сложный и неоднородный массив текстов. Это особенно бросается в глаза при анализе сборника, составленного Т. С. Рождественским и М. И. Успенским. В него попали и песни из репертуара сектантов-экстатиков XVIII – начала XIX в., и духовные песнопения, сочиненные членами кружка Татариновой, и памятники скопческого репертуара, и песни, сочиненные последователями движения «Новый Израиль»[717] 717
Об этих текстах см: Муратов М. В. Песни Нового Израиля // ЖС. 1914. Вып. III/IV. С. 373-394.
[Закрыть]. Такое механическое объединение разных по источникам и времени происхождения текстов не только не проясняет, но и чрезвычайно запутывает наши представления о фольклоре христовщины и скопчества. С одной стороны, простонародные религиозные движения, причислявшиеся исследователями конца XIX – начала XX в. к «хлыстовству» или «мистическому сектантству», зачастую имели мало отношения к собственно христовщине, сохраняя лишь отдельные элементы хлыстовской экстатической практики. Их песенный репертуар слагался и развивался в самых разных культурно-исторических контекстах. С другой стороны, даже в рамках традиционной христовщины отношение к радельным песням и песенный репертуар существенно различались применительно к разным общинам. Поэтому описание и анализ хлыстовского и скопческого песенного фольклора «в целом»[718] 718
Характерный пример такого общего обзора – очерк П. Н. Бирюкова «Песни, псалмы и гимны русских сектантов, рационалистов и мистиков» (История русской литературы / Под ред. Е. В. Аничкова, А. К. Бороздина, Д. Н. Овсянико-Куликовского. М., 1908. Т. I. Гл. 16. С. 396-422).
[Закрыть], без учета репертуара отдельных общин и его соотношения с конкретными верованиями, обрядами, идеологией и т. п., представляется непродуктивным. Вместе с тем мы располагаем источниками, позволяющими хотя бы отчасти представить себе первоначальный репертуар радельных песнопений христовщины. Это – сборники духовных стихов, составленные хлыстом Василием Степановым (1740-е гг.) и одним из основателей скопчества Александром Ивановичем Шиловым (1790-е гг.). Крайне важно, что оба сборника написаны для «внутреннего употребления» конкретных сектантских групп и, следовательно, отражают песенный репертуар в его актуальном бытовании. Мне представляется, что перспективы изучения песен русских сектантов XVIII—XIX вв. связаны с анализом именно сборников такого рода. Собрания Василия Степанова и Александра Шилова уникальны лишь в силу своей датировки, поскольку для многих сектантских общин XIX—XX вв. (причем не только хлыстовских и скопческих) характерно одновременно и письменное, и устное бытование духовных песнопений. Более того, по материалам современных полевых исследований, «устно-письменная» трансляция вообще характерна для простонародной религиозной поэзии XIX—XX вв.[719] 719
См.: Коробова А. В. Проблемы классификации поэтических жанров фольклора религиозной тематики // Славянская традиционная культура и современный мир: Сборник материалов научно-практической конференции / Сост. В. Е. Добровольская. М., 1997. Вып. II. С. 31-32; Духовные стихи. Канты (Сборник духовных стихов Нижегородской области) / Сост., вступит. ст., подг. текстов, иссл. и комм. Е. А. Бучилиной. М., 1999. С. 6-33.
[Закрыть] Это явление, конечно, представляет специальный интерес и само по себе, причем не только в смысле техники исполнения и трансмиссии тех или иных фольклорных памятников, но и применительно к культурным функциям религиозного фольклора как такового. Для нас, однако, сейчас важно другое: «микроисторический» анализ сборников сектантских духовных песнопений предоставляет неоценимые перспективы для изучения идеологии, культурной топики и, если угодно, ментальности отдельных «текстуальных сообществ», из которых в конечном счете и складывались простонародные религиозные движения XVIII—XX вв.[720] 720
Я заимствую термин «текстуальное сообщество» (textual community) у Р. Крамми (Crummey R. Old Belief as Popular Religion: New Approaches // Slavic Review. 1993. Vol. 52, № 4. P. 707-708). Он, в свою очередь, использует выражение Б. Стока (Stock В. The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries. Princetone, 1983. P. 90-92). Однако при помощи этого выражения Крамми стремится обособить старообрядчество в целом, тогда как для меня важно обратное: христовщину и скопчество объединяет общая ритуальная практика, тогда как текстуальный репертуар применительно к различным общинам может существенно варьироваться.
[Закрыть] Думаю, что такой анализ непременно должен предшествовать исследованию более общих вопросов соотношения сектантских духовных стихов и традиционного песенного фольклора в целом.
Сборник Василия Степанова. Сборник сектантских духовных стихов («песенок»), составленный Василием Степановым, доступен нам благодаря следственным мероприятиям московской комиссии 1745—1756 гг. Биографические сведения о Василии фрагментарны[721] 721
Нечаев В. В. Дела следственные о раскольниках комиссий в XVIII веке. С. 169-171.
[Закрыть], однако даже они показывают неординарность его личности и судьбы. Василий был «чухной» (т. е., по-видимому, карелом) и родился в д. Костоярви Корельского уезда (вероятно, в самом конце XVII в.)[722] 722
Возможно, д. Костамоярви Кирьяжского погоста (Kurkijoki) близ северо-западного берега Ладожского озера, известная по переписным книгам Корельского уезда 1618 и 1631 гг. (благодарю за консультацию А. А. Селина).
[Закрыть]. Сословная принадлежность его родителей неизвестна, но не исключено, что они были крестьянами-старообрядцами. В детстве Василий был отведен в плен в Россию (скорее всего, во время военных действий 1702—1703 гг.) «и жил здесь по составленному им самим подложному паспорту за подписью полномочного посла Лефорта: он был человек весьма грамотный, умел писать по-русски и по-латыни»[723] 723
Нечаев В. В. Дела следственные о раскольниках комиссий в XVIII веке. С. 170.
[Закрыть]. В 1720-х гг. Василий был обращен в христовщину старицей Настасьей Карповой и довольно скоро стал одним из лидеров московских сектантов. Во время следствия 1733—1739 гг. он скрывался в с. Коломенском у дворцового садовника Антона Иванова. После завершения процесса он продолжал свою религиозную деятельность, руководя молитвенными собраниями и привлекая в секту новых прозелитов. Всего ему удалось обратить 26 человек.
Судя по всему, Василий Степанов был не только образованным и деятельным проповедником, но и «одаренным» экстатиком. Об этом, в частности, свидетельствует следующий эпизод. В 1745 г. во время допроса члены следственной комиссии потребовали, чтобы Василий описал «действие, чинимое на богопротивном... зборище». Однако попытка описать радение привела к тому, что Василий «лег на пол и лежал с полчетверти часа и ничего не говорил; и потом, поднимая ево от полу с аршин, било оземь и бросало по сторонам необычайно»[724] 724
РГИА. Ф. 796. Оп. 26 (1745 г.). № 81. Л. 99.
[Закрыть]. Таким образом, одно только воспоминание о радельной практике привело его в экстатическое состояние, известное нам и по показаниям других московских хлыстов этого времени: оно ассоциировалось с нисхождением Святого Духа.
В. В. Нечаев полагал, что Василий был представителем «нового направления» в московской христовщине 1740-х гг.; одним из тех, кто стал «изучать св. Писание и церковную литературу», стараясь «извлекать из них доказательства в пользу учения секты»[725] 725
Нечаев В. В. Дела следственные о раскольниках комиссий в XVIII в. С. 170.
[Закрыть]. Свое предположение о первоначально сугубо устной природе хлыстовского фольклора и догматики Нечаев основывал на упомянутых в предыдущей главе легендарных сказаниях о Даниле Филипповиче. Московские хлысты 1830-х гг., «печатных книг и вообще никаких» не любившие и учившие прозелитов на основании «изустных преданий и толков», рассказывали, что «Данила Филиппов сперва был перекрещенец и потому много имел старообрядческих книг; потом... распускал о себе молву, что он не имеет земного начала, а сошел с небес от Бога, и потому имеет непосредственное сношение со Св. Духом, от которого получает все наставления... Посему все свои книги кинул в реку Волгу, так как не нужные, и установил не иметь книжного учения, а руководствоваться преданиями и вдохновениями пророков и пророчиц их секты»[726] 726
Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Пг., 1915. Вып. 1: Христовщина, т. 1. С. 39, 41-42.
[Закрыть]. Такой рассказ представляется вполне естественным в контексте культурных практик и идеологии ряда хлыстовских общин XIX в., ориентировавшихся исключительно на устную легендарную традицию, однако он ни в коей мере не соответствует реальной практике христовщины первых десятилетий XVIII столетия. Прежде всего, мы знаем, что начиная с 1720-х гг. значительная часть сектантских лидеров принадлежала к белому и черному духовенству. Следовательно, многие из них умели и читать, и писать, а также имели хотя бы приблизительное знакомство с Библией, агиографией и другими видами христианской книжности, не говоря уже о православном богослужении. Однако грамотность и ориентация на религиозную книжность характеризовали сектантских лидеров и ранее. Так, наставник Настасьи Карповой и Василия Степанова, крестьянин Новодевичьего монастыря Алексей Трофимов, бывший, вероятно, современником Лупкина[727] 727
Чистович И. А. Дело о богопротивных сборищах и действиях. С. 6.
[Закрыть], в своих поучениях ссылался на «Алфавит духовный», церковные песнопения и т. п.[728] 728
Нечаев В. В. Дела следственные о раскольниках комиссий в XVIII веке. С. 170.
[Закрыть] Таким образом, по крайней мере с начала XVIII в. хлыстовский религиозный фольклор представлял собой сложное смешение книжных и устных элементов.
При аресте у Василия Степанова были изъяты два письма и сборник духовных «песенок», состоявший из 28 текстов. «С подъему и с розыску» Василий показал, что письма (одно – из Москвы в Ярославль, другое – из Ярославля в Москву; датированы соответственно ноябрем и декабрем 1732 г.) «писаны в похвалу лжеучителя Прокопья Лубкина, которого именовали сыном Божиим и Христом»[729] 729
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 11 (1756 г.). № 732. Л. 166.
[Закрыть]. «Похвала» – выражение не совсем точное, речь в письмах шла о кончине Лупкина. Что касается песен, то они исполнялись во время богослужебных собраний. «По показанию Василия Степанова, две из них были сочинены им самим, остальные – списаны им у согласника (т. е. члена хлыстовской общины. – А. П.) Андрея Чулошникова, сосланного в Сибирь по приговору первой комиссии»[730] 730
Нечаев В. В. Дела следственные о раскольниках комиссий в XVIII веке. С. 171.
[Закрыть]. Вероятно, Василий же снабдил почти все «песенки» своего сборника заголовками, акцентирующими смысл и настроение каждого текста.
По решению Синода оригиналы писем и сборника песнопений, а также хранившиеся у Степанова в качестве мощей волосы наставника Алексея Трофимова надлежало «сжечь через палача»[731] 731
Собрание постановлений по части раскола, состоявшихся по ведомству Св. Синода. СПб., 1860. Кн. I: 1716—1800. С. 554.
[Закрыть]. При этом, однако, со всех текстов были сняты копии. Сначала их отправили в Петербург, где они хранились в Синодальной канцелярии[732] 732
РГИА. Ф. 796. Оп. 26 (1745 г.). № 81.
[Закрыть], но затем переслали в Московскую контору Синода: «А понеже с таковых же письмишек и песнишек, взятых у чухны Василия Степанова, имеются в производимом в Святейшем Синоде деле присланные из упомянутой следственной о раскольниках Комиссии копии, того ради оныя, яко непотребныя и Церкви Святой противныя, отослать, для отдачи, к таковому ж с ними поступку (т. е. для сожжения. – А. П.)... в Московскую Святейшего Синода Контору»[733] 733
Собрание постановлений по части раскола, состоявшихся по ведомству Св. Синода. Кн. I. С. 554.
[Закрыть]. Тем не менее по чьей-то халатности копии так и остались в одном из дел Московской конторы[734] 734
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 11 (1756 г.). № 732 («По указу из святейшего Синода о имении надлежащего о разосланных по делам прежде бывшей и оказавшейся 1733 и потом паки возникшей в 745 годех квакерской ереси того чина людей смотрения и о разсылке о том, куда надлежит, печатных экземпляров и о протчем»).
[Закрыть]. Именно здесь их и обнаружил петербургский сектовед И. Г. Айвазов, опубликовавший «письмишки и песнишки» в 1915 г. в первом томе своих «Материалов для исследования русских мистических сект»[735] 735
Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Пг., 1915. Вып. 1: Христовщина, т. 1. С. 1-35.
[Закрыть]. Однако, когда в 2000 г. я обратился к тому же самому делу для проверки публикации Айвазова, выяснилось, что тексты исчезли. По реестру дела, составленному еще в XVIII в., значатся «копии с писмишек и песнишек, взятые у чухны Василья Степанова, которыя в Синод были присланы и у следственной о расколниках комиссии имелись при особливом начевшимся в святейшем Синоде 1745 февраля 21 дни деле и из оного вырезаны. На пятнадцати листах и одной странице»[736] 736
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 11. (1756 г.).№ 732. Л. 130 об.
[Закрыть]. В деле эта часть должна была начинаться после 403-го листа, но она кем-то изъята.
Трудно сказать, кто именно впоследствии вырезал «копии с письмишек и песнишек» из дела синодальной конторы. Не исключено, однако, что это мог быть сам Айвазов. Н. Г. Высоцкий – один из критиков Айвазова, также занимавшийся историей простонародных религиозных движений XVIII в., – писал о работе автора «Материалов для исследования русских мистических сект» в Московском архиве Министерства юстиции следующее: «Здесь он прежде всего постарался о том, чтобы ему было предоставлено право заниматься не в общем зале, где работают все остальные посетители, а в канцелярии... Сюда ему приносили целые короба с делами, и он рылся в них никем и ничем не стесняемый. В общем же зале сидел его письмоводитель и снимал, по его указанию, нужные для него копии»[737] 737
Высоцкий Н. Г. Сомнительное «ученое» издание (Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1: Христовщина, т. 1-3. Пг, 1915). М., 1916. С. 15.
[Закрыть]. Таким образом, возможность вырезать тексты, не привлекая внимания сотрудников архива, у Айвазова была.
Как бы то ни было, публикация, предпринятая этим исследователем, – единственная копия сборника Василия Степанова, доступная нам в настоящее время. С точки зрения научного уровня она оставляет желать лучшего – здесь критические замечания Высоцкого совершенно справедливы. Айвазов указал лишь год, номер и название дела, из которого взяты тексты, не утруждая себя никакими комментариями. Однако я не вижу оснований сомневаться в точности воспроизведения самих «песенок». Вероятно лишь, что в некоторых случаях публикатор ошибся при разделении текстов на стихотворные строки. Тем не менее я считаю необходимым предпринять републикацию сборника Василия Степанова, скорректировав предполагаемые ошибки Айвазова и снабдив тексты необходимым комментарием (см. приложение 1 к настоящей работе)[738] 738
Изменения, внесенные мной в публикацию Айвазова, специально оговорены во вступлении к публикации. Там же читатель найдет все частные наблюдения и разъяснения, касающиеся отдельных текстов сборника.
[Закрыть].
Сборник Василия Степанова позволяет нам не только адекватно оценить первоначальный репертуар хлыстовских радельных песнопений, но и по-новому взглянуть на проблему культурно-исторического контекста ранней христовщины. Поскольку все «песенки», кроме двух, были переписаны Степановым у сектанта, сосланного еще первой комиссией, сложение этого репертуара можно датировать по крайней мере рубежом 1720-х и 1730-х гг. Составляющие сборник тексты можно условно разделить на три группы. Во-первых, это духовные стихи, не связанные, по всей вероятности, с какой-либо обособленной сектантской либо старообрядческой группой. К ним следует отнести краткий вариант стиха «Разговор Иоасафа с пустыней» (№ 3), где царевич Иоасаф заменен царем Давидом, а весь текст в целом переосмысляется как «прошение и моление к Богу в царство небесное»; стих о расставании души с телом (№ 22); а также, возможно, стихи «Братцы вы, братцы духовныя...» (№ 6, о почитании Благовещенской обедни, Пасхальной заутрени и вечерни Пятидесятницы; см. комментарий к этому тексту) и «Свет Господи, создатель мой...» (№ 24; корреспондирует со вступительной частью стиха об Иосифе Прекрасном («Кому повем печаль мою»)). Во-вторых, отчетливо обособляются тексты эсхатологического содержания, имеющие параллели в старообрядческом репертуаре XIX в. Это – стихи «Идет лето сего света...» (№ 2) и «Еще кто б нам построил...» (№ 23). Очевидно, что оба текста связаны с эсхатологическим фольклором русского старообрядчества. Появление их в сборнике Василия Степанова – лишнее свидетельство тесной связи ранней христовщины с радикальным крылом русского раскола начала XVIII в. Наконец, большая часть «песенок» (№ 1, 4, 5, 7-21, 25-27) несомненно должна быть атрибутирована собственно в качестве репертуара московской христовщины 1720—1730-х гг. Характеризуя эти тексты в целом, необходимо отметить, что фактически все они имеют лирический характер, хотя некоторые из них и включают определенное число эпических элементов. Это обстоятельство важно, поскольку оно свидетельствует о сравнительной «молодости» хлыстовской фольклорной традиции этого времени. К середине XIX в. и христовщина, и отделившееся от нее скопчество сформировали достаточно богатую эпику, репродуцировавшуюся как в прозаической, так и в песенной форме. В XVIII в. мы ничего подобного не наблюдаем. Вместе с тем среди «песенок» из сборника Василия Степанова выделяется ряд текстов, репрезентирующих основные образы и мотивы религиозной космологии христовщины. По-видимому, они составляли ядро хлыстовского радельного репертуара того времени. Прежде всего это стихи «Как доселева мы жили на земле» (№ 4), «Дай, Господи Иисусе, свет Христос Сын Божий» (№ 10), «Как у нас было в каменной Москве» (№ 21).
В стихе «Как доселева мы жили на земле» излагается «священная история» христовщины и ряд основных положений ее учения. В самом начале текста возникает образ белого престола Господня, обладающий отчетливыми апокалиптическими коннотациями: это тот самый престол, на котором воссядет Бог в день Страшного суда (см. комментарий в приложении 1). Однако в нашем тексте действие развивается иным образом: Господь Бог сходит на землю во плоти и собирает праведных на святу беседу на апостольску, т. е. на радение:
По земли, сударь наш, Он катается,
Поровну, сударь, Он с человеками,
Во плоти, сударь, Он в человеческой.
Собиралися, соходилися
Со все со четыре со сторонушки
На святу беседу на апостольску,
Возмолилися ко Святому Духу,
Проливали слезы ко источнику:
«Государь наш, батюшка Святый Дух,
Укажи нам путь свой Божей истинной.
Нам как итти – до тебя дойти,
До твоего царства до небеснова,
До раю, сударь, до блаженнова?»
Молитва услышана, и Святой Дух прорекает аскетические правила, подразумевающие запрет на употребление алкоголя, сексуальные отношения, гнев и бранные слова:
Вы не пейте же пойла пьянова,
Ни вина, други, ни зеленого,
Не ставите ж меды сладкие,
Не творите, други, греха тяшкова,
Не бранитеся словом скверным,
Не гневайтеся всякою злобою,
Не водитеся сестры с братиями.
Путь до царства до небеснова описывается при помощи распространенного эпического топоса: он лежит через тихой Дон, Сладей-реку и Дарей-реку. Вместе с тем указывается и на неправильный путь: нельзя ходить на Шат-реку, она – шатовитая и отлучит от дела Божиева. Помимо влияния традиционной мифопоэтической топики здесь можно видеть и воздействие утопической легенды о «далеких землях», специально исследовавшейся К. В. Чистовым[739] 739
Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды. С. 237-326.
[Закрыть]. В связи с этим следует, по-видимому, сопоставить Дарей-реку из нашего стиха с крестьянскими рассказами о «реке Дарье», известными по материалам XIX в. К. В. Чистов предполагал, что легенда о «реке Дарье» возникла в первой четверти XIX в., но затруднялся ответить на вопрос о причинах ее появления[740] 740
Там же. С. 307.
[Закрыть]. Не исключено, таким образом, что эта легенда сформировалась по крайней мере на столетие раньше[741] 741
Ср. также Дарью-реку в одном из вариантов песни «Князь Роман и Марья Юрьевна»: Путилов Б. Н. Русский историко-песенный фольклор XIII-XVI веков. М.; Л., 1960. С. 82.
[Закрыть].
Заключительный мотив стиха – праведные восходят на Сион-гору и оглядываются посмотреть, не остался ли кто на сырой земле, – обладает отчетливыми эсхатологическими коннотациями. Характерная параллель этому эпизоду отыскивается в духовном стихе о Страшном суде из сборника Бессонова:
Выди-ко, человече, на Сиянскую гору,
Погляди, человече, вниз по матушки-земли...
И течет по земли речка огненна:
Пламя пышет из реки с земли до неба.
Как стоят у реки души грешныя,
Души грешныя, беззаконныя,
Оны вопят и кричат – перевозу хотят[742] 742
Бессонов П. Калеки перехожие. Вып. 5. С. 161-162 (№ 487).
[Закрыть].
Вступительная часть стиха № 10 представляет собой вариант «начальной молитвы», или «Иисусовой молитвы», – главного ритуального песнопения хлыстов и скопцов (см. выше):
Дай, Господи Иисусе, свет Христос Сын Божий,
С нами да, сударь, святые,
Свет памилуй нас грешных.
Пресвятая Богородица, упроси о нас о грешных
У своего Сына, у нашего Бога,
Тобою спасет от суда души наши грешныя
На сырой земле.
Дальнейшая часть стиха изображает появление христовщины с опорой на два доминантных образа: Сын Божий разсевает по всей подселенной свое Божие семя (здесь очевидно косвенное влияние евангельской притчи о сеятеле, более отчетливо она воздействовала на стих «Как у нас было в каменной Москве», о чем см. ниже); из семени вырастает свято древо кипарисно, на ветвях которого сидят царския дети, поющие песни – архангельские гласы. Изображение сектантской общины в виде дерева с сидящими на нем птицами характерно и для более поздних памятников фольклора христовщины и скопчества. Так, в одном из скопческих стихов о ссылке Кондратия Селиванова поется:
В другом песнопении история скопчества представлена следующим образом:
Любопытно, однако, что образ свята древа кипарисна из сборника Василия Степанова обладает более сложной метафорической структурой. Дерево здесь – не просто сектантская община, «гнездо» верных и праведных, но и сам Сын Божий:
Да что древо кипарисно?
Да тот сударь (Сын) Божий.
Да что булатное корение?
Это – крепость-утвержденье.
Что серебряны ветве?
То добры его дела.
Что листье золотое?
То вера его, радение,
И плач(ь), и моление,
И слезное течение,
Сердечно попечение.
Вероятно, что в той или иной степени все эти образы восходят к апокрифическим и легендарным сказаниям о крестном древе, широко распространенным в христианской словесности[745] 745
См.: Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. IV. Сон о дереве в Повести града Иерусалима и стихе о Голубиной книге // Сборник ОРЯС АН. СПб., 1881. Т. 28, № 2. С. 47-72; X. Западные легенды о древе креста и слово Григория о трех крестных древах // Сборник ОРЯС АН. СПб., 1883. Т. 32, № 4. С. 367-424.
[Закрыть], а также к отдельным мотивам славянских поверий о миротворении (сюжет о голубях, творящих мир в галицких колядках)[746] 746
См.: Кузнецова В. С. Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской фольклорной традиции. Новосибирск, 1998. С. 110-117.
[Закрыть]. Вместе с тем можно указать и на возможные иконографические прототипы кипарисного древа из сборника Василия Степанова.
Во второй половине XVII – начале XVIII в. образы дерева и сада получили особенно широкое распространение в русской литературе и искусстве. «Традиционная для христианства флористическая тематика, – отмечает В. Г. Чубинская, – обретает новые черты, выступает в новых формах, выходивших за рамки древнерусской церковной традиции и появившихся в ней под воздействием южнорусской культуры. В ней эта тема переживалась в идейно-художественном и стилистическом контексте барокко, внесшего в общехристианскую символику древа новое смысловое наполнение. В художественном сознании барокко складывается стройная система образности, в центре которой стоит сложная, многосоставная аллегория Вертограда, отвечавшая глубокой потребности барокко в символическом познании мира, в создании его универсальной метафорической модели. Носителями и проводниками идеи Вертограда на Руси были ученые-книжники украинского и белорусского происхождения, игравшие видную роль в русской культуре этого времени»[747] 747
Чубинская В. Г. Икона Симона Ушакова «Богоматерь Владимирская», «Древо Московского государства», «Похвала Богоматери Владимирской» (Опыт историко-культурной интерпретации) // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. XXXVIII. С. 293.
[Закрыть]. Среди различных иконографических композиций, наглядно воплощавших эту топику, особенно выделяются изображения дерева (или виноградной лозы; зачастую дерево или лоза вырастают из здания церкви), на ветвях которого располагаются фигурки святых. Вершина дерева увенчивается изображением Богородицы, Христа или Саваофа. Согласно Чубинской, «в основе данной иконографии лежит композиция „Древа Иессеева“[748] 748
Представление о «Древе Иессеевом» восходит к известному месту из Книги Исайи, воспринимавшемуся христианской традицией в качестве пророчества об Иисусе: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей Своих, и не по слуху ушей своих решать дела» (Ис. 11: 1-3; ср. также стихи 4-10). Ср.: Деян. 13: 22-23; Рим. 15: 12).
[Закрыть], чрезвычайно популярная в украинском искусстве XVII—XVIII вв. Мотив виноградной лозы, на ветвях которой в чашечках цветов располагаются полуфигуры святых, получил широкое распространение в декоративной резьбе иконостасов, в орнаментике окладов богослужебных книг»[749] 749
Чубинская В. Г. Икона Симона Ушакова «Богоматерь Владимирская»... С. 295.
[Закрыть]. К изображениям этого типа можно, в частности, отнести фронтисписы из Киево-Печерского Патерика 1661 г., «Акафистов» киево-печерских изданий 1663 и 1674 гг. и др.[750] 750
Там же. С. 293-297.
[Закрыть] Особенно характерную параллель образу святого древа из сборника Василия Степанова представляет собой миниатюра «Древо родословия Иисуса Христа» из Евангелия 1678 г. (вклад царя Федора Алексеевича в Верхоспасский собор Теремного дворца). На ней «изображено... большое раскидистое дерево; у подножья дерева – обнаженные фигуры Адама и Евы среди райских цветов, окруженные зверями. На ветвях дерева в очень свободных позах написаны праотцы, родоначальники еврейского народа; с большим знанием и умением переданы сложные положения их фигур. ‹...› Увенчивается дерево распятием»[751] 751
Свирин А. Н. Искусство книги Древней Руси. М., 1964. С. 141, 282.
[Закрыть]. На вершине дерева у подножья распятия написана Богородица с Младенцем. Я далек от мысли, что сложная барочная аллегория могла прямо повлиять на символику хлыстовской культуры. Однако вполне вероятно, что именно рассматриваемая иконография послужила одним из главных источников образов дерева и сада, широко распространенных и в фольклоре ранней христовщины, и в позднейшей культурной традиции русских мистических сектантов.
Сюжет стиха «Как у нас было в каменной Москве» (№ 21) в значительной степени повторяет структуру текста № 10. Первая часть этой песенки представляет собой переложение одной из самых известных евангельских притч – о сеятеле (Мф. 13: 3-23) – применительно к русской христовщине. Начало стиха (о посеянном при дороженьке) близко к тексту Евангелия, однако в дальнейшем метафорика притчи перерабатывается в соответствии с традиционной фольклорной топикой. Молодец сеет свои семена среди моря на белом камне. Этот мифологический локус (камень на море, камень Латырь/Алатырь, камень с различными цветовыми эпитетами (белый, синий, серый), обозначающими принадлежность к потустороннему миру, горюч камень) достаточно часто встречается в различных жанрах восточнославянского фольклора, в частности – в заговорных текстах, где он служит конечной точкой «мысленного пути» заговаривающего, местом встречи с тем или иным сакральным персонажем (Христом, Богородицей, святыми и т. п.)[752] 752
Среди обширной библиографии этой темы см., в частности: Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. III. Алатырь в местных преданиях Палестины и легенды о Грале // Сборник ОРЯС АН. СПб., 1881. Т. 28, № 2. С. 1-46; Коробка Н. И. «Камень на море» и камень алатырь // ЖС. 1908. Вып. VI. С. 409-426; Агеева Р. А. Пространственные обозначения и топонимы в заговоре как типе текста (на восточнославянском материале) // Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М., 1982. С. 132-159; Демиденко Е. Л. Значение и функции общефольклорного образа камня // РФ. Л., 1987. Т. XXIV. С. 85-98; Ильинская В. Н. Камень Латырь и его роль в русских заговорах // Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. I. M., 1988. С. 37-38; Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993. С. 110-112.
[Закрыть]. Мы находим его и в вышеупомянутых колядках о миротворении «в качестве первозданного камня, существующего уже в начале творения»[753] 753
Коробка Н. И. «Камень на море» и камень алатырь. С. 409.
[Закрыть]:
А що нам было з нещаду свита?
Ой не было ж нам хиба сина вода,
Синая вода, тай билый камінь,
А прикрыв Господь сыров землицев.
Выросло на ным Кедрове древо
Барз высочейке и барз сличнейке[754] 754
Кузнецова В. С. Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской фольклорной традиции. С. 116.
[Закрыть].
Вместе с тем в стихе о Голубиной книге Латырь-камень определяется как место, где Христос «со апостолам» «утвердил веру», что вполне созвучно идеологии ранней христовщины:
Почему бел Латырь-камень каменям мати?
На белом Латыре на камени
Беседовал да опочив держал
Сам Исус Христос Царь небесныий
С двунадесяти со апостолам,
С двунадесяти со учителям;
Утвердил он веру на камени,
Распустил он книги по всей земли:
Потому бел Латырь-камень каменям мати[755] 755
Бессонов П. Калеки перехожие. Вып. 2. № 80.
[Закрыть].
Не вдаваясь подробно в интерпретацию рассматриваемого образа и ассоциирующихся с ним дерева, острова и т. п., отмечу, что он представляет собой полифункциональную мифопоэтическую формулу, репрезентирующую одновременно и «центр» фольклорного космоса, и границу человеческого мира, точку соприкосновения с потусторонними сферами. Для нас, однако, прежде всего важны космогонические коннотации этой топики. В сочетании последней с евангельскими образами и мотивами легенд о крестном древе они создают специфическую мифологию христовщины, где второе пришествие Христа, создание сектантской общины и ожидание Страшного суда ассоциируются с представлениями о первотворении.
В заключительной части рассматриваемого стиха хлыстовская община предстает уже не как кипарисно древо, но в виде зеленого сада, взращенного небесными силами:
Уже кто этот зеленой сад,
Еще кто же да ево посадил?
Как садил ево зеленой сад,
Посадил ево государь-батюшка.
Еще кто этот зеленой сад,
Еще кто то ево поливал?
Поливала да этот зеленой сад,
Поливала да ево матушка —
Сама Мать Божия Богородица.
Еще кто этот зеленой сад,
Еще кто ево огораживал?
Огораживал етот зеленой сад
Уже сам государь свет Сын Божий.
Еще кто да ево возврастил
Этот зеленой сад?
Возврастил ево Святый Дух
Он со всею силою небесною,
Он со ангелами-архангелами.
Этот образ также находит многочисленные параллели в более поздних памятниках фольклора русских сектантов-экстатиков[756] 756
Рождественский Т. С., Успенский М. И. Песни русских сектантов-мистиков. С. 275-292 (№ 197-208).
[Закрыть]. В сборнике Василия Степанова образ сада встречаем также в стихе «Садик мой, садик, зеленой мой виноград» (№ 25).
Специального комментария заслуживают строки Во Кремле было красном городе, / Во дворце было государеве, / От крыльца было от красново, / Уже ис погреба государева / Выходил туто добрый молодец – поскольку они представляют собой единственное во всем сборнике указание на исторические обстоятельства появления московской христовщины в начале XVIII в. Под добрым молодцем здесь, очевидно, подразумевается либо Иван Тимофеев Суслов, либо Прокопий Данилов Лупкин, поскольку речь идет об основании хлыстовской общины в Москве. Не случайно и упоминание красново крыльца и погреба государева. Судя по всему, во второй половине XVII в. помещение под Красным крыльцом Большого Кремлевского дворца (крыльцо находилось между Благовещенским собором и Грановитой палатой; предназначалось для царских выходов в кремлевские соборы и к народу) служило местом кратковременного заключения для нарушителей общественного порядка, религиозных или политических преступников. Когда в 1664 г. протопоп Аввакум отправил к Алексею Михайловичу письмо со своим духовным сыном юродивым Федором, последний «с письмом приступил к цареве корете со дерзновением, и царь велел ево посадить и с письмом под Красное крыльцо... а опосле, взявше у него письмо, велел ево отпустить»[757] 757
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Авт. коммент. Н. К. Гудзий и др.. Вступ. ст. Г. М. Прохорова. Архангельск, 1990. С. 48.
[Закрыть]. Трудно сказать, имеем ли мы дело с обобщенным изображением места заключения, или же – с отражением реальных исторических событий. Доступные нам биографические материалы о Лупкине позволяют утверждать, что он был арестован лишь однажды – во время угличского следствия 1717 г. – и вскоре был освобожден благодаря крупной взятке. Биография Суслова нам неизвестна, мы знаем только, что он умер во второй половине 1710-х гг. в Москве и был погребен в Ивановском монастыре (см. выше, в главе 2).
Хлыстовские предания, зафиксированные в Москве во время следствия 1837—1839 гг., повествуют, в частности, о заточении и страданиях Суслова в Москве, однако вполне вероятно, что они не имеют никакого отношения к реальным событиям рубежа XVII и XVIII вв. и сложились в 1820-х гг. под влиянием легендарной традиции скопчества: «‹Иван Тимофеев› был допрашиваем, как хлысты показывают, царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном, потом был содержан в Богоявленском монастыре... Также хлысты говорят, что Тимофеев... был наказываем на Красной площади; с него живого снята была кожа, но какая-то девка одной с ним ереси покрыла его тело белым полотном, которое, приросши к нему, заменило кожу, и хлысты в память сего события носят белые длинные рубашки; от сих мучений он умер, потом воскрес, делал чудеса, подымался на воздух гораздо выше колокольни Ивана Великого, пророчествовал...»[758] 758
Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1: Христовщина, т. 1. С. 43.
[Закрыть].
Так или иначе, эти строки подводят нас к другой, чрезвычайно важной для сборника Василия Степанова, теме второго пришествия и земной жизни Христа. Ей специально посвящены два стиха. В первом из них («На зоре было на утренней», № 5) Богородица просит своего Сына вернуться домой – в верховую сторонушку, – но Он отвечает, что прежде должны «управиться» праведные и воспокаяться грешные. Во втором («Как сошел к нам, братцы, с небеси», № 9) Сын Божий жалуется Саваофу на поведение «верных»: они не слушают своего пастыря, нарушают аскетические запреты, отдают Христа на предательство, не давая Ему пожить на сырой земле. Важно иметь в виду, что для последователей христовщины эти стихи имели совершенно конкретное приурочение: речь шла не о Христе «вообще», но о конкретном человеке (скорее всего – о Лупкине), возглавлявшем сектантскую общину. По всей видимости, стих «Как сошел к нам, братцы, с небеси» отражает реальную борьбу за лидерство в московской христовщине 1720-х гг., и угрозы поснять головы по самыя по могучи плеча, а также вверзить в муку вечную адресованы конкретным людям. Сестры-вопомощницы, надевающие платье Сына Божьего и отбивающие у Него золоту казну, – это, вероятно, старицы Ивановского монастыря, которые под руководством Настасьи (Агафьи) Карповой создали общину, конкурировавшую с последователями Лупкина.
Ряд менее значимых текстов также развивает и варьирует основные элементы хлыстовского учения. Мотив второго пришествия Христа мы встречаем и в заключительной части стиха «Свет Боже, царство небесное» (№ 1). Здесь эсхатологическая тема дополняется образом «чаши гнева Господнего» (Ис. 51: 17; Откр. 16: 1), которая, в свою очередь, ассоциируется с евангельским молением о чаше (Мф. 26: 39-42; Мк. 14: 36; Лк. 22: 42; Ин. 18: 11):
Идет к нам, братия, с небеси
Чаша гнева великово со яростью.
Кто сию чашу выпивать будет?
Выпивать сию чашу единому,
Единому свету родимому,
Самому свету Сыну Божиему
За спасение всех верных человеков.
Песенка «С высоты было с сед(ь)ма неба» (№ 8) повторяет хлыстовские аскетические предписания, изложенные в стихе «Как доселева мы жили на земле» (№ 4). В этом тексте они изображаются в виде грозного указа, снесенного от престолу от Господнего соколом со чистыем со голубем (подразумеваются Христос и Святой Дух):