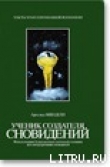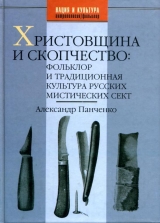
Текст книги "Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект"
Автор книги: Александр Панченко
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц)
Прокофий Лупкин и его апостолы: угличское следствие 1717 года и проблемы генезиса христовщины
Первым хлыстовским лидером, чья биография известна достаточно подробно, был Прокофий Данилов Лупкин, главный фигурант следственного дела о христовщине, производившегося в Угличе в 1717 г.[298] 298
См.: Айвазов И. Г. Первое следственное дело о христовщине // МО. 1916. № 7/8. С. 360-386, № 11. С. 641-661; Clay J. Е. God’s People in the early eighteenth century. The Uglich affair of 1717 // Cahiers du monde Russe et Soviétique. 1985. Vol. XXVI, № 1. P. 69-124.
[Закрыть] Началось оно следующим образом: в июне этого года крылосный монах Покровского Угличского монастыря Антоний шел на богомолье в Александрову пустынь Ярославского уезда. По дороге он случайно узнал, что у крестьянина деревни Харитоновой Угличского уезда Еремея Васильева Бурдаева собираются некие раскольники и что скоро они ожидают в гости своих учителей. Антоний донес об этом своему архимандриту Андронику, а также епископу ростовскому и ярославскому Досифею. Так сам Антоний утверждал во время следствия. В действительности, однако, дело обстояло несколько по-другому: Антоний был провокатором, подосланным архимандритом Андроником. В своем позднейшем «объявлении» Андроник сообщает, что о собраниях раскольников у Бурдаева он узнал еще в 1715 г. от священника угличской Дмитриевской церкви. Желая разузнать о «новой вере» подробнее, Андроник подговорил инока Антония, «чтобы он назывался при компаниях их, якобы раскольник из Кержинских Брынских лесов, и говорил все, как раскольники говорят и молитву творят и крестятся, и клобук и камилавку дал, как те раскольники носят, чтоб они его не признали и о себе бы ему показали»[299] 299
«Объявления» Андроника и Антония опубликованы Н. Г. Высоцким: Высоцкий Н. Г. Сомнительное «ученое» издание (Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1: Христовщина, т. 1-3. Пг., 1915). М., 1916. С. 19-28.
[Закрыть].
Провокация удалась. 12 июня 1717 г. в доме Бурдаева было арестовано одиннадцать мужчин и десять женщин. Все они были препровождены в Покровский монастырь и посажены под арест. В течение нескольких дней Андроник допрашивал арестантов, причем Лупкин и Бурдаев, «чтоб сказывали правду, были биты плетьми»[300] 300
Айвазов И. Г. Первое следственное дело о христовщине. С. 656.
[Закрыть]. Затем сектантов отправили в Угличскую провинциальную канцелярию, где их допрашивал ландрат А. И. Нарышкин. Хотя дошедшие до нас показания отчасти противоречивы, что объясняется попытками запутать следствие и избежать наиболее тяжелых обвинений[301] 301
См.: Clay J. Е. God’s People in the early eighteenth century. P. 83-84.
[Закрыть], они позволяют обрисовать следующую картину.
Прокопий Лупкин был отставным стрельцом. Он служил в полку Венедикта Батурина, участвовал в азовских походах 1695—1696 гг., а в 1710 г. был окончательно демобилизован «за скорбию падучею» (т. е., по-видимому, из-за эпилепсии)[302] 302
Там же. P. 107.
[Закрыть]. После отставки он отправился в Москву, где занимался торговлей. Согласно показаниям Прокопия, именно здесь он пережил экстатический опыт, послуживший основой для его учения:
И в прошлох де годех тому года с четыре молился он Прокофей Богу в Москве в доме своем. И молился де многажды и стало де ево, Прокофья, подымать Духом Святым. И он де Прокофей как ево сперва подняло не вспомнил. И по другие де числа Духом Святым ево поднимало. И он де, Прокофей, опомнясь как ево поднимало Духом Святым запел Исусову молитву в роспев[303] 303
Там же. P. 121.
[Закрыть].
В дальнейшем Лупкин стал проповедовать среди своих работников, а также среди крестьян и посадских людей, с которыми он имел торговые дела.
Он и называл себя учителем, а который де у него Прокофя мужеска и женска полу учение такое принимали и тех де он, Прокофей, называл учениками своими. И когда де у него Прокофья бывают в домех действа и тогда де поднимало ходить в ызбе в милотях человека по два и по три и по одному сиречь в рубашках и босиками. И тогда де он, Прокофей, толкует протчим при себе – «Так Христос ходил по морю и по рекам вавилонским со ученики и в корабли плавал, тако же де и нам подобает. Сие де мои ученицы яко же апостли», он де, Прокопей, яко же Христос[304] 304
Там же. P. 108-109.
[Закрыть].
Другим активным проповедником учения Лупкина был крестьянин из Ярославского уезда Никита Антонов Сахарников. Именно он привлек в секту Еремея Бурдаева. Согласно показаниям последнего, в 1716 и 1717 гг. Сахарников несколько раз устраивал у себя дома радения. Они бывали по праздникам и ярмарочным дням. На праздник Девятой пятницы 1716 г. Лупкин и Сахарников «с товарыщы» приезжали в гости к Бурдаеву и также устраивали радение. В этот же приезд Сахарников вместе со своим батраком Иваном Васильевым (к моменту ареста сектантов он уже покинул Лупкина) рассказывали Бурдаеву об эсхатологических основаниях своей проповеди.
Да он же, Никита Сахарников, говорил ему, Еремею, с товарищем своим Иваном Васильевым – «Ныне де у нас последния времяна. Народился де антихрист от старичья роду и вооружится и станет царю белому помочи давать и пойдет под Царьград как де возмет Царьград. И тогда назовется де богом. И нынеча де он живет в Санкт Питербурхе. И Санкт Питербурх запустеет де также как и Содом Гомор»[305] 305
Там же. P. 107-108. Это сообщение, конечно, особенно заинтересовало следователей. Однако Сахарников на допросе сообщил лишь, что «батрак ево Иван Василев жил де у него Никиты одно лето», а где он сейчас – неизвестно. Об антихристе Иван читал Никите по какой-то книге. «А в какую книгу он Иван читал того де, он Никита не знает. Да он же Иван учил де ево Никиту и невелел матерне бранится и пива и вина пить. Невелел же де и с женою жить» (там же. P. 110). Эти отрывочные сведения позволяют предположить, что таинственный Иван Васильев был одним из учителей нарождавшейся христовщины. Клэй допускает, что Васильев может быть тем самым Иваном Нагим, о котором слышал Флоров, однако сам же признает это допущение маловероятным (Там же. P. 87).
[Закрыть].
Материалы первого следствия о хлыстах имеют для нас особую ценность в нескольких отношениях. Прежде всего, показания Лупкина, Сахарникова, Бурдаева и др. демонстрируют ранние этапы существования тех обрядовых и фольклорных форм, чье развитие можно наблюдать по материалам следственных комиссий 1730—1740-х гг. Поэтому именно материалы следствия 1717 г. дают больше оснований для выводов об исторических корнях основополагающих элементов идеологии, фольклора и ритуальной практики христовщины и скопчества. Кроме того, показания фигурантов первого хлыстовского процесса были, по-видимому, в гораздо меньшей степени осложнены самооговорами и другими специфическими формами «расспросных речей», поскольку и игумен Андроник, и ландрат Нарышкин не располагали разработанными стратегиями допроса последователей новоявленной ереси.
Учение и обряды последователей Лупкина, насколько они восстанавливаются из протоколов допросов, близки к традициям более поздней христовщины. Здесь впервые фигурирует специфическая хлыстовская аскетика, подразумевающая запреты на употребление алкогольных напитков, матерную брань и сексуальные отношения с женами. Что касается последнего, то есть все основания возводить его к учению радикального крыла старообрядцев-беспоповцев. Известно, что вопрос о браке играл очень важную роль в ранней старообрядческой полемике конца XVII – начала XVIII в. Новгородский старообрядческий собор 1694 г. отчетливо сформулировал основы «бракоборного учения» беспоповщины: «Вопрос был поставлен в связи с учением об антихристе. Доктрина поясняла, что в тех, кто ведет брачную жизнь, „живет антихрист“. Это означало, что настало время, когда безбрачие перестало быть делом свободного подвига и девственная жизнь сделалась для всех обязательной»[306] 306
Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. С. 176 (ср.: 081-085).
[Закрыть]. Особенно твердым было отрицание любых форм брачной жизни у выго-лексинских старообрядцев[307] 307
Нильский И. Семейная жизнь в русском расколе. Исторический очерк раскольнического учения о браке. СПб., 1869. Вып. 1. С. 20-31.
[Закрыть]. На рубеже XVII и XVIII вв. между выговцами и сторонниками Феодосия Васильева возникла полемика о брачной жизни, приведшая к разделению беспоповщины на поморцев и федосеевцев[308] 308
Смирнов П. С. Из истории раскола первой половины XVIII века. По неизданным памятникам. СПб., 1908. С. 30-96; Он же. Споры и разделения в русском расколе в первой четверти XVIII века. СПб., 1909. С. 240-261.
[Закрыть]. Показательно, что выговцы вновь прибегли к эсхатологическим аргументам, указывая своим оппонентам, «что переживаемое время есть время „последнее“»[309] 309
Смирнов П. С. Из истории раскола первой половины XVIII века. С. 44.
[Закрыть]. Отзвуки этой полемики мы наблюдаем и в 1710-х гг., т. е. одновременно с активной деятельностью последователей Лупкина.
На тесную связь христовщины начала XVIII в. с поморским крылом беспоповщины указывает и обряд, заменявший ранним хлыстам причастие. Вот что рассказывал о нем Никита Сахарников:
А москвитин вышеописанной Прокофей приехав привез де к нему Никите гостинцу колачи да орешков пряничных и пряников. И он Никита приняв те гостинцы и разрезав в кусочки да хлеба так же разрезав в кусочки и присыпав солью при сиденье раздавал мужеска и женска полу. А как де роздавал и говорил вышеописанным – «Что ешьте де от скорби и вместо Причастия»[310] 310
Clay J. Е. God’s People in the early eighteenth century. P. 110.
[Закрыть].
Вопрос о причащении был одним из самых сложных для обрядовой жизни раннего старообрядчества. Никакой единой ритуальной практики здесь не существовало. По-разному решалась проблема причастия: одни раскольники признавали только дониконовские запасные дары, а при их «оскудении» растирали остатки в муку и подмешивали в тесто для просфор. Другие и пекли, и освящали новые просфоры[311] 311
Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. С. 159-169.
[Закрыть]. Столь же произвольно толковался вопрос о том, кто и кого может причащать. Хотя, по наставлению Аввакума, в отсутствие священника каждый мирянин должен был причащать сам себя, но ни в коем случае не других (исключение делалось лишь в случае причащения младенцев и умирающих), «в расколе распространился обычай причащаться из рук других. Причащали иноки, дьячки и просто „мужики“. ‹...› Причащали других не только мужчины, но и женщины»[312] 312
Там же. С. 164-165.
[Закрыть]. Особенно вариативными способы причащения были, естественно, среди беспоповцев. Все это породило многочисленные девиантные практики, с большей или меньшей точностью воспроизводившие дониконовский церковный ритуал и очевидным образом осложненные народно-религиозными представлениями[313] 313
К сожалению, мы очень мало знаем о том, как русские крестьяне XVIII-XIX вв. понимали литургию и причастие. С. В. Максимов, чья работа основывается на достаточно представительных материалах Этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева, ограничивается наблюдением о благоговейном отношении крестьян к принятию св. Тайн. В связи с этим он приводит пошехонский рассказ о раскольнике, положившем причастие в улей и через некоторое время увидевшем, что «пчелы сделали из сотов престол и на престоле лежит выброшенное им причастие, от которого исходит ослепительный свет» (Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 315; этот мотив имеет общеевропейское распространение: Th B 259-4). В то же время в великорусских губерниях было широко распространено магическое использование заздравных просфор, принесенных из церкви в Благовещенье и Великий Четверг (соответственно «благовещенские» и «четверговые» просфоры). Их могли смешивать с посевным хлебом, добавлять в корм рабочему скоту и даже прикармливать ими пчел (ср. с предыдущим сообщением) (там же. С. 320, 323; см. также: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 56).
[Закрыть], а также обычаями, сложившимися в среде последователей Капитона. Такой «народной литургией» был, например, вышеупомянутый обряд подрешетников.
К началу XVIII в. ситуация не слишком изменилась. Однако в радикальном крыле раскола все чаще стал наблюдаться отказ от причащения как такового. По этому пути пошли и выговцы. Фактически отказавшись от причащения, они заменили его вкушением так называемого «богородичного» («богородицына») хлеба и кваса.
Живший на Выге в самом начале XVIII века Иван Емельянов показывал, что там «вместо причащения в праздничные дни испекут хлеб и печатают его осьмиконечным крестом, и тот хлеб раздробя, им дают и запивают квасом». Живший там же и тогда же Василий Иванов Бармин свидетельствовал, что выговцы «Христовых тайн не имеют... только у них по господским праздникам бывает хлеб, который они называют Богородичен, приносят той хлеб в пение Часов в часовню и полагают его на стол пред святыя иконы и, по отпетии Часов, над тем хлебом творят молитвы, потом приносят на трапезу, где они хлеб едят, и пред обедом той хлеб, раздробя, на обеде раздают каждому по части, кому велят начальники их, у которых они исповедываются, и те тот хлеб едят, а кому не велят, тем и не дают». Так было в Выгореции и позднее[314] 314
Смирнов П. С. Споры и разделения в русском расколе в первой четверти XVIII века. С. 235-236.
[Закрыть].
Что это за «богородичен хлеб» и почему он использовался в богослужебной практике выговцев? Нет никакого сомнения, что прототипом для него послужила просфора, из которой на проскомидии вынимается частица в память Богородицы (так называемая «богородичная просфора»)[315] 315
См.: Дмитревский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. М., 1993. С. 168.
[Закрыть]. В древнерусском церковном обиходе именно она называлась «богородичным хлебом»[316] 316
Ср., например, в епитимийнике XVI в.: «Или когда дору (т. е. антидор. – А. П.) ел или хлеб богородичный и блевал, епитимьи – 40 дней, а поклонов – по 25 на день» («А се грехи злые, смертные...»: Любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России (X – первая половина XIX в.) / Изд. подг. Н. Л. Пушкарева. М., 1999. С. 61).
[Закрыть]. «Богородичная просфора» могла разделяться между прихожанами по окончании литургии вместе с антидором (остатки просфоры, из которой извлекается Агнец, пресуществляющийся в Тело Христово)[317] 317
См. в различных древнерусских церковных памятниках: «Та же по отпетии приимаше дору и Хлеб Пречистыя по обычаю от священника» (1199 г.); «и в той же день ни креста своего целовати..., ни доры имати, ниже хлеба Богородична» (1390 г.); «ни доры не давайте им, ни Богородицына хлеба» (1410 г.) (Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Репринтное издание. М., 1989. Т. III, ч. 2. Стб. 1373).
[Закрыть]. Согласно И. Дмитриевскому, антидор раздается «людям, не причастившимся Святых Тайн, по окончании литургии, для освящения их душ и телес»[318] 318
Дмитревский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение... С. 363.
[Закрыть]. Обычай причащения антидором и святой водой вместо Тела и Крови (при невозможности почему-либо причаститься) как Евхаристией «второго сорта» известен в Средневековье и «в качестве суеверия» существует в настоящее время[319] 319
Благодарю за консультацию диакона Александра Мусина.
[Закрыть].
Очевидно, что выговское «причащение» в той или иной степени соотносимо с обычаем вкушения антидора и богородичной просфоры по окончании литургии. Однако в данном случае можно указать на более близкую и более значимую параллель из монастырского обихода. Я имею в виду так называемый «чин о панагии», сущность которого, по формулировке М. Скабаллановича, «заключается в том, что из храма по окончании литургии износится всею братнею с священными песнями просфора, из которой на литургии была вынута частица в честь Богородицы, в монастырскую трапезу, там ее полагают на особом блюде и по окончании трапезы с прославлением Св. Троицы и молитвою пресв. Богородице просфору возвышают (поднимают) над иконами их и вкушают от нее. Смысл чина, очевидно, живо представить присутствие за трапезой самого Бога и пресвятой Богородицы»[320] 320
Скабалланович М. Толковый Типикон: В 3-х вып. М., 1995. Вып. 3. С. 50.
[Закрыть]. Монастырский чин о панагии обосновывался преданием, которое, судя по всему, было вполне релевантно эсхатологическим верованиям и радикальных старообрядцев, и последователей ранней христовщины. Оно помещалось в следованной Псалтири после изложения самого чина и, кроме того, вошло в Четьи минеи в качестве составной части повествования об успении Богородицы.
По этому преданию, когда апостолы, после сошествия на них Св. Духа и до отправления на проповедь в разные страны, жили вместе, то обычно за обедом они оставляли за столом незанятое место для Христа, полагая там возглавие с укрухом хлеба. По окончании обеда и после благодарственной молитвы они этот укрух подымали со словами «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Св. Духу. Велико имя Св. Троицы. Господи Иисусе Христе, помогай нам» (заменяя два последние возгласа в пасхальные дни ‹на› «Христос воскресе»). ‹...› Собранные чудесно к преставлению Божией Матери и совершивши погребение Ее, они на третий день сидели вместе за трапезой. Когда после обеда они, возвышая по обычаю укрух хлеба в память Христа, произнесли «Велико имя...», то увидели на воздухе пресв. Богородицу, окруженную ангелами и обещающую пребыть с ними всегда; невольно апостолы тогда воскликнули вместо «Господи Иисусе Христе, помогай нам» – «Пресвятая Богородице, помогай нам». Отправившись после этого ко гробу Богоматери и открывши его, апостолы не нашли там пречистого тела Ее и уверились, что Она вознесена на небо к Божественному Сыну своему[321] 321
Там же. С. 57-58.
[Закрыть].
«Колачи», которые раздавали сектантам Сахарников и Лупкин, очень похожи на «богородичен хлеб» выговцев. Что касается кваса, то он не упоминается в первом следственном деле о христовщине, но фигурирует в материалах следующего хлыстовского процесса 1733—1739 гг.[322] 322
Чистович И. А. Дело о богопротивных сборищах и действиях // ЧОИДР. 1887. Кн. 2. Отд. I. С. 4,15,17, 21.
[Закрыть] Вероятно, что и выговское и хлыстовское «причащение» в той или иной степени воспроизводили чин о панагии. Однако значимость процитированного предания очевидным образом возрастала в контексте «христологической» топики хлыстовских верований.
Таким образом, можно предполагать, что определенная часть обрядов и аскетических норм христовщины была позаимствована в начале XVIII в. именно у выговских беспоповцев. Судя по протоколам допросов, главным провозвестником выговских обычаев был Никита Сахарников[323] 323
Clay J. Е. God’s People in the early eighteenth century. P. 86-87.
[Закрыть]. Связь религиозной практики лупкинцев со старообрядческой традицией подтверждается и тем, что сектантская обрядность подразумевала двуперстное сложение, а также дониконовский вариант Иисусовой молитвы.
Особого комментария заслуживают запреты на употребление алкоголя и матерную брань. На первый взгляд, они как раз достаточно банальны: история древнерусской церковной литературы знает достаточное число поучений против пьянства и «матерной лаи». Однако именно банальность этих запретов заставляет задаться вопросом: почему они были возведены в ранг обязательного аскетического учения христовщины? Важно иметь в виду, что и во времена Лупкина, и позднее эта аскетика предлагалась новообращаемым в качестве основной нравственной доктрины хлыстов. Очевидно, что проповедники этой доктрины, так же как и их преимущественно крестьянская аудитория, видели здесь нечто большее, чем заурядные нормы повседневного поведения православного христианина.
Среди русских духовных стихов, записанных в XIX – начале XX в., особо выделяется группа текстов назидательного характера. Ее основу составляют четыре стиха: «Свиток иерусалимский», «Двенадцать пятниц», «Василий Кесарийский», «Пятница и трудник». Все они, кроме последнего, связаны со средневековой апокрифической письменностью. Для рассматриваемого нами вопроса особенно важны стихи о Василии Кесарийском и о труднике. Первый из них, как установил А. В. Марков, восходит к древнерусскому апокрифическому сказанию о Василии Великом[324] 324
Марков А. В. Определение хронологии русских духовных стихов в связи с вопросом об их происхождении // Богословский вестник 1910. № 7/8. С. 418-425; № 10. С. 318-323.
[Закрыть]. Марков, располагавший лишь поздними списками сказания (XVIII в.), указывал, что оно цитируется уже в «Поучении св. Панкратия о крещении обеда и пития» (не позднее XIV в.) и, таким образом, может быть признано достаточно древним[325] 325
Об этом слове см. также: Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988-1237 гг.). СПб., 1996. С. 408-411.
[Закрыть]. Согласно тексту сказания, однажды Василию Великому, молившемуся перед образом Богородицы, был глас с осуждением «хмельного пития». Хотя за тридцать лет Василий всего трижды вкусил его, хмельной дух, единожды вселившийся в человека, не выходит из него тридцать лет: «Аще и кто единожды испиет того хмелнаго пития, то в нем вселится той дух хмелны, даже до 30 лет не изыдет; и той дух хмелны отгоняет Духа святаго от человека, аки дым пчелы»[326] 326
Марков А. В. Определение хронологии русских духовных стихов... С. 321.
[Закрыть]. Далее Богородица говорит отрекшемуся от пьянства Василию, что не может терпеть трех грехов: блудного греха, хмельного дыхания и матерной брани. Здесь в сказание вставлено осуждение матерной брани, восходящее к другому памятнику церковно-учительной литературы – «Повести св. отец о пользе душевней всем православным Христианом»[327] 327
См.: Родосский А. Описание 432-х рукописей, принадлежащих С.-Петербургской Духовной Академии. СПб., 1893. С. 425-426; Марков А. В. Памятники старой русской литературы // Известия Тифлисских высших женских курсов. Тифлис, 1914. Кн. 1. вып. 1. С. 137-149; Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Антимир русской культуры. Язык, фольклор, литература. Сборник статей / Сост. Н. Богомолов. М., 1996. С. 23-24.
[Закрыть] (последнее иногда приписывается Иоанну Златоусту): «Аще бо кто избранит, и от того матернаго слова небо восколеблется, и земля потресется, и уста того человека кровию запекутся. И не подобает тому человеку в тот день ни ясти и не пити потому же, что и аз им мати всем. Аще бы кто от рождения своего не избранил матерно, то бы аз умолила и просила о том многогрешном человеке у Господа Бога грехом его прощения»[328] 328
Марков А. В. Определение хронологии русских духовных стихов... С 321.
[Закрыть]. Затем следует пространное поучение против пьяниц – уже от лица самого Василия.
Известные мне варианты духовного стиха[329] 329
См.: Бессонов П. Калеки перехожие. Сборник стихов и исследование. M., 1864. Вып. VI. С. 97-119 (№ 572-578); Собрание народных песен П. В. Киреевского / Подг. текстов, вст. ст. и комм. З. И. Власовой. Л., 1983. Т. 1. С. 236-237 (№ 03); Л., 1986. Т. 2. С. 8-10 (№ 4); Ончуков Н. Печорские стихи и песни // ЖС. 1907. Вып. 3. С. 77-79 (№ 12) и др.
[Закрыть] достаточно близко воспроизводят содержание сказания. В некоторых текстах глас от иконы превращается в явление Богородицы, а сама эта сцена драматизируется. Так, например, обстоит дело в варианте, записанном в Валдайском уезде Новгородской губернии от «кореляка» (по-видимому, имеется в виду представитель тверского или тихвинского анклавов карел-старообрядцев) Лариона[330] 330
Бессонов П. Калеки перехожие. Вып. VI. С. 100-102 (№ 573).
[Закрыть]. Василий стоит «на молитвах» двадцать пять лет. Однажды он пробует «хмельного пития»:
Лежит Василей на землю павше,
Руки и ноги его ошербавше
И голова его расколовше.
«Со престолу» «соходит» Богородица. Она приказывает Василию восстать и молиться еще пять лет.
В большинстве текстов сохраняется и порицание матерной брани:
Что касается стиха «Пятница и трудник», то он, по-видимому, не имеет прямого прототипа в средневековой апокрифической письменности. Об этом, в частности, говорит близость проповедуемых в нем заповедей к традиционному «магическому этикету» великорусского крестьянства. Согласно сюжету стиха[332] 332
Бессонов П. Калеки перехожие. Вып. VI. С. 160-174 (№ 592-604); Собрание народных песен П. В. Киреевского. Т. 1. С. 137-138 (№ 293).
[Закрыть], в пустыне «трудится» «тружданин» («трудничек», «пустынничик» и т. п.), он не владеет «ни руками, ни ногами». Во сне ему является Пятница (в одном из вариантов – вместе с Богородицей; иногда говорится просто о «страшном сне») и приказывает идти «на святую на Россию» и поведать православным о необходимости соблюдения бытовых и нравственных заповедей. Заповеди эти делятся на несколько групп.
Почти во всех вариантах упоминается необходимость почитания среды, пятницы и воскресенья, зачастую – в связи с широко распространенным в славянских и балканских традициях запретом на женские (домашние) работы по заповедным дням недели:[333] 333
См.: Свешникова Т. Н., Цивьян Т. В. К исследованию семантики балканских фольклорных текстов // Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973. С. 197-238; Панченко А. А. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-Запада России. СПб., 1998. С. 164-166.
[Закрыть]
В значительном количестве вариантов присутствует и запрет на матерную брань, сформулированный гораздо более кратко, чем в стихе о Василии Великом. Однако зачастую он дополняется или заменяется другим запретом, связанным с областью крестьянских верований. Речь идет о родительском проклятье:
Этот запрет очевидным образом корреспондирует с крестьянскими поверьями о проклятых («прокленутых», «браненных» и т. п.) и «подмененных» детях: в результате родительского проклятья они попадают под власть потусторонних сил и, как правило, не могут самостоятельно вернуться в мир живых[336] 336
См.: Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / Сост. и автор комм. О. А. Черепанова. СПб., 1996. С. 32-38, 123-129; Власова М. Н. «О святках молодые люди играют игрища...» (Сюжет о про́клятой-невесте в записи А. С. Пушкина и в современных интерпретациях) // Мифология и повседневность: Материалы научной конференции 24-26 февраля 1999 г. / Сост. и ред. К. А. Богданов, А. А. Панченко. СПб., 1999. Вып. 2. С. 154-170.
[Закрыть]. Материнское проклятье действует и на еще не родившихся детей: в этом случае место проклятого занимает «обмен» – осиновая чурка, принимающая образ младенца. Духовный стих в данном случае отличается от традиционных верований лишь упоминанием «проклятых жидов»: в крестьянских мифологических рассказах XIX—XX вв. в качестве проклятья обычно выступает формула отсыла («иди к черту», «ну тебя к лешему» и т. п.) или матерная брань.
Помимо запрета на родительское проклятье, с традиционными верованиями связано встречающееся в некоторых вариантах стиха перечисление особенно тяжких грехов. Обычно они излагаются в форме повествования о грешных душах: одна душа разлучает жену с мужем, другая «заламывает рожь» и вынимает из хлеба «спорину», третья отнимает укоров молоко в «ивановски ночи»[337] 337
Ср. эти и сходные с ними мотивы в стихе о грешной душе из сборника B. Варенцова; здесь перечень грехов существенно расширен (Варенцов В. Сборник русских духовных стихов. СПб., 1860. С. 144-148).
[Закрыть]. Все эти прегрешения представляют собой «джентльменский набор» деревенского колдуна или колдуньи: рассказы о порче свадьбы и наведении «остуды» между супругами, «заломах» и «зажинках» («прожинах» и т. п.), не дающих хлебу «спориться», а также похищении молока у коров, совершаемом чудесным помощником колдуна или самим последним, широко распространены в несказочной фольклорной прозе северных и центральных регионов России[338] 338
См.: Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 99-101, 109-112; Власова М. Н. Русские суеверия: Энциклопедический словарь. СПб., 1998. С. 245-251.
[Закрыть].
Таким образом, стих о Пятнице и труднике имеет в своей основе достаточно широкий пласт традиционных верований и нормативов поведения, распространенных в среде русского крестьянства. Можно, впрочем, указать на одно явление, очевидным образом связанное с сюжетом этого стиха. Речь идет об особом типе крестьянского визионерства, известном по обширной группе источников XVI—XVIII вв. Первый из них – сообщение Стоглава о «лживых пророках»:
Да по погостом и по селом ходят лживые пророки – мужики и жонки, и девки, и старыя бабы, наги и босы, и, волосы отрастив и распустя, трясутся и убиваются и сказывают, что им являются святыя Пятница и Настасия и велят им заповедати християном каноны завечати. Они же заповедают в среду и в пяток ручнаго дела не делати, и женам не прясти, и платия не мыти, и камения не разжигати, а иные заповедывают богомерзкие дела творити кроме божественных писаний...[339] 339
Стоглав. Изд. Д. Е. Кожанчикова. СПб., 1863. С. 138.
[Закрыть]
Несмотря на соборное осуждение, в последующие полтора столетия подобные «пророки» чувствовали себя достаточно вольготно. Об этом, в частности, свидетельствует история Красноборской церкви Нерукотворного Образа, стоявшей в Комарицком стану Устюжского уезда[340] 340
См.: Никольский А. И. Памятник и образец народного языка и словесности Северо-Двинской области // Известия ОРЯС АН. СПб., 1912. Т. XVII, кн. 1. С. 87-105; Орлов А. С. Народные предания о святынях русского Севера // ЧОИДР. 1913. Кн. 1 (244). Отд. III. С. 47-55.
[Закрыть]. В начале 1б20-х гг. в «диком» болотистом лесу на берегу Северной Двины явился чудотворный образ Спаса. В 1628 г. здесь был построен храм, куда съезжались богомольцы, чаявшие исцеления, а тринадцать лет спустя здесь начались чудеса, записи о которых составили особую летопись. 9 июня 1641 г. красноборский Нерукотворный Образ явился просвирнице Варваре и повелел, «чтобы съезжалися священицы и дияконы со образы на Красной Бор ко всемилостивому Спасу и веру бы держали велию и молилися Господу Богу и все бы православные християне съезжалися и молилися Господу Богу и грехов своих почясту каелись»[341] 341
Никольский А. И. Памятник и образец народного языка и словесности... С. 97.
[Закрыть]. Через месяц, 9 июля, в храме случилось другое чудо: крестьянка Акилина исцелилась «ото очныя болезни». Когда она выходила из церкви, «некая Божия сила» повергла ее на землю. Очнувшись, Акилина рассказала, что видит три иконы, стоящие меж церковными дверьми: два образа Богородицы из близлежащих церквей и красноборский чудотворный образ, «да стоит жена светлообразная лицем покрывшыся убрусом». «Светлообразная жена» велела Акилине «сказывати во вьсем мире», чтобы священники и миряне приходили на Красный Бор ко всемилостивому Спасу «и молились бы и милости просили у него, а хмельные бы люди отнюдь в церковь не ходи(ли) и табака бы отнюдь не пили и матерно бы отнюдь не бранились и жыли быи по святых отец правилу». Если же православные не исполнят этих заповедей, «будет на них... мраз люты и снег и лед и камение горящее... и будет молние огненое и лица своего воображеного и храмов не пощажу и их каминием побью и по иным местом хлебы и трава озябьнет и скоти ваши с голоду погибнут»[342] 342
Там же. С. 97-98.
[Закрыть]. В течение летних месяцев 1641 г. на Красном Бору совершилось еще несколько чудесных исцелений от «очныя болезни» и от «расслабления». Затем в середине августа исцеленной Фекле Спиридоновой явились «всемилостивый Спас и Пречистая Богородица Тифиньская с Паче езера» и также заповедали воздержание от пьянства, «питья табаки» и матерной брани. Летопись о чудесах от красноборского образа почти дословно повторяет те же самые заповеди и эсхатологические угрозы, добавляя к ним цитату из вышеупомянутого поучения против матерной брани[343] 343
Там же. С. 102.
[Закрыть]. Добавляется также запрет на работу в праздники: «...И християня бы в праздники Господнии никакия работы не (ра)ботали и трав не косили и хлеба не жали, а буде что и выжнут и то все з грезью станет»[344] 344
Там же.
[Закрыть]. В последующие годы видения Акилины и Феклы подкреплялись не только «позитивными», но и «негативными» чудесами. Дьякон Василий Молов, «почавший питии... проклятую табаку», был поражен слепотой, а другой любитель табака – крестьянин Трофим – и вовсе был наказан смертью, причем приходской священник не смел отпеть его «страха ради Божия и погребе его тако»[345] 345
Там же. С. 104.
[Закрыть].
История красноборских чудес не уникальна. А. С. Орлов указывает на «Известие о явлении иконы Знамения», повествующее о том, как в 1663 г. в том же Устюжском уезде «Божия Матерь, с преподобным Кириллом Белозерским, явилась жителю Пермогорской волости Ивану Тимофееву и указала место, где обретут ее икону; при этом Божия Матерь велела... „поведати всем, да не бранятся матерны, и табаку да не пиют, и среду и пяток честно да хранят“»[346] 346
Орлов А. С. Народные предания о святынях русского Севера. С. 53.
[Закрыть]. В недавней работе А. С. Лаврова рассматривается история холмогорского крестьянина Архипа Поморцева (1720-е гг.), близкая к сюжету стиха о Пятнице и труднике, а также местный культ Параскевы Пиринемской (XVII – начало XVIII в.), имеющий очевидные параллели с красноборским «молением»[347] 347
Лавров А. С. Параскева Пятница и крестьянин Архип Поморцев // Мифология и повседневность: Материалы научной конференции 24-26 февраля 1999 г. / Сост. и ред. К. А. Богданов, А. А. Панченко. СПб., 1999. Вып. 2. С. 235-243.
[Закрыть]. Таким образом, очевидно, что традиция подобных видений имела достаточное распространение на Русском Севере в XVII в. Сходные мотивы обнаруживаются и в недавно исследованных Е. К. Ромодановской сибирских материалах XVII—XVIII вв.[348] 348
Ромодановская Е. К. Рассказы сибирских крестьян о видениях (К вопросу о специфике жанра видений) // ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. XLIX. С. 141-156.
[Закрыть] Богородица, святой Николай, «девица в светлой одежде» и «неведомо какой человек», являвшиеся сибирским крестьянам, также заповедали им отказаться от матерной брани, блудного греха, ношения «немецкого платья». Как правило, эти запреты сопровождаются угрозами эсхатологического характера: «А как де с сего числа православные крестьяне в вере Христове матерною лаею бранитися не уймутца, и будет де на них с небес туча огненная, камение горяще и лед»[349] 349
Там же. С. 141.
[Закрыть]. В одном видении особо запрещается проклинать домашних животных (в севернорусской традиции этот мотив корреспондирует с представлениями о проклятых детях): «Скота бы не проклинали и в лес отпущали бы благословясь. А ежели де будите впредь бранитца такою бранью, то весь скот у вас выпленю до копыта»[350] 350
Там же. С. 142.
[Закрыть]. Подобные случаи фиксировались в сибирской традиции и позднее: так, в начале XX в. в д. Яркиной (среднее Приангарье) «рассказывали, что одна баба заблудилась в лесу; вернувшись домой, несколько дней была „без языка“ (молчала), а потом рассказала однодеревенцам, как в лесу ей было видение „Пресвятыя Богородицы Девы Мареи“: она жаловалась на то, что „бабы и девки шьют себе модны и красны платья, посты и пятницы не блюдут и в бани по субботам ходят“. С этого времени яркинцы перестали ходить в баню по субботам, а если случится когда идти, то стараются это сделать в обеденную пору»[351] 351
Макаренко А. А. Сибирский народный календарь. Новосибирск, 1993. С. 34-35.
[Закрыть].
И рассмотренные сказания о чудесах, и вышеописанные духовные стихи используют одну и ту же сюжетную ситуацию: визионеру является сакральный персонаж (чаще всего это – Богородица) и приказывает поведать миру о необходимости соблюдения определенных запретов и предписаний. Иногда эти заповеди сопровождаются эсхатологическими угрозами и предсказаниями. Характерно, что мотив видения, широко представленный в средневековой литературной традиции, практически отсутствует в русских духовных стихах – за исключением вышеупомянутых. В «Голубиной книге» и «Иерусалимском свитке» явление сакрального персонажа заменяется чудесным падением с небес священной книги (свитка) космологического или назидательного содержания[352] 352
В связи с этим можно сделать еще одно наблюдение, касающееся стиха о Пятнице и труднике. Хотя нередко этот сюжет именуют «Пятница и пустынник», в большинстве известных вариантов речь идет о «труднике», «трудничке», «тружданине», «труженнике», «тружельнике». Согласно обиходному церковному словоупотреблению, трудник – это мирянин, подвизающийся в пустыни, проходящий первую степень приближения к монастырской жизни (далее следуют послушники, а затем уже лица, принявшие постриг). В таком смысле понимает сюжет этого стиха и А. С. Лавров (Параскева Пятница и крестьянин Архип Поморцев. С. 238). Однако на самом деле анализ употребления этого термина позволяет говорить о более широком спектре коннотаций. Трудник – это и «сборщик денег во время крестного хода или по случаю церковного праздника», и «скудельник», «обрекший себя на погребение усопших», и «отшельник, обещаник, или сухоядец, молчальник, схимник» (Опыт областного великорусского словаря, изданный вторым отделением имп. Академии Наук. СПб., 1852. С. 233; Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 436-437). По-видимому, чаще всего трудником называли человека, принявшего на себя обет в связи с каким-либо несчастьем, в частности – из-за той или иной телесной немощи. Примечательно, что одно из старинных значений слова «труд» – «болезнь..., хвороба, недуг..., вообще нездоровье» (там же. С. 436). Таким образом, «трудник» духовного стиха – это больной, давший какой-то обет для выздоровления. Точно такие же ситуации описываются и в рассмотренных сказаниях о чудесах. Любопытно и то, что само состояние визионера нередко характеризуется в них при помощи слов «труд», «труждать» и т. п.: «...И некая Божыя сила удари ея о землю и бысть мертва на долг час и от того труда изнеможе...»; «и почало тружати при всем народе и явися ей в то время всемилостивый Спас и Пречистая Богородице...» (Никольский А. И. Памятник и образец... С. 100-101). Это еще раз подтверждает связь стиха о Пятнице и труднике с севернорусской практикой визионерства.
[Закрыть].
Не останавливаясь на общей типологии и семантике этических предписаний в контексте русского простонародного визионерства (о чем речь пойдет ниже), вернемся к рассматриваемым запретам на матерную брань и «хмельное питие». Б. А. Успенский в своей фундаментальной работе о мифологических аспектах русской матерной брани[353] 353
Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии. С. 9-107.
[Закрыть] указывает на «отчетливо выраженную культовую функцию» последней в славянском язычестве. По мнению исследователя, ритуальные функции матерной брани могут быть гипотетически разделены на несколько культурно-хронологических пластов: «На глубинном (исходном) уровне матерное выражение соотнесено, по-видимому, с мифом о сакральном браке Неба и Земли – браке, результатом которого является оплодотворение Земли. На этом уровне в качестве субъекта действия в матерном выражении должен пониматься Бог Неба, или Громовержец, а в качестве объекта – Мать Земля. Отсюда объясняется связь матерной брани с идеей оплодотворения... На этом уровне матерное выражение имеет сакральный характер, но не имеет характера кощунственного. ‹...› На другом – относительно более поверхностном – уровне в качестве субъекта действия в матерном выражении выступает пес, который вообще понимается как противник Громовержца. ‹...› Соответственно, матерная брань приобретает кощунственный характер. На этом уровне смысл матерного выражения сводится к идее осквернения земли псом, причем ответственность за это падает на голову собеседника. ‹...› На следующем... уровне в качестве объекта матерного ругательства мыслится женщина, тогда как пес остается субъектом действия. На этом уровне происходит переадресация от матери говорящего к матери собеседника, то есть матерная брань начинает пониматься как прямое оскорбление... Наконец, на наиболее поверхностном и профаническом уровне в качестве субъекта действия понимается сам говорящий, а в качестве объекта – мать собеседника»[354] 354
Там же. С. 63-64.
[Закрыть]. Вряд ли стоит оспаривать существование средневековых представлений об особой магической силе матерного слова, равно как и особую роль матерных выражений в языческой культовой практике (хотя сама по себе объяснительная модель «основного мифа» не кажется эвристически оправданной и в данном случае[355] 355
См.: Панченко А. А. Исследования в области народного православия. С. 52-55, 58-59. Ср.: Богданов К. А., Панченко А. А. «Фольклорная действительность»: мифология и повседневность // Мифология и повседневность: Материалы научной конференции 24-26 февраля 1999 г. / Сост. и ред. К. А. Богданов, А. А. Панченко. СПб., 1999. Вып. 2. С. 5-7, 10-11.
[Закрыть]). Для настоящего исследования, однако, важен не столько семантико-палеонтологический аспект проблемы, сколько социально-психологические особенности употребления матерной брани в русской крестьянской культуре XVII—XIX вв. В связи с малой изученностью этой темы[356] 356
Помимо цитируемых работ, укажу также на представляющиеся очень спорными наблюдения Д. К. Зеленина (Табу слов у народов Восточной Европы и северной Азии. II. Запреты в домашней жизни // Сборник МАЭ. Л., 1930. Т. IX. С. 18-19) и на заметку А. В. Исаченко (Un juron russe du XVIe siècle // Lingua viget: Commentationes slavicae in honorem V. Kiparsky. Helsinki, 1965. P. 68-70), посвященную некоторым историко-лингвистическим аспектам русской брани.
[Закрыть] здесь можно предложить лишь некоторые гипотетические наблюдения. Прежде всего, непонятно, что понимается под матерной бранью в вышеописанных поучениях, видениях и духовных стихах: выражения, прямо или косвенно подразумевающие значение matrem tuam futuo (futui), canis matrem tuam subagitet и т. п., или более широкий пласт обеденной лексики? В первом случае кощунственность матерных выражений объясняется тем, что они оскорбляют Богородицу, Мать Землю и родную мать бранящегося. При этом тяжесть оскорбления такова, что оно влечет за собой эсхатологические последствия. В духовном стихе «О матерном слове», записанном В. Ф. Ржигой в 1906 г., поется: