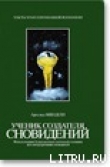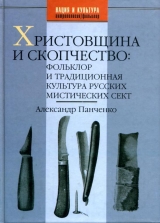
Текст книги "Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект"
Автор книги: Александр Панченко
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 37 страниц)
Она стала уговаривать его перейти в их согласие, понеже вера их и учение угодно Богу и притом сказывала, в вере и учении их содержитца то, чтоб холостым не женитца, а женатым с женами не жить и матерно не бранитца, а жить постоянно в трудех и молитвах и содержать посты. Когда они склонились, она взяла крест, чтоб никому не сказывали, а ежели скажут, то душею и телом погибнут, потому что она к тому своему согласию не в неволю призывает. И они ко кресту приложились[686] 686
Там же. С. 9.
[Закрыть].
Старец Чудова монастыря Иоасаф (Иван) Семенов показывал, «что в означенных сборищах он, Иоасаф, трепетался и трясся, также и, вспрыгивая, руками махал ‹для› утруднения плоти своея; и хлеб де, изрезав в куски и положа на блюдо, и квас в стакане на голове, так же и крест он Иоасаф держал. И приходящие люди к тому кресту, а иногда и к образу прикладывались для того, чтоб тем приходящим людем стоять в вере их и никому б не их согласия о той вере не объявлять; а оной де хлеб он, Иоасаф, с протчими ел, так же и квас пили, поставляя за причастие...»[687] 687
Там же. С. 15.
[Закрыть].
В дальнейшем хлыстовский инициационный ритуал мог усложняться за счет дополнительных элементов. Так, в начале 1740-х гг. во время приема неофита один из сектантских наставников говорил: «„Слушайте, братцы и сестрицы, что есть душа новая, желающая получить спасение, и хочет быть в соединении с нами!“ На что... все в то время просили Бога с воздыханием и со употреблением разговору такого вслух: „Дай, Господи! Приведи, Господи, желающего получить спасение!“ А потом тот просвиряк привел его в клятву в верности ко кресту, которая называется присягою...»[688] 688
Б-в Ил. В. Данные сороковых годов XVIII столетия для истории «тайной беседы святых отец». С. 452.
[Закрыть]. Другие «учителя» той же общины водили неофитов «вкруг раз до десяти»[689] 689
Нечаев В. В. Дела следственные о раскольниках комиссий в XVIII веке. С. 140.
[Закрыть], цитируя, по-видимому, православный обряд крещения. Почти столетие спустя, в 1824 г., мценский крестьянин Павел Михайлов приводил в скопчество гренадера Алексея Трубина следующим образом:
...Засветив свечу пред иконою, потом взял меня за руку ‹и› начал водить кругом с пением «елицы во Христа креститеся, во Христа облекаетеся» и прочее до трех раз, наконец, остановясь, подвел меня ко крестному целованию, однако ж к оскоплению меня он сам не приступал, но только сказал мне, каким образом после совершить обрезание естества; с того времени принял я ту секту...[690] 690
РГИА. Ф. 1284. Оп. 197 (1836 г.). № 344. Л. 3 об-4. Ср. также обряд приема в христовщину, зафиксированный в 1814 г. в г. Юхнове: «для поступления в число членов его (сектантского «общества». – А. П.) требовалась присяга ему, сохранение его тайны и избрание в поручители Иисуса Христа, Божией Матери или какого-нибудь из угодников; самое принятие членов совершалось с некоторой торжественностью: члены общества, взяв каждый по иконе, которою клялся новопоступающий, вводили его при пении тропаря „Во Иордане крещахуся“ и при троекратном обхождении» (Историко-статистическое описание Смоленской епархии. С. 53).
[Закрыть]
Гораздо более сложным был инициационный ритуал в обрядовой традиции того «толка» христовщины, который я, вслед за И. Г. Айвазовым, называю «данило-филипповским» (см. о нем в предыдущей главе):
В отдельной избе приходящих переодевают: мужчину одевают в длинную белую рубаху с широкими рукавами, а женщину в белую рубаху и синий сарафан, на голову повязывают белый платок концами назад, на ноги обувают лапти. Одетого или одетую вводят в собрание крестный отец и крестная мать. Когда введут в собрание, крестный отец дает в руки присоединяющимся икону, а крестная мать зажженную свечу. ‹...› Заправитель собраний спрашивает присоединяющихся: для чего ты пришел или ты пришла к нам? Присоединяемые, наученные крестными отцом и матерью, отвечают: «Потрудиться, с вами Богу помолиться», – или иначе: «Спасову образу помолиться да с вами поводиться». «С нами трудиться трудно, – замечает присоединяющий, – у нас заповеди есть: мужу с женою жить как брату с сестрою, женатым разжениться, не женатым не жениться; знай, что жене нельзя даже для мужа обед собрать. Если даже дочь твоя родит, то к ней нельзя ходить шесть недель». Присоединяемые отвечают «Помолитесь за меня государю-батюшке Данилу Филипповичу»... Затем присоединяющий требует хмельных напитков не употреблять, на крестины и свадьбы не ходить, всех присутствующих считать своими братьями и сестрами и данных при принятии отца и матерь чтить более братьев, сестер и крестных по плоти (вероятно, имеются в виду крестные родители по православному обряду. – А. П.). Относительно того, что будет происходить на радениях и какие будут петь песни, никому не говорить, даже родным отцу и матери... В церковь ходить можно, но церковных молитв не повторять, а творить молитву так: «Господи Иисус Христос, государь Сын Божий, помилуй нас, аминь». На каждое требование присоединяемые отвечают теми же словами: «Помолитесь за меня, государи-приятели». Когда обеты даны, на присоединяемых надевают особый крест с лучами, и присоединяемые объявляются принятыми. После присоединения происходит радение[691] 691
Ивановский Н. И. Чиноприем в секту у современных хлыстов и некоторые бытовые их черты // МО. 1896. Нояб., отд. I. С. 315-316. Ср.: Руфимский П. Приводы хлыстов села Булдыря // Известия по Казанской епархии. 1891. № 13. С. 404-409; Урбанский. Религиозный быт хлыстов Казанской губернии // Известия по Казанской епархии. 1903. № 13. С. 540.
[Закрыть].
Вместе с тем и в XVIII, и в XIX вв. присяга оставалась важнейшим элементом хлыстовской и скопческой инициации. Однодворец Петр Васильев Маслов показывал на первом скопческом процессе, что наставница Акулина Ивановна «того для, чтоб в той ереси признаны не были и чтоб о той ереси не сказывать ни отцу духовному, ни отцу родному и никому, тако ж и что оное учение будто бы святое и праведное дело, сама присягает и тех учеников своих, кто придет, приводит к присяге, и целуют крест»[692] 692
Высоцкий Н. Г. Первый скопческий процесс. С. 14.
[Закрыть]. Когда священник Иван Сергеев и пономарь Николай Николаев в начале 1800-х гг. вступали в хлыстовскую общину, «„учитель“... поставил пред образами свечи, засветя, и, накадя избу ладаном, поставил забелинского священника и его, пономаря, а жену оного священника с его, пономаря, женою рядом; и, давши им заповедь жить по его секте и учению, требовал себе в том от них поруку, в чем и дали они порукою Николая Чудотворца, образ коего взявши, он, „учитель“, с места, дал ему, пономарю, с священником держать, а потом и женам их; после чего, принявши, он, учитель, образ, велел всем приложиться к нему, что они и исполнили»[693] 693
Высоцкий Н. Г. Дело о секте, называемой «христовщиной»... С. 191.
[Закрыть]. Сходные описания этого обряда встречаются и в позднейших свидетельствах XIX столетия.
Итак, в своем исходном виде присяга подразумевала крестное целование и клятвенное обещание быть твердым в вере и не открывать тайну хлыстовского учения никому – «ни отцу с матерью, ни начальникам, ни духовному причту, ни даже самому царю»[694] 694
Дубасов И. Скопец Будылин // Древняя и Новая Россия. 1878. Т. II. С. 251.
[Закрыть]. В некоторых (особенно – ранних) вариантах клятвы особо оговаривается невозможность рассказывать о «христовой вере» на исповеди. Функционально присяга маркировала вхождение неофита в хлыстовскую общину: после этого он приобретал статус полноправного члена религиозной группы. Одновременно тот же обряд мог совершаться всеми членами сектантского корабля до начала и/или по окончании радельного церемониала. В этом случае присяга обеспечивала своеобразную ритуальную рамку для «апостольской беседы», маркируя границу между сакральным временем радения и профанным течением «мирской» жизни членов общины. В целом присягу можно трактовать как классический «обряд включения»[695] 695
См.: Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 1999. С. 28-42.
[Закрыть], обеспечивающий приобретение неофитом нового статуса и поддерживающий символическое единство всей группы.
Почему, однако, хлыстовский «ритуал включения» получил именно такую форму – присяги с крестным целованием? Обычно, говоря о генезисе той или иной ритуальной формы, мы имеем возможность рассматривать лишь обобщенный символический, психологический или социологический контекст изучаемого обряда. В случае с присягой дело обстоит иным образом. По всей вероятности, появление этого ритуала именно в такой форме и именно в 1720-х гг. непосредственно обусловлено рядом конкретных исторических обстоятельств.
Присяга на Евангелии с целованием креста существовала в повседневном и официальном русском обиходе и до Петра I. Однако именно в первой четверти XVIII в. присяга приобретает особое значение в рамках целого ряда государственных институций. Согласно «Уставу воинскому» (1716), всем военнослужащим – от генерала до солдата – предписывалось присягать по особо утвержденному типовому тексту. Присягавший должен был «положить руку на Евангелие, а правую руку поднять вверх с простертыми двумя большими персты. А солдатам... правую только руку поднять пред предлежащим Евангелием, и говорить за читающим присягу, и по прочтении целовать Евангелие»[696] 696
ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. V. № 3006. С. 318-320.
[Закрыть]. Подобная присяга для государственных служащих была введена в 1720 г.[697] 697
ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI. №3534. С. 141-142.
[Закрыть] За нарушение присяги первоначально полагалось отсечение двух пальцев, а в 1720 г. это наказание было заменено на вырывание ноздрей[698] 698
Анисимов Е. В. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., 1999. С. 47-48.
[Закрыть]. Кроме того, в 1718 и 1722 гг. было издано два указа, регламентировавших присягу верности наследнику престола. Манифест об отрешении царевича Алексея от престола (1718) предписывал всеобщую присягу младшему сыну государя: «Желаем же от всех верных Наших подданных духовного и мирского чина и всего народа Всероссийского, дабы... сына Нашего Петра за законного наследника признавали и почитали и во утверждение сего Нашего постановления на сем обещанием пред святым алтарем над святым Евангелием и целованием креста утвердили»[699] 699
ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. V. № 3151. С. 538.
[Закрыть]. Однако весной 1719 г. Петр Петрович умер, и в 1722 г. был издан особый «Устав о наследии престола», подразумевавший свободу государя в выборе наследника. Все подданные Петра I должны были присягнуть в верности уставу на тексте особого «клятвенного обещания»[700] 700
ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI. № 3893. С. 496-497.
[Закрыть]. «С тех пор при вступлении на престол новых государей проводили присяги подданных. Церемония присяги требовала обязательно клятвы в церкви на Евангелии и кресте, а также собственноручной подписи особых присяжных листов»[701] 701
Анисимов Е. В. Дыба и кнут. С. 48.
[Закрыть].
Противоречивость петровской политики в области престолонаследия не могла не возбудить очередной волны простонародных эсхатологических толков. Уже отрешение Алексея было воспринято многими как нечто преступное и незаконное. По всей вероятности, в массовом сознании история отношений Петра и Алексея, а также манифест 1718 г. легко соотносились со слухами о Петре как «подмененном царе», антихристе и т. д.[702] 702
См.: Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967. С. 114-124.
[Закрыть] Так, 2 марта 1718 г. подьячий Ларион Докукин подал в руки царю присяжный лист, на котором под типографским текстом была написана своеобразная «антиприсяга»: «А за неповинное отлучение и изгнание всероссийского престола царскаго Богом хранимого государя царевича Алексея Петровича христианскою совестью и судом Божиим и пресвятым Евангелием не именуюсь, и на том животворяща Креста Христова не целую и собственною своею рукою не подписуюсь... хотя за то и царский гнев на мя произлиется, буди в том воля Господа Бога и Иисуса Христа по воле Его святой за истину аз, раб Христов, Илорион Докукин, страдати готов. Аминь! Аминь! Аминь!»[703] 703
Анисимов Е. В. Дыба и кнут. С. 48.
[Закрыть]. Однако по-настоящему масштабную эсхатологическую реакцию (прежде всего – в старообрядческой среде) вызвал устав 1722 г., предписывавший присягать, так сказать, «анонимному» наследнику. «Многим это казалось весьма странным, – отмечает Н. Н. Покровский. – По Руси поползли слухи, что наконец-то с властью все ясно, ибо приказано приводить к присяге самому антихристу, имени которого вымолвить невозможно»[704] 704
Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974.
[Закрыть]. Наиболее массовым выступлением против устава о престолонаследии стал тарский бунт 1722 г., когда жители целого города вместе с казачьим гарнизоном и сельской округой отказались от присяги и составили «противное письмо», «доказывавшее, что присягать безымянному наследнику есть дело богопротивное, и что все нижеподписавшиеся категорически отказываются присягать». Письмо подписало около семисот человек[705] 705
Там же. С. 48.
[Закрыть]. Хотя тарский протест был жестоко подавлен, неприятие устава 1722 г. зауральскими старообрядцами вылилось в целую серию массовых самосожжений. Так, инициатор и руководитель «гари» в Елунской беспоповской пустыни (это было одно из самых крупных сибирских самосожжений XVIII в.) расколоучитель Терентий «возмути... тамо народ о бывшей тогда присяге... за наследнаго безъименно,... возумствова по прелести своей, яко бы за истиннаго уже антихриста быти»[706] 706
Там же. С. 54.
[Закрыть]. Вероятно, что такое эсхатологическое восприятие присяги стимулировали и события начала 1730-х гг., когда петровский устав о престолонаследии был сначала отменен верховниками, а затем вновь введен в силу Анной Иоанновной. Именно с манифестом Анны Иоанновны (1731) можно связывать вспышку самозванчества в 1731—1733 гг.[707] 707
Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды... С. 126.
[Закрыть]
Почти одновременно с тарским бунтом вышел в свет и еще один официальный документ, имеющий, как мне кажется, отношение к сложению хлыстовской присяги. Это – печально памятный синодский указ от 17 мая 1722 г., предписывавший священнику нарушать тайну исповеди в случае «открытых им... преднамеренных злодейств»[708] 708
ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI. № 4012. С. 685-689.
[Закрыть]. Основная идея указа состоит в следующем: если исповедующийся «объявит духовному отцу своему некое не сделанное, но еще к делу намеренное от него воровство, наипаче же измену или бунт на Государя или на Государство...» и при этом «покажет себя, что не раскаивается, но ставит себе в истину и намерения своего не отлагает и не яко грех исповедует», то духовник обязан «не токмо его за прямо исповеданные грехи прощения и разрешения не сподоблять..., но и донести вскоре о нем, где надлежит». Законность этого требования довольно лицемерно обосновывается ссылкой на Евангелие от Матфея: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух... Если же не послушает их, скажи церкви...» (Мф. 18:15-17).
Из дальнейшего текста указа выясняется, что доносить следует не только о политических и уголовных, но и о религиозных преступлениях, т. е. о «разглашении ложных чудес», борьба с которыми играла важную роль в петровской реформе благочестия[709] 709
Лавров А. С. Колдовство и религия в России. 1700—1740 гг. М., 2000. С. 408-423.
[Закрыть]: «Ежели кто, помыслив где каким-либо образом или притворно учинив, разгласит ложное чудо..., и потом такой вымыслитель тот свой вымысел объявит, а раскаяния на то не покажет..., то духовник должен, где надлежит, без всякого медления, о том объявить, дабы такая ложь была пресечена».
К указу прилагалась «особая форма присяги для духовных лиц» (и тот, и другой документы должны были обязательно храниться у каждого священника), где уделялось специальное внимание раскольникам и в том числе – христовщине: «...Вся раскольническая согласия, а именно: Поповщину, Ануфриевщину, Софонтиевщину, Диаконовщину, Беспоповщину, иже суть перекрещеванцы, Феодосиевщину, Андреевщину, Христовщину и прочая множайшая... проклинаю и всех их отчуждаюся..., и которых в приходе моем раскольников, чрез удаление от покаяния и от святой Евхаристии, или чрез иныя приметы усмотрю или уведаю, не буду утаивать молчанием, но без всякого медления буду о них Архиерею моему письменно объявлять и кому надлежит, обязуюся нескрытно и неотложно доносить...»[710] 710
ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI. № 4012. С. 689.
[Закрыть].
Кроме того, посредством ряда законодательных мер 1716—1722 гг. был фактически полностью дезавуирован древнерусский принцип «покаяние вольно есть», подразумевавший свободный выбор духовного отца[711] 711
См.: Смирнов С. Древнерусский духовник. С. 233-241.
[Закрыть]. Теперь каждый человек должен был исповедаться у своего приходского священника; безместным попам запретили становиться духовниками. Каждому прихожанину предписывалось говеть не реже раза в год. Уклоняющиеся от исповеди подвергались штрафам и ограничениям в гражданских правах, причем священники были обязаны подавать губернаторам списки неговеющих. Священники, не исполнявшие этого предписания, также могли навлечь на себя наказания разной степени тяжести – от денежного штрафа до каторжных работ. Все это фактически превращало духовника в активного агента религиозно-политического сыска и преследования инакомыслящих.
Таким образом, вполне вероятно, что на сложение хлыстовской присяги повлияли как символические, так и сугубо практические факторы. С одной стороны, ее можно рассматривать как противовес присяге «безымянному наследнику»: вступавший в общину присягал на верность Христу и становился неподвластен антихристу. С другой – хлыстовская присяга, специально акцентировавшая невозможность открытия тайного учения даже перед духовным отцом, как бы нейтрализовала последствия указа о нарушении тайны исповеди.
Мы видели, что обряд присяги фактически не подразумевает снятия признаков прежнего состояния новообращенного. Включению в сакральное сообщество не предшествует исключение из сообщества профанного. Трудно сказать, почему произошло именно так. Однако в дальнейшем в традиции ряда скопческих общин сформировался более сложный обряд привода, объединявший символику интеграции неофита в религиозную группу, и его отречения от мира[712] 712
Описание скопческого привода см.: Надеждин Н. И. Исследование о скопческой ереси. С. 138-141; Крыжин А. П. Опыт исследования скопческой секты в Симбирской губернии. С. 506-509; Георгиевский А. Заметки о скопцах // ЗРГО по ОЭ. СПб., 1867. Т. I. С. 528-529.
[Закрыть]. После того, как новик получал необходимые сведения о скопческой аскетике и приносил клятвенную присягу перед иконой или крестом, он должен был, вслед за наставником общины, повторять особые прощальные слова, «знаменующие совершенное его отречение от прежней жизни и возрождение в новую жизнь»:
«Прости меня, Господи, прости меня, Пресвятая Богородица, простите меня, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и вся небесная сила, прости, небо, прости, земля, прости, солнце, прости, луна, простите, звезды, простите, озера, реки и горы, простите, все стихии небесные и земные!» Тут встает весь собор (т. е. скопческая община. – А. П.) и начинает ходить кругом, воспевая троекратно тропарь Богоявления. «Во Иордане крещающуся тебе, Господи!» Затем останавливаются и запевают церковный стих: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся, аллилуйя!» В это время, сначала учитель, потом братья и сестры, все по порядку, положив прежде земной поклон перед иконами, приветствуют нового собрата радостным возгласом «Христос воскресе!», на что тот и ответствует каждому и каждой: «Воистину воскресе, возлюбленный братец или возлюбленная сестрица!» Члены одного пола при этом целуются, а разных полов только кланяются друг другу[713] 713
Надеждин Н. И. Исследование о скопческой ереси. С. 138-139.
[Закрыть].
Ближайшая аналогия этим прощальным словам (а они, судя по всему, составляли устойчивую и мало варьировавшуюся формулу) в народном религиозном обиходе – это так называемый «обряд прощания с землей перед исповедью», зафиксированный в начале XX в. во Владимирской губернии священником А. Н. Соболевым[714] 714
Соболев А. Н. Обряд прощания с землей перед исповедью, заговоры и духовные стихи. Владимир, 1914. С. 8-13.
[Закрыть]. Суть этого обряда, записанного со слов «старушки, бывшей раскольницы» (указание на принадлежность информантки к тому или иному согласию отсутствует) состоит в том, что, отправляясь в церковь на исповедь, человек последовательно «прощается» с родными и домашними, «хрещеным людом», «вольным светом» и «матушкой-землей», совершая земные и поясные поклоны («большой трехпоклонный начал» и «малый трехпоклонный начал»), произнося «Иисусову молитву» и особые причеты, обращенные к белому свету и земле:
Ты, красно, ясно, свет солнышко,
Уж ты, млад, светел государь месяч,
Вы, часты звезды подвосточныя,
Зори утренни, ноци темныя,
Дробен дождичек, ветра буйные,
Вы простите меня грешную, —
Вдову горюшную, неразумную.
Ради Спас Христа, честной Матери-Богородицы,
Да сам Михаила арханьделя!
Аминь.
‹...›
Взвоплю я к тебе, матушка сыра земля.
Сыра земля, моя кормилушка поилица,
Взвоплю грешная, окаянная, паскудная, неразумная;
Что топтали тея походчивы мои ноженьки,
Что бросали тея резвы руценьки,
Что глазели на тея мои зенки,
Что плевала на тея скорлупоньки.
Прости, мать питомая, меня грешную, неурядливу
Ради Спас Христа, честной Матери,
Пресвятыя да Богородицы,
Да Ильи пророка мудраго!
Аминь[715] 715
Там же. С. 10-11. Причет, обращенный к «свету вольному», произносится на улице за воротами, а причет, адресованный «матушке-земле» – «на задворках». Затем говеющий умывает руки землей или снегом, произносит еще одно обращение к земле, берет в рот немного земли и покидает деревню. Обряд завершается за околицей произнесением формулы «простите меня все, весь вольный свет» (с. 11-12).
[Закрыть].
С. И. Смирнов предположил, что этот обряд «есть, очевидно, не что иное, как народная исповедь земле, дополняющая церковную. Земле старушка исповедает только те грехи, которых не спросит священник, грехи против самой земли... В ее перечне грехов слышится ясный отголосок культа земли: благоговение пред святой матерью-землею, которую человек должен попирать ногами, и священный ужас первого земледельца, которому приходится рвать грудь матери-земли, заставляя ее служить себе»[716] 716
Смирнов С. Древнерусский духовник. С. 282.
[Закрыть]. Думаю, что соображения Смирнова верны лишь отчасти. Действительно, в этом обряде видны отчетливые отголоски особого почитания земли. Однако его общая функциональная направленность подразумевает все же не исповедь земле, а прощание с миром вообще. В этом смысле и пространственная организация, и космологическое содержание этого ритуала имеют аналогии в определенных типах заговорных текстов. «Прощаясь» с «хрещеным людом», солнышком, месяцем, звездами, землей и т. д., исполнитель обряда не просто «сдает грехи», но и отказывается от принадлежности к миру как таковому. Очевидно, что записанный Соболевым обряд связан со скопческим «прощанием» и текстологически, и типологически. Понятно и то, почему прощальные слова были инкорпорированы именно в скопческую инициацию. Идеология и мифология русских скопцов в существенной степени ориентирована на идею радикального преображения человека. Ампутация «срамных» частей тела имела в скопчестве не только практическое, но и символическое значение: таким способом достигалась аннигиляция пола и первородного греха в целом, оскопленный возвращался в безгрешное, «ангельское» состояние (см. об этом ниже, в главе 4). Вероятно, скопческие представления о такой трансформации подразумевали, что самой операции оскопления должен предшествовать обряд, символизирующий окончательный и полный разрыв неофита с грешным миром и «плотской лепостью». В этом смысле скопческий привод имел, по-видимому, не меньшее, а, может быть, большее значение, нежели ритуальное оскопление как таковое.
* * *
Итак, хлыстовское и скопческое радение представляет собой достаточно сложную ритуальную структуру, претендующую на поглощение всех иных типов традиционного ритуала и выполняющую ряд важных функций, связанных с поддержанием внутренней стабильности религиозной общины, воспроизведением традиционных аскетических предписаний и идеологических моделей, нормированием повседневной жизни и осуществлением социального контроля. Анализ происхождения основных элементов радения показывает, что все они и генетически, и типологически связаны с различными формами народного православия и традиционной крестьянской культуры в целом. Теперь необходимо выяснить, как соотносится с радельной ритуалистикой сектантская песенная традиция, каковы ее истоки и топика.