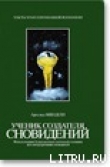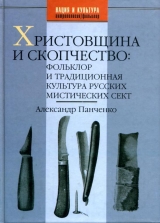
Текст книги "Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект"
Автор книги: Александр Панченко
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 37 страниц)
Как в указе написано,
Во наказе страшно наказано:
«Не водитеся сестры з братиями,
Вы не пейте пойла пьянова,
Ни вина други не зеленова,
Не становите меда сладкаго,
Не бранитеся словом скверным,
Вы не еш(ь)те яства скоромныя,
Не творите греха тяшкова.
Как не будет за то вам прощения,
Ни грехам вашим отпущения,
Окроме вам муки вечныя
И тьма вам всем кромешная».
В двух стихах (№ 13 и 16) хлыстовская община предстает в виде корабля, куда Сын Божий – богатый гость — созывает своих людей вол(ь)ных. В более поздних памятниках хлыстовского и скопческого фольклора этот образ получает особенное развитие, но его значимость для ранней христовщины также очевидна. Показательно, что в стихе о расставании души с телом («Да по морю, морю синему», № 22) также используется зачин с изображением корабля, на котором плывет Христос со ангелы, со архангелы.
Песенка «У нашего государя доброхота» (№ 7) изображает тихую смиренную беседу — богослужебное собрание сектантов, включающее экстатические пророчества (Блаженным они Духом утешались), коллективную трапезу, чтение и толкование религиозных книг. Любопытно, что в качестве объектов сектантской герменевтики называются книга Минея и Евангелие толковое. Вступительная часть стиха близка к зачину одного из вариантов баллады «Ванька-ключник», записанной в XIX в. в Саратовской губернии:
Далеко было, далече – в белокаменной Москве,
Во второй было во улице, в славной Митревской,
Что у князя было у Волконского,
Солучилася пир-беседушка,
Тиха и смиренна, зело радошна.
Соезжалися к нему князья, бояре,
Пили, ели, прохлаждалися,
Разговорами они занималися[759] 759
Великорусские народные песни. Изданы профессором А. И. Соболевским. СПб., 1895. Т. I. С. 49-51 (№ 25).
[Закрыть].
Особый интерес представляет стих «Веденье Пречистая Богородица» (№ 11), использующий фрагменты девятой песни православного канона празднику Введения Богородицы во храм и, по-видимому, имевший жесткую ритуальную приуроченность, – он использовался в обряде приема новообращенного в хлыстовскую общину (см. комментарий к этому тексту).
Таким образом, анализ сборника Василия Степанова позволяет выделить ряд специфических черт идеологии и топики раннего хлыстовского фольклора. Наиболее заметная из них – отчетливый эсхатологический пафос большинства текстов сборника. Явные или скрытые мотивы Страшного суда и загробного воздаяния присутствуют в стихах № 1-4, 8, 9, 12, 14, 19, 22, 23, 27. Показательно, что в сборник попали два эсхатологических стиха старообрядческого происхождения (№ 2 и 23), причем второй из них («Еще кто б нам построил») подвергся специфически хлыстовской обработке: здесь нет строк об антихристе, присутствующих в вариантах, опубликованных В. Г. Варенцовым и Т. С. Рождественским, а тема откровения и Божьего гласа трактуется с использованием характерной для христовщины лексики и образности: Уш сошел ли Господь с неба / И он сам, сударь, глаголет...; Как я буду Бог катити, / Сыном Божиим ликовати...; Дух Святые к вам катити, / Дело истинно явити. В некоторых стихах (см. комментарий к № 4 и 11) прослеживается даже косвенное влияние символики самосожжения. Таким образом, тексты из сборника Василия Степанова служат лишним доказательством того, что ранняя христовщина была именно эсхатологическим движением, близким радикальному крылу русского старообрядчества. В позднейших памятниках хлыстовского песенного фольклора эсхатологическая тематика имеет гораздо меньшее значение. Любопытно также, что один из текстов сборника Василия Степанова («Росплачется красно солнце со лучами», № 12) свидетельствует о прямом знакомстве московских хлыстов с эсхатологическими апокрифами. Он корреспондирует с распространенным стихом о плаче земли, восходящем к апокрифическому «Видению апостола Павла». Источником нашего стиха также, несомненно, служит «Видение Павла», однако – другая его часть, повествующая о жалобах Солнца и Луны со звездами (она предшествует сетованиям Земли)[760] 760
См.: Памятники отреченной русской литературы / Собраны и изданы Н. Тихонравовым. М., Т. II. 1863. С. 40.
[Закрыть]. Другая характерная черта рассматриваемого сборника – сложное совмещение поэтических приемов, символов и заимствований из разных культурных традиций. Ряд текстов (в частности – № 1 и 3) содержательно примыкает к традиции стихов покаянных, хотя о каких-либо формальных параллелях здесь не может идти и речи. О влиянии православной книжности и церковной традиции свидетельствует прямое использование библейских (Дан. 3: 51-90; Мф. 13: 3-23; Деян. 2: 3-4; Откр. 4: 4; Откр. 20: 15) и богослужебных (служба Великой субботы, канон празднику Введения Богородицы во храм, полиелейные песнопения) текстов. Вместе с тем в сборнике очевидно доминирует устно-поэтическая традиция. Об этом свидетельствуют параллели с памятниками различных фольклорных жанров (духовный стих, баллада, причеть), метрическая организация песенок, поэтические приемы (в частности, широко представленный в различных текстах сборника отрицательный параллелизм) и формулы, лексика. Показательно, что язык стихов сборника вполне соответствует языку найденных у Василия Степанова писем. Так, о смерти Лупкина в письме из Москвы в Ярославль сообщается следующим образом:
Не ясен сокол к вам с Москвы летит по широкой по Троицкой дороженьке, до Ярославля до города, по уездам окольным, приходит к вам печальная грамотка со дворца государева, по совету братей и сестер духовных буди вам неложное известие, что у нас превысочайший житель, гора Сионская, сердечных очей наших насладитель, солнце пресветлое, древо златоверхое, государь наш паче всех человек пресветлой, ясно зритель, от невежествия к разуму всех производитель, великий наш пастырь и учитель своего стада словесных овец, преславный светильник и пресловущий образ, корабль драгоценный, житель неизглаголанныя радости Вышняго Иерусалима поднялся от земли на небо, аки солнце закатилось, ко Отцу своему Небесному, ко Творцу Превышнему, ко Утешителю благому, ко Духу Святому блаженному, а вам оставляет благословение, душам вашим прощение и грехам отпущение[761] 761
Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1: Христовщина, т. 1. С. 2.
[Закрыть].
Наконец, очевидно, что ко времени составления сборника Василия Степанова религиозная традиция христовщины была уже вполне самобытной. Песенки демонстрируют нам целый ряд характерных черт идеологии и культурной практики московских хлыстов 1730-х гг. (аскетические запреты и предписания, радельная экстатика, мотив второго пришествия Христа, специфические космологические образы и символы). Показательно, что даже те стихи, которые были заимствованы христовщиной из других конфессиональных общностей (старообрядчество, «общерусская» традиция), в той или иной степени подверглись воздействию хлыстовской топики. Добавлю, что сборник Василия Степанова демонстрирует и формирование специфической для христовщины лексики и фразеологии, связанных, по преимуществу, с экстатической практикой сектантов. Это обозначения радения (беседа, святая апостольская беседа), экстатического состояния вообще (ликовать, катить; последний глагол также может обозначать сошествие Святого Духа и перемещения сакрального персонажа (Христа, Богородицы) между небесным и земным мирами) и пророчества в частности (пригласить, трубить в золотую трубу, звонить в золотую верву).
Сборник Александра Шилова. Другой сборник сектантских духовных стихов, который я считаю необходимым проанализировать специально, был составлен в 1789 г. одним из основателей скопчества – Александром Ивановичем Шиловым (?—1799). И о нем самом, и о следственном деле 1791—1792 гг., благодаря которому рассматриваемый сборник попал в число архивных документов, уже говорилось в предыдущей главе. Мы знаем о Шилове несколько больше, чем о Василии Степанове, однако данные эти также крайне фрагментарны. Александр Шилов был крестьянином села Васильевского Тульского уезда. Село это принадлежало полковнику Н. И. Маслову. В первой половине 1770-х гг. Шилов активно участвовал в нарождавшемся скопческом движении: по словам его односельчанина и, вероятно, родственника Ивана Петрова Шилова, он оскопил и его, и «других людей». Александр Шилов был одним из ближайших сподвижников Кондратия Селиванова и получил в скопческой мифологии статус «Предтечи» и «графа Чернышева». В «Похождениях» и «Страдах» «возлюбленный сыночек, друг и наперсник» Селиванова характеризуется следующим образом:
Родился он с благодатию и.., будучи еще в мире, Бога узнал и произошел все веры и был перекрещенец и во всех верах был учителем, а сам говорил: «Не истинна эта вера, и постоять не за что! О если бы нашел я самую истинну‹ю› веру, то бы не пощадил своей плоти, рад бы головушку за оную сложить, и отдал бы плоть свою на мелкия части раздробить!» Господь, услышавши сие его обещание, избрал его мне в помощники...
В 1775 г. Шилов был сослан в Ригу и содержался в Динаминдской крепости. Здесь, он, однако, чувствовал себя достаточно свободно и при посредстве местного купца Тимофея Артамонова переписывался с последователями скопчества, жившими в разных городах и селах Российской империи. Во время следствия, производившегося в Риге в 1791 г. генерал-губернатором Лифляндии и Эстляндии С. С. Броуном, Тимофей Артамонов и «живший в его... доме пошехонский мещанин» показывали, что они почитают Александра Шилова «преблагословенным из тьмы восприемником и отцом, то есть показующим прямой путь к спасению»[762] 762
[Шульгин И. П.] Для истории русских тайных сект в конце XVIII века // Заря. 1871. № 5. С. 34 (3-й пагинации).
[Закрыть]. Во время ареста у Артамонова была найдена тетрадь с 14 текстами духовных песен, которые были признаны за «сочинение преступника Иванова» (т. е. Шилова. – А. П.)[763] 763
Там же.
[Закрыть]. В дальнейшем эта тетрадь вместе с другими следственными документами хранилась в делах тайной экспедиции Государственного архива Министерства иностранных дел.
В 1871 г. материалы этого следствия были опубликованы И. П. Шульгиным в журнале «Заря». В публикацию вошли и все тексты из тетради, некогда найденной у Артамонова[764] 764
Там же. С. 37-46.
[Закрыть]. Через два года этот же сборник был вновь опубликован П. И. Мельниковым в его «Материалах для истории хлыстовской и скопческой ересей»[765] 765
Мельников П. И. Материалы для истории хлыстовской и скопческой ересей. Отд. 5. Правительственные распоряжения, выписки из дел и записки о скопцах с 1834 по 1844 год // ЧОИДР. 1873. Кн. 1. С. 13-26.
[Закрыть]. Обе публикации имеют ряд разночтений, в том числе довольно существенных (см. Приложение 2, комментарий к тексту № 4); при этом Мельников утверждал, что пользуется более точной копией сборника Шилова, снятой в 1860 г. в Государственном архиве. Однако я не считаю возможным верить ему на слово; более того, публикация Шульгина производит впечатление гораздо более профессиональной и аутентичной. Поэтому в Приложении 2 к настоящей работе сборник Шилова публикуется на основании шульгинского издания.
Было бы наивно думать, вслед за С. С. Броуном и тем же Мельниковым, что тексты, записанные в тетради, были «сочинены» самим Шиловым. Вместе с тем у нас нет особых оснований отрицать его причастность к составлению сборника. Кроме того, поскольку Шилов был заточен в Динаминд в 1775 г. и с тех пор не имел прямых контактов со своими единомышленниками, можно предположить, что записанные в 1789 г. тексты принадлежат к более ранней сектантской традиции, а именно – к репертуару тульских и орловских хлыстовских общин, где в конце 1760-х – начале 1770-х гг. зародилось скопчество. Если это так, сборник Шилова чрезвычайно интересен в качестве показателя той эволюции, которую претерпела радельная лирика христовщины в третьей четверти XVIII в. Попробуем исследовать динамику хлыстовской культуры этого времени, сравнивая сборники Василия Степанова и Александра Шилова.
Несколько текстов в сборнике Шилова имеют прямые параллели в собрании Степанова. Это песни № 2 («Я люблю, люблю, люблю Саваофа в небеси»), соответствующая № 15 («Ей люблю, ей люблю») у Степанова, а также текст о расставании души с телом (№ 14 «Уж вы голуби» у Шилова; № 22 «Да по морю, морю синему» у Степанова). Кроме того, совпадают концовки песен № 5 («Илья батюшка пророк») у Шилова и № 16 («С высоты было, с сед(ь)ма неба не ясен сокол летит») у Степанова:
Дам вам, други, веселечки яровчатые,
Гребите вниз по батюшки по тихому по Дунаю
От краю, други, до краю, до небеснова до раю,
От конца, други, до конца, до Небеснова до Отца,
Уж за вашие за труды дам вам золоты трубы,
Свет сестрицы вы мои,
За вашие за труды дам вам семиградные венцы.
Аминь Царю свету Небесному.
(Сборник Василия Степанова)
А дал им весло, свое Божье ремесло:
Вы гребети, мои други, гребети, молодцы,
От края до края, до блаженного рая,
От конца до конца, до небесного Творца;
Я за ваши за труды дам вам золотыя трубы,
Я за веру, за раденье дам вам платьице нетленно,
А за плач, за моленье дам царствия небесна,
За сердечное попеченье семигранные венцы!
(Сборник Александра Шилова)
Незначительные изменения претерпевает и «начальная молитва» «Дай нам, Господи...». Однако в сборнике Шилова она находится в несколько ином контексте, по-видимому связанном с радельной пляской. Здесь «Дай нам, Господи...» вкладывается в уста «святых божьих», «бессмертных» и «верных-праведных», плывущих по речке. Думаю, что это прямо обусловлено исполнением «Дай нам, Господи...» во время радельного хождения кораблем.
Вместе с тем сборник Шилова демонстрирует ряд существенных новаций в составе и топике радельного репертуара. С некоторой долей условности их можно было бы назвать «фольклоризацией». Речь идет о достаточно сильном и вполне отчетливом влиянии традиционной необрядовой лирики. Основной источник песенной традиции московской христовщины 1730—1740-х гг. – это библейские тексты и апокрифическая письменность, а преобладающие в ней мотивы и образы прямо связаны с эсхатологической топикой. В сборнике Александра Шилова мы наблюдаем очевидную экспансию формул и образов, характерных для крестьянской песенной традиции. В одном случае здесь прямо заимствуется традиционная песня «Девица и сын гостиный» (№ 9 «Ой, Бог мочь те, девица, воду черпать»). При этом любовная и свадебная топика переосмысляется в соответствии с религиозной идеологией христовщины:
Про меня младу худа слава лежит,
Худа славушка, не очень хороша,
Будто я с Богом знаюся,
Со Святым Духом в совете живу;
Уж кто с Богом-светом знается,
Тот голосом навоится,
У того всегда печаль во дому,
Сердечушко обливается кровью.
Уж тошно мне тошнешин(ь)ко,
Еще грустно мне груснешин(ь)ко,
К батюшки в гости хочется.
(№ 7 «Про меня младу худа слава лежит»)
Садился мой братец на кораблик.
Не пташечка во садику воспела,
Родимая сестрица по мне тужит.
Вы стойте, гребцы, не гребите,
Забыла я братцу сказати,
Три тайны словечка приказати,
Уж как ему за Бога постояти,
Богатого гостя утешити,
Богатого гостя ублажити!
Надо, братцы, хорошенько пожити.
(№ 8 «Гостите вы, гости, гостите»)
Что касается содержательных особенностей песен из сборника Шилова, то здесь очевидным образом снижается количество эсхатологических и «христологических» элементов и начинают доминировать описания радений и экстатических пророчеств. Учитывая, что бытование репертуара, репрезентируемого сборником Шилова, синхронно функционированию пророчеств в качестве своеобразного эквивалента традиционных гаданий, можно предположить, что наблюдаемые нами изменения радельной песенной традиции прямо связаны тем, что христовщина в этот период теряет свой эсхатологический пафос становится преимущественно крестьянским религиозным движением. В дальнейшем в хлыстовской и отчасти скопческой традиции будут преобладать образы и формулы, доминирующие в сборнике Шилова.
Гости на кораблях: символика корабля и плаванья в фольклоре христовщины и скопчества
Представления и образы, связанные с кораблем и плаванием, играют чрезвычайно важную роль в эпических, ритуальных и религиозно-мифологических традициях народов Европы и Ближнего Востока. Даже ограничиваясь исключительно русскими материалами, мы встречаем поистине безграничное количество различных обрядовых и сюжетных ситуаций, тем или иным образом использующих «корабельную топику». В рамках настоящего исследования я хотел бы ограничиться одним из аспектов этой проблематики и показать, как народно-религиозная космология, связанная с этой группой образов, воздействовала на сложение обрядовых практик русских сектантов.
Т. А. Новичкова, посвятившая специальную работу эволюции «разбойничьей» темы в русском фольклоре, указывает, что «в древнейшей мифологической традиции корабль выступает обычно в двух обликах: как ковчег, в котором люди спасаются от потопа, и как корабль Арго, на котором избранные герои совершают чудесное плавание в таинственную Колхиду»[766] 766
Новичкова Т. А. Сокол-корабль и разбойничья лодка: К эволюции «разбойничьей» темы в русском фольклоре // Фольклор и этнографическая действительность. СПб., 1992. С. 188.
[Закрыть]. В христианской учительной словесности зачастую доминирует первый из этих обликов: жизнь человека воспринимается в качестве плавания по бурному житейскому морю, церковь ассоциируется с кораблем, спасающим душу человека и приносящим ее в тихую гавань. Однако фольклорная традиция в большей степени заинтересована во втором из рассматриваемых образов: целый ряд эпических сюжетов репрезентирует плавание на корабле в качестве путешествия героев в потусторонний мир.
Хорошо известная новгородская легенда «о земном рае», дошедшая до нас в послании Василия Калики епископу Федору (1347)[767] 767
Послание Василия Новгородского Феодору Тверскому о рае // ПЛДР. XIV – середина XV века. М., 1981. С. 42-49.
[Закрыть], повествует о том, как путешественников Моислава и Иакова буря приносит к высоким горам где-то на востоке. На горе «яко не человечьскыма руками..., но Божиею благодатью» написан деисус, виден «свет самосиянен», слышны «ликованиа многа» и «веселия гласы поюща». Двое из путешественников, отправленные на гору «на разведку», исчезают, а третий, предусмотрительно привязанный спутниками на веревку, оказывается мертвым.
Еще Ф. И. Буслаев отметил, что эта популярная в русской средневековой культуре история очевидным образом корреспондирует с другим памятником новгородской словесности – былиной о паломничестве Василия Буслаева в Иерусалим. «Сказание о гибели Буслаева на Алатырь-камне в виду соборной церкви и образа Преображения, – писал исследователь, – по замечательному сходству в подробностях, могло смешиваться с известным сказанием о новгородском рае... ‹...› Предание это было так знаменито в старину, что до позднейшего времени сохранилось в иронической пословице о пытливости новгородцев: „Новгородский рай нашел“. Этот райский остров на эпическом языке мог бы точно с таким же правом быть назван Алатырь-камнем, как и Фавор-гора. Спутники Моислава Новгородца так же скакали по райской горе, как дружина Василия Буслаева по Алатырь-камню»[768] 768
Буслаев Ф. И. Народная поэзия. Исторические очерки. СПб., 1887. С. 198-199.
[Закрыть].
Напомню вкратце сюжет этой былины. Василий Буслаевич, известный нам также по былине «Василий и новгородцы» (нередко оба сюжета объединяются в рамках единого текста), отправляется со своей дружиной «помолиться» в Иерусалим. Правда, в некоторых вариантах о цели поездки и об Иерусалиме вообще не упоминается: основное действие былины может происходить просто «в море Варяжском» или даже в самом Новгороде. Во время путешествия Василий подплывает к горе (она именуется Сорочинской, Сион-горой, Фараон-горой, камнем Латырем; иногда на вершине горы стоит крест), у подножья которой находит человеческий череп. Василий пренебрежительно пинает «пусту голову человеческую», после чего она предрекает ему смерть.
И провещилась да кость суха глава
И человечецким голосом:
– Ай же ты Василий да Буславьевич!
Ты меня кости не попинывай,
И сухой главы не поталыхивай, ‹...›
Я ведь кость-то была крестьянская.
Ай же ты Василий да Буславьевич!
Уже как тут же будешь ты кататися,
Тут же будешь ты валятися[769] 769
Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г. М.; Л, 1949. Т. 1. С. 407 (№ 44).
[Закрыть].
На обратном пути из Иерусалима Василий находит на той же горе камень («белой камешок», «синь камень» и т. п.), пытается перепрыгнуть его и гибнет:
И пошли-то по горы по сорочинские
И ничего-то на горы они не нашли;
Есть только лежит на горе белой камешок,
И на камешке подпись-то подписана:
«И кто заеде на гору на сорочинскую,
И скочит-то вдоль да бела камешка.
И в долину-то камень сорока сажен,
А в ширину-то камень тридцати сажен».
И уж тут-то как Василию призахвастнулось:
– Ай же вы дружье братье храброе!
И скочите впоперек-то бела камешка,
И уж как я удалый добрый молодец
Скочу-то я вдоль бела камешка.
И сам завел скочить, но не доскочил,
И уж как тут-то нонь Василью смерть случилося[770] 770
Там же.
[Закрыть].
Я не буду специально останавливаться на сюжете этой былины в целом, а также на ее культурно-историческом контексте и соотношении с другими памятниками русского героического эпоса. Ряд существенных вопросов здесь разрешен работами И. Н. Жданова, В. Я. Проппа, Ю. И. Юдина, Т. А. Новичковой и Б. Н. Путилова[771] 771
Жданов И. Н. Русский былевой эпос. Исследования и материалы. СПб., 1895. С. 193-424; Пропп В. Я. Русский героический эпос. М., 1958. С. 466-476; Юдин Ю. И. Интерпретация былинного сюжета: (К методике обнаружения эпического подтекста) // Методы изучения фольклора. Л., 1983; Новичкова Т. А. Путешествие Василия Буслаева в Иерусалим (Историко-культурные реминисценции в былине) // РФ. Л., 1989. Т. XXV; Путилов Б. Н. Пародирование как тип эпической трансформации // От мифа к литературе: Сборник в честь семидесятипятилетия Е. М. Мелетинского. М., 1993. С. 111-114.
[Закрыть]. Можно согласиться с общими выводами исследователей о паломничестве Василия как путешествии на «тот свет», в потустороннее и священное царство, столкновение с которым губит былинного героя. Однако стоит более подробно коснуться вопроса о месте гибели Василия. О какой горе, собственно, идет речь? Что за череп и камень лежат на ней? Почему Василий гибнет именно здесь?
В. Я. Пропп, подробно проанализировавший основные варианты этого былинного сюжета, полагал, что «соединение черепа, камня и креста создает впечатление могилы. Камень есть другой образ смерти. Часто указывается его длина, ширина и высота, что говорит о правильности его формы. Это могильная плита»[772] 772
Пропп В. Я. Русский героический эпос. С. 474.
[Закрыть]. С этим утверждением исследователя можно согласиться лишь с большими оговорками. Очевидно, что образ священной горы с крестом и человеческим черепом недвусмысленно указывает на иконографию Распятия и связанные с ней легендарные сказания. Гора – это Голгофа (сюда, впрочем, примешиваются представления о Сионе и Фаворе: обилие священных гор в Палестине, по-видимому, несколько запутывало народно-религиозное сознание), а череп – Адамова глава.
Нетрудно заметить, что образ Иерусалима в былине о Василии Буслаевиче как бы «удваивается». С одной стороны, Святая Земля репрезентируется посредством традиционных «паломнических» локусов (храмы, где молится герой; Иордан). С другой – это гора, череп и камень, приносящий гибель Василию. Кроме того, необходимо отметить, что и в легенде о «новгородском рае», и в рассматриваемой былине гора, маркирующая границу потустороннего царства, выполняет и функцию острова: пространственная организация сюжета как бы подразумевает, что к ней невозможно добраться иначе как водным путем – на корабле.
История о «новгородском рае» и сюжет былины о Василии Буслаеве репрезентируют один из типов реализации мифо-эпической темы плавания в потусторонний мир в русском фольклоре. Другой (которого я коснусь совсем кратко) связан со статусом фольклорных героев-корабельщиков. М. Б. Плюханова, затрагивавшая эту тему в ряде своих исследований[773] 773
См, например: Плюханова М. Б. О национальных средствах самоопределения личности: самосакрализация, самосожжение, плавание на корабле // Из истории русской культуры. Т. 3: XVII – начало XVIII века. М., 1996. С. 442-452.
[Закрыть], отмечала, что в различных фольклорных жанрах в качестве таковых идентифицируются прежде всего разбойники и купцы. Вместе с тем именно купцы и разбойники обладают в русском фольклоре особым «инобытийным», потусторонним статусом, что, возможно, связано со специфической метафизикой денег и богатства в русской крестьянской культуре[774] 774
См.: Богданов К. А. Деньги в фольклоре. СПб., 1995. С. 15-27.
[Закрыть]. Показательно, что в песенной традиции христовщины и скопчества «товарно-денежная» метафорика играет довольно важную роль. И в текстах, записанных Степановым и Шиловым, и в позднейших хлыстовских и скопческих духовных стихах термин гость (гость богатый) служит одним из устойчивых наименований лидера общины – кормщика или самого Христа, – а товаром, богатством и т. д. именуется радельная практика или сектантское учение в целом. Хотя, вообще говоря, ритуальные и мифологические коннотации концепта гость представляются достаточно разнообразными и преимущественно указывают на связь тех или иных персонажей с потусторонним миром[775] 775
Невская Л. Г. Концепт гость в контексте переходных обрядов // Символический язык традиционной культуры. М., 1993, С. 103-114; Агапкина Т. А., Невская Л. Г. Гость // СД. М., 1995.Т. 1. С 531-532.
[Закрыть], образ гостей-корабельщиков в хлыстовской и скопческой традиции, по-видимому, обязан своим происхождением именно особой сакрализации богатства и денег в крестьянском фольклоре. Возможно, что эта ассоциация земного и небесного богатства оказала влияние и на особенности социально-экономической деятельности сектантских общин. В таком случае успешная экономическая деятельность хлыстовских и скопческих лидеров объясняется не столько их корыстолюбием, стремлением к власти и эксплуатации «простаков» (как думали и дореволюционные, и советские гонители сектантов-экстатиков), сколько, так сказать, «инерцией метафоры»: если деньги обозначают сакральное, то они, вероятно, сакральны и сами по себе; поэтому нужно стремиться к их накоплению.
Выше уже говорилось, что «корабельная топика» очень важна для традиции христовщины и скопчества. Кораблем называлась и сектантская община, и один из видов радения. Мотив плавания на корабле чрезвычайно широко представлен в памятниках хлыстовского и скопческого фольклора. Судя по всему, именно «хождение кораблем» было наиболее ранней, исходной формой хлыстовской экстатической пляски. Свидетельство этому находим уже в первом следственном деле о христовщине – в показаниях Прокопия Лупкина (см. выше).
В ранних памятниках хлыстовского фольклора образ корабля – сектантской общины на радении – также встречается достаточно часто. В стихе из сборника Василия Степанова читаем:
Государь ты наш батюшка, богатый гость,
Нет тебя государя богатее
Ни на небе, а ни на земле.
У тебя же, сударя, бол‹ь›шой корабль,
Богатый гость по кораблю покатывает,
В золоту трубочку вострубливает,
Воскликивает своих людей вол‹ь›ных:
«Подите ко мне, люди вол‹ь›ные все охотнички,
Подите ко мне на большой корабль,
Покупайте товары безценныя,
Безценныя-драгоценныя,
Не златом покупайте, ни серебром,
Не крупныем акатистым жемчугом,
Покупайте товары безценные,
Безценные-драгоценные
Вы верою и радением,
Сердечным своим попечением,
Вы слезным своим и течением
И нощным, други, умолением».
Слава тебе, Царю Небесному[776] 776
См. Приложение 1. № 13.
[Закрыть].
Мотив плавания на корабле встречается и в другом стихе из того же сборника:
С высоты было, с сед‹ь›ма неба не ясен сокол летит,
К нам гость-батюшка катит,
Он на тихой Дон Иванович,
На святой свой, на тихой.
Он устами свет гласит,
Аки в трубушку трубит,
Покликает своих верных-избранных людей:
«Вы подите, мои верные изобранные души,
И на тихой Дон Иванович,
На бол‹ь›шой мой на корабль.
Дам вам, други, веселечки яровчатые,
Гребите вниз по батюшки по тихому по Дунаю
От краю, други, до краю, до небеснова до раю,
От конца, други, до конца, до Небеснова до Отца...[777] 777
Там же. № 16.
[Закрыть]
Из более поздних этнографических свидетельств нам известно, и как именно происходило «хождение кораблем»: члены общины ходили друг за другом по избе, обычно посолонь. Нередко в центр круга – «за мачту» – становился лидер общины или пророк. В течение всего «хождения» пелись духовные песнопения, в том числе и прямо иллюстрирующие религиозно-мифологический смысл происходящего:
Как по морю, как по морю,
Как по морю, морю синему,
По синю морю житейскому
Тут плыл корабль,
Тут плыл корабль,
Тут плыл корабль изукрашенный.
На нем мачта, на нем мачта,
На нем мачта – сам Господь Саваоф.
В корме стоит, в корме стоит,
В корме стоит сударь Сын Божий.
А парусы, а парусы,
А парусы – люди божий,
Надуваются, наполняются
Не ветрами, не вихорями,
А самим-то Святым Духом[778] 778
Рождественский Т. С., Успенский М. И. Песни русских сектантов-мистиков. С. 259 (№182).
[Закрыть].
Непосредственный генезис ритуальной практики «хождения кораблем» нуждается в специальном анализе. За исключением не вполне ясного сообщения Прокопия Лупкина о Христе, «ходившем в корабле» «по морю и по рекам вавилонским», мы не имеем ранних свидетельств, объясняющих смысл «корабельного» радения. Однако можно предполагать, что эта практика сложилась именно в контексте крестьянского культурного обихода. Характерная (если не генетическая, то типологическая) параллель – изображение разбойничьего корабля в народной драме «Лодка»:
...Все разбойники садятся на пол, образуя между собою пустое пространство (лодка), в котором расхаживают Атаман и Эсаул. ‹...› Гребцы снимают шапки и крестятся; затем начинают раскачиваться взад и вперед, хлопая рукою об руку (изображается гребля и плеск весел)[779] 779
Народный театр / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. М., 1991 (Библиотека русского фольклора. Т. 10). С. 67.
[Закрыть].
Очевидно, что корабельное радение восходит именно к народной драме или крестьянской игре, включающей драматические элементы. Сектанты, составляющие радельный круг, изображают «гребцов» или «паруса» чудесного корабля (ср. «парус» как название обрядовой рубахи у хлыстов и скопцов), а лидер общины, пророчествующий в центре круга, оказывается «мачтой» или «кормщиком», «богатым гостем» или «атаманом», Христом или Господом Саваофом.
Итак, религиозная практика русских сектантов-экстатиков недвусмысленно увязывает мотив плавания на корабле с сакральной топикой. Эта ассоциация прямо повлияла на символику радельной обрядности. Однако куда, собственно говоря, плывет сектантский корабль, направляемый Господом Саваофом и Христом? Ответ на это мы находим в еще одной радельной песне, записанной в середине XIX в. в нескольких вариантах:
По тому ли морю по Вассионскому
Плыл же тут Господь Бог на кораблике
Со ангелами, со архангелами,
С херувимами, с серафимами
И со всею силою небесною.
Подплывал же Господь Бог к Паул-горе,
На Паул-горе стоит древо кипарисное,
Под тем ли под древом лежит голова Адамова,
За той ли головою стоит Ерусалимский град,
Во том ли во граде стоит церковь соборная,
Соборная, белокаменная,
Белокаменная, златоглавая.
Как во том ли божьем соборе
Стоит Христос-батюшка во уборе,
Говорит он голосом громким:
«Вы пророки мои, богородицы,
Вы реките людям божиим, прорекайте
Про мое житье-бытье про Христово.
В золотую трубушку вострубите,
Воскоярыя[780] 780
В других вариантах: Воску ярого.
[Закрыть] свечи зажигайте,
Во святой круг все собирайтесь,
Херувимскую песнь все воспевайте,
Мой архангельский глас возглашайте»[781] 781
Рождественский Т. С., Успенский М. И. Песни русских сектантов-мистиков. С. 261 (№ 185).
[Закрыть].
Таким образом, сектантский корабль плывет к границам Святой Земли, идентифицируемой одновременно в качестве земного и небесного рая, – к той самой горе, на которой погиб Василий Буслаев. Круг мифопоэтических ассоциаций, рассмотренных нами в рамках былинного сюжета, вновь замкнулся в контексте экстатического ритуала русских сектантов XVIII—XIX вв.
Я не утверждаю, что вышеописанная символика была единственным фактором, повлиявшим на особенности «корабельной топики» в фольклоре христовщины и скопчества. Здесь можно предполагать, например, воздействие иконографической композиции «гонение на Церковь Божию», «где Церковь представлена в виде корабля, кормчий – сам Иисус Христос, гребцы и паруса – апостолы и патриархи; вооруженные баграми и луками еретики древние и новые (Кальвин, Лютер), с дьяволом во главе, стараются ниспровергнуть корабль Церкви»[782] 782
Покровский Н. В. Очерки памятников христианского искусства. СПб., 2000. С. 214; Ровинский Д. Русские народные картинки. СПб., 1881. Кн. III. С. 178-180 (№ 795); Кн. IV. С. 576-577. Не исключено, что стихотворная подпись к лубочному варианту этой композиции («Апостолски глас к тебе восклицаем...») повлияла на сектантский духовный стих «Кораблик заливает морскими волнами», впервые встречающийся в сборнике Александра Шилова (см. Приложение 2, № 12). Этот текст, получивший широкое распространение в хлыстовской и скопческой традиции ХIХ в., явно восходит не к фольклорным образцам, а к традиции силлабической религиозной поэзии.
[Закрыть]. Тем не менее очевидно, что основной тенденцией обрядового творчества русских раскольников конца XVII—XVIII вв. была инсценировка и драматизация массовых религиозных представлений. Страшный суд, переход через огненную реку, чудесное воскресение сакрального персонажа, сошествие Святого Духа, плавание на священном корабле были уже не только достоянием устной словесности, религиозной книжности и православной иконографии. Эти мотивы и сюжеты зримо воплощались в эсхатологической ритуалистике старообрядцев и сектантов.