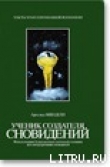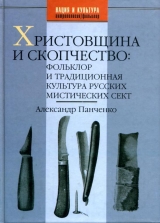
Текст книги "Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект"
Автор книги: Александр Панченко
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 37 страниц)
Другим следствием общественного увлечения мистическим сектантством стало появление в 1817 г. кружка Е. Ф. Татариновой, известного в разное время под названиями «Братства во Христе», «Союза братьев и сестер», «Духовного союза» и т. п.[524] 524
Наиболее подробным и обеспеченным источниками исследованием о Татариновой и ее кружке является вышеупомянутая работа Н. Ф. Дубровина; там же – подробная библиография вопроса. См. также Липранди И. О секте Татариновой // ЧОИДР. 1868. Кн. 4. С. 20-51; Из записной книжки художника Боровиковского // Девятнадцатый век Исторический сборник, издаваемый П. Бартеневым. М., 1872. Кн. I. C. 213-219; Толстой Ю. О духовном союзе Е. Ф. Татариновой // Там же. С. 220-234; Мельников П. И. Из записок Юрьевского архимандрита Фотия о скопцах, хлыстах и других тайных сектах в Петербурге // Русский архив. 1873. № 8. Стб. 1434-1453; Кукольник П. Анти-Фотий. Ответ очевидца на статью, помещенную в Русском Архиве 1873 года, под заглавием: «Из записок Юрьевского архимандрита Фотия» // Русский архив. 1874. № 3. Стб. 589-611. О восприятии Татариновой в эпоху Серебряного века см.: Эткинд А. Содом и Психея. С. 197-205; Он же. Хлыст. С. 538-556.
[Закрыть] Екатерина Татаринова (в девичестве – Буксгевден) родилась в 1783 г. и воспитывалась в Обществе благородных девиц (впоследствии – Смольный институт). Получив при выпуске из института фрейлинское приданое, она вышла замуж за офицера Астраханского гренадерского полка Ивана Татаринова. После окончания Отечественной войны он вышел в отставку, бросил жену и, в конце концов, получил место директора гимназии в Рязани. Татаринова же осталась в Петербурге и поселилась в квартире своей матери в Михайловском замке. Около 1815 г. она при посредстве Ненастьевых познакомилась с Селивановым и посещала скопческие моления. Вероятно, Татариновой, занимавшей хотя и не слишком влиятельное, но вполне прочное положение в петербургском свете, были и непонятны, и неприятны многие особенности скопческого культа, восходящего, как мы видели, к традициям крестьянской христовщины центральных регионов России. Однако, судя по всему, она достаточно внимательно ознакомилась с радельной практикой – в той форме, в которой последняя бытовала у петербургских скопцов. В 1817 г. Татаринова перешла из лютеранства в православие и стала устраивать в своей квартире религиозные собрания, в которых в разное время участвовало до 70 человек различного возраста, пола и социального положения. Из наиболее известных деятелей того времени собрания Татариновой посещали министр просвещения и духовных дел А. Н. Голицын, вице-президент Академии художеств А. Ф. Лабзин, обер-гофмейстер и президент комитета Российского библейского общества Р. А. Кошелев, генерал-майор Е. А. Головин, художник В. Л. Боровиковский. Заметную роль в деятельности «Братства» играл М. С. Урбанович-Пилецкий, в 1811—1813 гг. бывший надзирателем по учебной и нравственной части в Царскосельском лицее, а затем занимавший различные чиновные должности в столице. Однако главным руководителем практической, «радельной» части собраний был неграмотный музыкант Первого кадетского корпуса Никита Иванович Федоров («пророк Никитушка»). Скорее всего, он происходил из крестьян и был хорошо знаком с хлыстовской или скопческой экстатической практикой.
Богослужебные собрания кружка Татариновой обычно совершались по воскресным и праздничным дням в Михайловском замке. Собравшиеся рассаживались вдоль стен, читали молитвы и избранные евангельские отрывки. После этого начиналось пение «духовных песен» и пророчества. Во время этой церемонии все присутствующие становились в круг (иногда – на коленях), а пророк выходил в середину и «вертелся кругом на восток, по окончании же молитвы подходил к каждому и пророчил... нараспев, скороговором»[525] 525
Липранди И. О секте Татариновой. С. 24.
[Закрыть]. «Прорекали» многие, но особым даром пророчества обладали Никита Федоров и сама Татаринова. Иногда собравшиеся одевались в белую одежду: женщины – в платья, а мужчины – в особые халаты. «Радение одного человека, – писал впоследствии Пилецкий, – было подобно вальсу, а когда радели многие, то образовали один общий круг, который двигался под общий такт пения, – тихо или очень скоро, смотря по действию Св. Духа»[526] 526
Дубровин Н. Ф. Наши мистики-сектанты. Е. Ф. Татаринова и А. П. Дубовицкий. Гл. I // Русская старина. 1895. Октябрь. С. 59.
[Закрыть]. Духовные песни, исполнявшиеся у Татариновой, частью представляют собой переработку традиционных хлыстовских и скопческих «песенок» (чем, по-видимому, занимался Никита Федоров), частью являются плодом творчества образованных представителей «Братства»[527] 527
Корпус духовных песен кружка Татариновой заслуживает специального исследования. Важны не только источники и обстоятельства его сложения, но и влияние на позднейшую сектантскую традицию (а оно, судя по всему, было довольно сильным). Некоторые тексты из конфискованных властями и сохранившихся в архивах Синода и Министерства внутренних дел тетрадей были опубликованы И. П. Липранди (О секте Татариновой. С. 23) и Н. Ф. Дубровиным (Наши мистики-сектанты. Е. Ф. Татаринова и А. П. Дубовицкий. Гл. I // Русская старина. 1895. Октябрь. С. 52-57). Необходимо также указать на рукопись со 108 песнями из собрания И. А. Шляпкина, хранящуюся в настоящее время в АГМИР (Ф. 2. Оп. 21. № 9) и озаглавленную «Книга Песней в прославление сладчайшего Имени Господа нашего Иисуса Христа в духовное назидание младенческих душ и в утешение скорбящих сердец». По всей вероятности, она также принадлежала кому-то из членов «Братства». Примечательно, что почти такое же название имели тетради, отобранные в 1824 г. у одного из членов татариновского кружка штабс-капитана Л. М. Гагина (Дубровин Н. Ф. Наши мистики-сектанты. Е. Ф. Татаринова и А. П. Дубовицкий. Гл. III // Русская старина. 1895. Дек. С. 81 (прим. 2)).
[Закрыть]. Члены кружка позаимствовали из традиции простонародного мистического сектантства и «начальную молитву» «Дай нам, Господи...». Она также была подвергнута определенной переделке (см. об этом в главе 3).
Можно сказать, что смысл и функции хлыстовского радения были более или менее верно поняты Татариновой и ее последователями. В экстатической практике «Братства» пророчество играло столь же или даже более важную роль, что и в христовщине. По словам Н. Ф. Дубровина, «Екатерина Филипповна рассказывала мысли и деяния каждого, указывала на пороки, кроме слушателя никому не известные, давала наставления, предостерегала от предстоявших опасностей и предсказывала будущее»[528] 528
Дубровин Н. Ф. Наши мистики-сектанты. Е. Ф. Татаринова и А. П. Дубовицкий. Гл. II // Русская старина. 1895. Ноябрь. С. 11.
[Закрыть]. Правда, традиционную практику пророчеств она дополнила одним элементом, вряд ли знакомым крестьянам – последователям христовщины и скопчества, но вполне соответствовавшим фольклорному мотиву «письма на тот свет». «Пред началом какого-либо намерения, – показывала Татаринова в 1837 г., – ‹она›, посредством письма на имя Христа Спасителя, вопрошает его: должно ли исполнить предначертанное, или отказаться от своего намерения? Письмо кладет она вечером к подножию образа Спасителя, а утром всегда уже в невольных песнях возглашает полученный ею ответ»[529] 529
Липранди И. О секте Татариновой. С. 29.
[Закрыть]. Любопытным примером того, как воспринимались радельные пророчества в кружке Татариновой, могут служить дневниковые записи Боровиковского, бывшего одним из ревностных членов «Братства» и в 1819 г. регулярно фиксировавшего свои впечатления о собраниях в Михайловском замке.
‹Июня› 8-го. Воскресенье. После обеда пришел в Михайловский... Пророчествовала Лукерья, но не могла всем. Начала Е‹катерина› Ф‹илипповна›, продолжала; но также остановилась. После позвала меня к себе и продолжала прорекать многие обетования, и что Господь устроит жизнь мою во дворце. Чувствовал теплоту сердечную, со всеми любовно распростился; но дома все пил с ромом. ‹...›
‹Августа› 24-го. Воскресенье. В Михайловском застал поющих и обращался к молитве. Чувст‹вовал› мое осуждение и ожидал облегчения. Но слово милосердное наконец напомнило, чтобы я в радении сокрушался о грехах моих, что я принял не иначе, как напоминание моего падения. Продолжал прилежно и легко. ‹...›
‹Сентября› 9-го. Вторник. ‹...› Пришел в Новый Собор; началось уже пение. ‹...› Ник‹ита› Ив‹анович› принес воду, взял в руки крест; пропели: «Спаси Господи, во Иордани крещающуся», а перед тем молил в духе, и целовали крест. Продол‹жал› слово, и я назван тетерею, и «дам тебе хату». Такие наименования чувствовал я с подозрением, как бы сказано с намерением посмеяться в моей бедности[530] 530
Из записной книжки художника Боровиковского. С. 214, 216-217.
[Закрыть].
Хотя о религиозной деятельности «Братства» властям стало известно уже в 1817 г., к нему не было применено никаких репрессивных мер. Татариновой покровительствовал не только А. Н. Голицын, но и сам император. Более того, вскоре правительство решило воспользоваться кружком Татариновой для борьбы со скопчеством. В 1818 г. Голицын отправил к Селиванову Пилецкого вместе с бывшим директором департамента народного просвещения. Они были должны воздействовать на скопцов силой убеждения. Затея эта, естественно, ни к чему не привела, однако в 1819 г. Пилецкий письменно изложил свои доводы против скопчества и, с одобрения Голицына и Александра I, издал за счет правительственных средств брошюру «О скопцах»[531] 531
[Урбанович-Пилецкий М. С.] О скопцах. СПб., 1819. Ср.: Высоцкий Н. Г. Первый печатный труд о скопцах.
[Закрыть]. Она вышла тиражом 11 тысяч экземпляров, продавалась по рублю и распространялась через епархиальных архиереев, а также посредством структур Министерства внутренних дел. Выручка от книги предназначалась бедным; правда, покупали ее довольно плохо.
Брошюра Пилецкого представляет собой одновременно и апологию кружка Татариновой, и критику скопчества как «отпадения от истинного учения». Обильно цитируя Новый Завет (и, в частности, Первое послание к коринфянам), автор пытается доказать, что «еще с апостольских времен продолжались особые собрания христиан, в коих они беседовали и радовались о своем Господе и Спасителе, исполняясь Духа Святого посредством вдохновенных божественных песней, и притом назидались, укреплялись и утешались пророческим Словом, которое было прорекаемо для верующих в явлении Святого Духа чрез христиан, получивших дар пророческий»[532] 532
[Урбанович-Пилецкий М. С.] О скопцах. С. 6.
[Закрыть]. По мнению Пилецкого, эти собрания, руководимые «просвещенными вдохновенными настоятелями», существовали в течение всей истории христианства, но были скрыты от профанов, лишенных «даров Святого Духа». Однако со временем все равно происходило отпадение от истины: некоторые из носителей этих даров теряли «чистоту сердца» и становились лжеучителями или лжепророками. Так, полагает Пилецкий, «случилось, вероятно, ... с обществом скопцов, с тех пор как оно признало скопечество средством к спасению»[533] 533
Там же. С. 9.
[Закрыть]. Любопытно также, что здесь же Пилецкий засвидетельствовал существование скопческих представлений о Селиванове как о Христе-искупителе и предложил свою концепцию их происхождения (несколько позже к таким же объяснительным моделям будут прибегать сторонники теории Макса Мюллера): «Сие общество, по несчастию весьма многочисленное, существует под влиянием одного престарелого скопца, водимого ложным учением. Прежние скопцы почитали сего старца предназначенным для скопления, без которого нельзя будто хранить чистоту; но дух заблуждения со временем до того усилился, что последователи сего лжеучителя сочли его посланным от Бога для искупления (здесь и выше курсив автора. – А. П.). Скопитель и Искупитель суть значения совсем противоположные»[534] 534
Там же.
[Закрыть].
Однако, несмотря на все пропагандистские усилия, в прозелитическом соперничестве Татариновой и Селиванова побеждал последний. В том же 1819 г. два двоюродных племянника тогдашнего петербургского генерал-губернатора М. А. Милорадовича, бывшие первоначально ревностными участниками кружка Татариновой, перешли к Селиванову, причем один из них (подпоручик Семеновского полка А. Г. Милорадович) даже соглашался оскопиться. Кроме того, выяснилось, что скопческая секта активно распространяется в столице и что в нее вступают, принимая оскопление, матросы и нижние чины гвардейских полков[535] 535
Вероятно, именно в это время, в 1819 или 1820 г., Ф. Н. Глинка, служивший чиновником особых поручений при Милорадовиче, составил записку «О секте и действиях скопцов», сохранившуюся в бумагах Секретного комитета по делам раскола (РГИА Ф. 1473. Оп. 1. № 1. Л. 293-296 об). Этот документ интересен как свидетельство тогдашних представлений и слухов о скопчестве, циркулировавших в столице. Согласно Глинке, секта скопцов существует с незапамятных времен; в России она особенно распространилась во времена Петра I, а в Петербурге – с начала XIX в. «Скопление производится здесь (в столице. – А. П.) беспрерывно и с некоторого времени особенного рода инструментом, посредством которого лишают вдруг всех частей детородного уда» (л. 294 об). У скопцов есть «девица редкой красоты, называемая Богородицею. Ей воздают скопцы божеские почести. Сколько известно, прибыла она сюда из Москвы в недавнем времени» (л. 295-295 об). «Секта имеет и своего так называемого Спасителя. Илья Исаев и придворный лакей Кобелев суть ближайшие наперстники (так в тексте. – А. П.) его. Последний до того простирает дерзость, что в самом дворце призывает гвардейских офицеров к Спасителю своему, и объявляет пред полным собранием скопцов, будто бы Государь велел им кланяться...» (л. 295). Главной целью сектантов Глинка считал обогащение: «Сколько я мог узнать, цель секты основана на преступном своекорыстии зачинщиков или старшин, называемых у скопцов богачами» (л. 296).
[Закрыть]. Эти сведения обеспокоили правительство, и летом 1820 г. Селиванов был арестован и выслан в тот же Спасо-Евфимиевский монастырь, где он и умер 19 февраля 1832 г.
Сведения о последних двенадцати годах жизни Селиванова известны нам благодаря секретной переписке между настоятелем монастыря архимандритом Парфением, владимирскими губернскими властями и официальными лицами Министерства внутренних дел[536] 536
Майнов В. Н. Скопческий ересиарх Кондратий Селиванов; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 229. № 19 («Дело о заключении в Суздальский монастырь ересиарха секты скопцов Кондратия Селиванова»).
[Закрыть]. Он был помещен в недоступной для посетителей части монастыря и содержался под постоянным караулом из четырех человек. Скопцы, пытавшиеся, под теми или иными предлогами, добиться встречи со своим «искупителем», неизменно выпроваживались из обители. Однако, несмотря на это, Селиванов, по всей вероятности, поддерживал связь со своими сторонниками. Из переписки также явствует, что «скопческий ересиарх» достаточно часто исповедался и принимал причастие, хотя до ареста, по его собственному признанию, не причащался семнадцать лет.
Согласно сообщению В. Н. Майнова, Селиванов был погребен с восточной стороны Никольской церкви, стоявшей при арестантском отделении монастыря. Его могила была отмечена простой земляной насыпью, но при этом не была забыта: в ямки, проделанные в ней, почитатели Селиванова опускали бублики и сухари, после чего они считались освященными. То же самое происходило и в Шлиссельбурге, на могиле Шилова, где стоял большой гранитный памятник с просверленными в нем цилиндрическими отверстиями[537] 537
В настоящее время та часть кладбища на Преображенской горе, где находилась могила А. И. Шилова, к сожалению, разрушена (личный осмотр автора, 1998 г.).
[Закрыть]. В них также «освящали» особые сухари из белого хлеба. «Крайне интересно, – пишет Майнов, – что обе могилки посещаются не одними лишь скопцами, но и православными... Зачастую приходилось нам и в Шлиссельбурге, и в Суздале слышать о „чудесных могилках“ и о „Божьих“ людях, погребенных в них, а в Шлиссельбурге... на вопрос наш: „Зачем в могиле дырочки проделаны?“ мы получили... следующий ответ: „Народ это проделал, много раз зарывали и закладали дирочки от начальства, да все раскапывают“. „Кто же?“ – спрашиваем. ,Да народ-от здешний. Опущают туда хлеб и иную пищу – от болезней помогает... угодил Осподу Богу этот блаженный!“»[538] 538
Майнов В. Н. Скопческий ересиарх Кондратий Селиванов. С. 776 (примечание).
[Закрыть].
Вскоре после высылки Селиванова преследованиям подверглось и «Братство» Татариновой. В 1822 г., после высочайшего рескрипта о закрытии тайных обществ, с нее взяли подписку, что она «не будет иметь у себя прежних многочисленных собраний и съездов»[539] 539
Дубровин Н. Ф. Наши мистики-сектанты. Е. Ф. Татаринова и А. П. Дубовицкий. Гл. III // Русская старина. 1895. Дек. С. 51.
[Закрыть]. За год до этого она лишилась квартиры в Михайловском замке и переехала в 1-ю роту Семеновского полка. Правда, молитвенные собрания ее кружка по-прежнему продолжались, хотя они и не были уже столь многолюдными. В 1837 г. в петербургскую полицию поступил донос на членов «Братства». Было проведено обстоятельное расследование, после чего Татаринова и ее последователи отправились в ссылку в различные провинциальные монастыри и уездные города (Татаринова попала в Кашинский монастырь; Пилецкий – в Спасо-Евфимиевский, где за пять лет до этого скончался Селиванов; Никита Федоров – в Юрьев). В середине 1840-х гг. вернувшиеся из ссылки члены кружка Татариновой попытались возобновить свою религиозную деятельность и даже попали под тайный полицейский надзор, однако к середине столетия «Братство», по-видимому, окончательно распалось.
Христовщина и скопчество в XIX веке
Так завершилась история распространения культовой практики русского мистического сектантства в привилегированных слоях русского общества начала XIX в. (отчасти эта ситуация повторится спустя столетие). Однако для купечества, мещанства и крестьянства XIX в. ни христовщина, ни скопчество не утратили своего значения. Хотя доминирующую роль в этом столетии играло второе движение, сначала необходимо сказать несколько слов о дальнейшем историческом развитии христовщины.
По всей вероятности, на рубеже XVIII и XIX вв. отчетливого размежевания между последователями христовщины и скопчества еще не было. Устойчивая скопческая идентичность сформировалась лишь к концу «петербургского периода» Кондратия Селиванова. В первые два десятилетия XIX в. оскопление воспринималось многими хлыстами не как единственное средство к спасению души, но лишь в качестве экстраординарного подвига. Некоторые представители общин, относивших себя к христовщине, оскоплялись, другие оставались не оскопленными. Так, например, обстояло дело с сектантской общиной, в начале 1800-х гг. объединявшей нескольких церковнослужителей, крестьян и мещан Калужской губернии, а также игумена, иеромонаха и послушника разных московских монастырей[540] 540
Кутепов К., свящ. Секты хлыстов и скопцов. С. 92-93; Высоцкий Н. Г. Дело о секте, называемой «христовщиной», коея последователи оскопляют себя // Русский архив. 1915. № 2. С. 179-229; Он же. Первый опыт систематического изложения вероучения и культа «людей божиих». М., 1917. См. также: РГИА Ф. 796. Оп. 84 (1803 г.). № 671.
[Закрыть]. История этой общины хорошо известна благодаря деятельности еще одного провокатора – священника Ивана Сергеева из села Забелина Калужского уезда. По поручению своего благочинного Сергеев «благоразумным образом» вошел «в тесное обращение» с одним из лидеров общины – священником с. Князь-Иванова Константином Ивановым. «Разведав... до точности заблуждение онаго священника», Сергеев должен был немедленно известить власти. Сергеев действительно был принят в общину, участвовал в радениях и, после того как сектанты были арестованы, сохранил у себя записи радельных песнопений и часть переписки, которая велась между калужскими хлыстами и Кондратием Селивановым. В 1803 г. провокатор сообщил о полученных сведениях благочинному, после чего Константин Иванов и другие члены общины были арестованы и разосланы по монастырям. Через шесть лет Сергеев представил в Синод записку («Изъяснение раскола, именуемого христовщина или хлыстовщина»), где попытался систематизировать свои наблюдения и выявить догматическое учение христовщины и особенности ее ритуалистики. К записке было приложено 36 текстов сектантских песнопений, 4 письма Селиванова к разным лицам (в том числе, возможно, и к самому Сергееву), а также письмо некоего сектанта Л.[541] 541
Высоцкий Н. Г. Первый опыт систематического изложения... С. 23-102.
[Закрыть] Впрочем, сопоставление записки Сергеева и материалов расследования 1803 г. показывает, что Сергеев в значительной степени приукрасил и додумал различные элементы современного ему хлыстовского культа. В целом можно говорить, что ритуальная практика калужских хлыстов мало отличалась от известной нам традиции христовщины второй половины XVIII в. Однако во время следствия было обнаружено, что лидеры общины (упомянутый священник Константин, а также калужский мещанин Иустин Иванов) «учат... еще и тому, чтоб себя скоплять, приводя... во основание сей текст „суть скопцы, иже исказиша сами себя Царствия ради Небесного“, и таковых скопцев своих имянуют они безплотными силами»[542] 542
Высоцкий Н. Г. Дело о секте, называемой «христовщиной»... С. 185.
[Закрыть].
В 1814 г. в городе Юхнове Смоленской губернии была обнаружена другая хлыстовская община, руководимая двумя женщинами[543] 543
Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. Кн. 8. История распоряжений по расколу. СПб., 1863. С. 84-85; Историко-статистическое описание Смоленской епархии. СПб., 1864. С. 53-54.
[Закрыть]. Здесь также существовала вполне традиционная радельная практика, включавшая пение «псалмов», экстатические пляски и пророчества. Вместе с тем, послушнику Юхновского Казанского монастыря, вступившему в общину, рассказывали и об оскоплении, бывающем «в их секте от желающих»[544] 544
Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. Кн. 8. С. 85.
[Закрыть]. Четверть века спустя сходная ситуация была зафиксирована у хлыстов Волоколамского и Гжатского уездов Московской губернии[545] 545
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 11. № 95.
[Закрыть].
Таким образом, можно предполагать, что в первые десятилетия XIX в. диффузия практики ритуального оскопления затронула многие хлыстовские общины Центральной России. Их последователи могли соглашаться на оскопление, даже не разделяя харизматического культа Селиванова и специфической для скопчества легендарной и песенной традиции. Однако, по всей вероятности, значительная часть оскопившихся рано или поздно все же подпадала под влияние скопческой идеологии.
Возможно, что именно это размывание традиционной христовщины под влиянием скопчества вызвало к жизни (или, по крайней мере, активизировало) новое идеологически сильное хлыстовское движение. Речь идет об уже упоминавшихся московских и костромских общинах, которые исповедовали развитый культ Данилы Филипповича и в значительной степени усложнили традиционную радельную практику. Нам известно о них благодаря ряду судебных процессов, прошедших в Москве в конце 1830-х – 1840-х гг.[546] 546
См.: Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. Кн. 8. С. 435-442, 501-504, 620; Реутский Н. В. Московские «Божьи люди» во второй половине XVIII и в XIX столетии // Русский вестник 1882. Май. С. 5-79; Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1: Христовщина, т. 1. С. 36-63.
[Закрыть]
Трудно сказать, насколько прямо идеология, ритуалистика и фольклор московских и костромских хлыстов первой половины XIX в. наследуют традициям тех последователей христовщины, которые подвергались преследованиям в 1733—1739 и 1745—1756 гг. Н. В. Реутский полагал, что община, открытая следствиями 1830—1840-х гг., была основана «около 1770 годов, уже после московского „мора“» хлыстами, «успевшими разбежаться по разным губерниям» во время процесса 1745—1756 гг., «вместе с высланными из Москвы приговоренными согласниками»[547] 547
Реутский Н. В. Московские «Божьи люди»... С. 13-14.
[Закрыть]. Однако ретроспективные хронологические выкладки Реутского представляются далеко не бесспорными; кроме того, он исходил из ошибочной идеи о христовщине как о секте с устойчивой централизованной организацией. По всей вероятности, процесс сложения этой общины и ее специфического культа был более сложным. С одной стороны, наследие московской христовщины первой половины XVIII в. здесь очевидно. Об этом, в частности, свидетельствуют детали радельного репертуара и экстатической ритуалистики. Показательно, кроме того, что в репертуаре московских хлыстов 1840-х гг. появляется песня «В конюшенке государевой тут стояли да все конички» – о Настасье (Агафье) Карповой, казненной в Петербурге по приговору комиссии 1733—1739 гг. (см. выше). В ней поется о том, как по «пути-дороженьке» «от Москвы до Питера» «везут красну девицу Настасьюшку Поликарповну»:
У ней ноженьки были скованы,
Белы рученьки назад связаны,
Уж ведут ее два полка солдат
Ко тому дворцу государеву,
К государыне Анне Ивановне.
Настасьюшка открывает государыне наедине тайну своей веры; та пугается и приказывает казнить хлыстовскую мученицу. Однако Настасья, в свою очередь, предрекает смерть царице, и через три дня у той «разрывает утробу»[548] 548
Там же. С. 61-63; тот же самый текст с рядом разночтений публикует и П. И. Мельников (Мельников П. И. (Андрей Печерский). ПСС. Т. VI. С. 298-299; ср.: Мельников П. И. Материалы для истории хлыстовской и скопческой ересей: Отд. 2. Свод сведений о скопческой ереси из следственных дел // ЧОИДР. 1872. Кн. 2. С. 43-44). И Мельников, и Реутский предпочли опустить концовку песни, указав лишь, что в ней государыня умирает; однако в публикации в ЧОИДР (с. 44) Мельников все же привел и финал текста: «Через три дня померла непрощенная / Государыня Анна Ивановна, / Утроба у нее лопнула». Кроме того, о характере этой смерти нам известно из другого, более позднего варианта, опубликованного Рождественским и Успенским (Рождественский Т. С, Успенский М. И. Песни русских сектантов-мистиков. С. 18-21 (№ 14)). Перед смертью Настасья предрекает: «Ты послушай-ка, царица, / Как моя глава свалится, / Твоя жизнь прекратится. / Понесут тело ко гробу, / Разорвет твою утробу». И действительно: «Была славушка не мала, / Как царицу разорвало. / Вся вселенная удивилась. / Сенаторы ужаснулись».
[Закрыть].
С другой стороны, очевидно, что очень большую роль в формировании культа московской общины первой половины XIX в. сыграла локальная традиция костромской христовщины. Скорее всего, именно этому влиянию обязаны своим появлением легендарные рассказы о Даниле Филипповиче. Одной из наиболее авторитетных наставниц общины была костромская крестьянка Ульяна Васильева, которая считалась последним потомком Данилы. Вот что писал по этому поводу в 1837 г. московский губернатор костромскому:
‹Особое уважение хлысты воздают› почитаемому ими за праведного или основателя их согласия Даниле Филипповичу, умершему и похороненному близ Судиславля, верстах в 20 от Костромы, в с. Криушине (Кривушине). Туда съезжаются многие, служат на могиле панихиды, преимущественно первого сентября в день его смерти. Есть между ними предание, что сей Данила гоним был во времена патриарха Никона; верстах в четырех от Кривушина в деревне Старой живет крестьянская девка Ульяна Васильева...: ее признают последнею отраслью рода Филиппова и чтут ее как праведницу. Каждый из вступающих (в секту. – А. П.) бывает у нее хотя однажды... Ей сносят и присылают большие вклады; от нее получают хлеб ржаной, ситный или пшеничные лепешки и разделяют частицами между себя; употребляют этот хлеб как святыню: кладут в годовые запасы – муку, капусту, огурцы, – под наименованием (для сторонних) хлеба из Костромы от Федоровской Божией Матери, и говорят, что кусочки сего хлеба едят перед причащением; из колодца Васильевой берут воду; зимой на льдинах воду сию пересылают в Москву к мещанке Борисовой и к купцу Ивану Емельянову...[549] 549
Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1: Христовщина, т. 1. С. 39.
[Закрыть]
В Москве также хранились различные реликвии, связанные с именем Данилы Филипповича. «В доме Борисовой, – сообщал священник Панкратьевского прихода, – как святыня хранились доныне оного Данилы шапки, трости или жезлы, курганы (? – А. П.), посуда и всякая мелочь, даже тряпки, коих частички кладут в гробы умерших, в сундуки и в ларчики в освящение, а волосы его носят на крестах»[550] 550
Там же. С. 42.
[Закрыть]. В 1845 г. у московских хлыстов был изъят стол, за которым, по преданию, Данила Филиппович беседовал с Иваном Тимофеевичем Сусловым. «На одной доске стола написаны были портреты Данилы Филипповича и Ивана Тимофеевича в виде образов»[551] 551
Мельников П. И. (Андрей Печерский). ПСС. Т. VI. С. 276. Этот стол вместе с другими хлыстовскими и скопческими реликвиями, конфискованными во время обысков, до 1896 г. хранился в «Раскольническом кабинете» Министерства внутренних дел. Дальнейшая судьба его неизвестна (см.: Томсинская Л. А. «Раскольнический кабинет» Министерства внутренних дел (1870—1896 годы) // Научно-атеистические исследования в музеях: Сборник научных трудов. Л., 1986. С. 69-75).
[Закрыть]. Еще одна хлыстовская наставница, московская купчиха, которую тоже звали Ульяной Васильевой, рассказывала своему «крестному сыну», мещанину Николаю Иванову Князеву, «что дом их называется божиим, у них колодец святой, сам бог с гостем богатым костромским Данилом Филипповичем и со избранным сыном Иваном Тимофеевичем жили в нем и учение правое божиим людям воздавали, и таких древних по всей земли только три: первый в Костроме, второй в Москве, третий в Стародубье[552] 552
Стародубье или Стародубская сторона, где, по преданию, родился Иван Тимофеевич Суслов, – округа с. Кляземский Городок в нижнем течении р. Клязьмы. Здесь находился древнерусский г. Стародуб (Стародуб Ряполовский), известный с начала XIII в. и разрушенный в 1609 г.
[Закрыть], где родился избранный сын Иван Тимофеевич. Он спросил, где Стародубье, Васильева отвечала: когда он проживет 10 лет и веровать будет с истиною, тогда побывает в Костроме и Стародубье в божьих домах, а прежде 10 лет не велено сказывать, в каких местах, а ездить строго запрещено»[553] 553
Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. Кн. 8. С. 439; ср.: Реутский Н. В. Московские «Божьи люди»... С. 27-28.
[Закрыть]. Согласно Реутскому, московский «божий дом» на углу Малой Сухаревки и Третьей Мещанской, о котором говорила Ульяна, был тем самым домом, который некогда принадлежал юродивому Андреяну Петрову и затем был конфискован следственной комиссией 1745—1756 гг.
Среди сектантов были широко распространены легендарные сказания о Даниле Филипповиче и Иване Тимофеевиче, причем эта пара с большей или меньшей отчетливостью ассоциировалась с первым и вторым лицами Троицы. «Верховный гость» Данила Филиппович сходит с небес «в превеликой славе с силами небесными на огненных облаках, в огненной колеснице», дает людям двенадцать заповедей, воспроизводящих традиционные нормы хлыстовской аскетики и, вместе с тем, прямо корреспондирующие с Десятью заповедями Господними[554] 554
Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1: Христовщина, т. 1. С. 57-59. Так, «первая заповедь» Данилы гласит: «Я есмь Бог, пророками предсказанный, сошел на землю вторично для спасения душ рода человеческого; не есть другого Бога, кроме меня».
[Закрыть]. В рассказах об Иване Тимофеевиче, в свою очередь, варьируются мотивы чудесного рождения и крещения (используется сюжет СУС 800), а также преследований, страданий и воскресения[555] 555
Там же. С. 42-43, 59-60.
[Закрыть]. Показательно, что в верованиях московских хлыстов середины XVIII в. сходным образом позиционировались Суслов и Лупкин. На следствии 1745—1756 гг. крестьянин Никита Рыбников, например, показывал:
...«Господская вера» – та же христовщина, а носит такое название потому, что главный учитель ее Иван Иванов (которого тело погребено при церкви Николая Чудотворца в Грачах) назывался «господином»...[556] 556
Хотя в показаниях Рыбникова «главного учителя» зовут Иваном Ивановым, вероятно, что имеется в виду именно Суслов. Мы знаем, что Суслов был погребен в Ивановском монастыре; а в 1736 г. по решению Синода его тело было эксгумировано. Однако неизвестно, было ли действительно исполнено предписание о сожжении тела Суслова. Возможно, что он был перезахоронен при церкви Николая Чудотворца. Московские хлысты XIX в. также указывали на этот храм как место погребения Ивана Тимофеевича (Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1: Христовщина, т. 1. С. 43).
[Закрыть] ‹...› Лупкина почитали за святого, угодника, христа, казненных и сосланных согласников – за мучеников и страдальцев; могилам Лупкина и Ивана Иванова поклонялись, на Святой носили на эти могилы крашеные яйца[557] 557
Нечаев В. В. Дела следственные о раскольниках комиссий в XVIII веке. С. 130.
[Закрыть].
Вероятно, что какие-то легендарные сказания о Боге-отце (Суслове) и Боге-сыне (Лупкине) начали складываться в среде московских хлыстов уже в 1740-х гг. Этот же мотив реализуется в некоторых сектантских песенках из сборника Василия Степанова (см. главу 3). Однако к 1830—1840-м гг. конфигурация персонажей «священной истории» московской христовщины изменилась: Лупкин исчез из нее вовсе, Суслов переместился на позицию Христа, а место Бога-отца занял персонаж локального культа – костромской «верховный гость» Данила Филиппович.
Вместе с тем формирование специфического культа московской христовщины первой половины XIX в. было обусловлено, по-видимому, не только влиянием костромской традиции. Думается, что сложение последовательной и связной «священной истории» о нисхождении Данилы Филипповича, чудесном рождении и страданиях Ивана Тимофеевича стало своеобразным ответом христовщины на появление устойчивой идеологии и легендарной традиции скопчества. Цикл легендарных сказаний о Селиванове, возможно, начал формироваться уже в первое десятилетие XIX в. Не исключено, что тогда же были записаны автобиографические рассказы Селиванова, послужившие основой для «Похождений» и «Страд». Практика исполнения песен и сказаний о Селиванове – Христе и Петре III, его свиданиях с императорами Павлом и Александром возникла, скорее всего, в начале 1820-х гг. – после ареста и заточения скопческого «искупителя». Таким образом, вполне вероятно, что именно угроза экспансии скопческого учения подтолкнула московских хлыстов к созданию собственного цикла легенд о Даниле Филипповиче и Иване Тимофеевиче. Определенный изоморфизм и даже сюжетные параллели здесь действительно прослеживаются, особенно в том, что касается страданий Ивана Тимофеевича. Так, в «Страдах» Кондратия Селиванова рассказ об ассоциирующейся с крестными муками казни в Сосновке заканчивается описанием окровавленной рубашки:
Сходный, хотя и более живописный эпизод встречаем и в рассказе о наказании Ивана Тимофеевича:
...Хлысты говорят, что Тимофеев – их христос – был наказываем на Красной площади; с него живого была снята кожа, но какая-то девка одной с ним ереси покрыла его тело белым полотном, которое, приросши к нему, заменило кожу, и хлысты в память сего события носят белые длинные рубашки; от сих мучений он умер, потом воскрес, делал чудеса...[559] 559
Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1: Христовщина, т. 1. С. 43.
[Закрыть]
Нужно иметь в виду, что определенная часть членов московской общины первой половины XIX в. состояла из крестьян, приехавших в Москву из-под Петербурга, причем именно оттуда, где скопческое учение было распространено уже с 1790-х гг. «Первоначальное их учение, – пишет Н. Варадинов, – укоренилось в Москве между людьми, переселившимися из окрестностей С.-Петербурга (сел Пулкова, Славянки, Кузмина и др.), главные же сектанты происходили из окрестностей г. Костромы...»[560] 560
Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. Кн. 8. С. 436.
[Закрыть]. Показательно, что одна из переселенок, крестьянка Ирина Лисина, рассказывала властям в 1837 г. о противостоянии хлыстов и скопцов, по-своему интерпретируя скопческое предание об Александре Шилове, которому якобы выбили один глаз во время допроса в 1775 г.[561] 561
Ср., например, скопческую песню о Шилове: «Как и взяти (взяли?) его на строгой допрос, – / На первый разок вышибли глазок. / Перекрестился, Бога славя: / „Этот первый дар мне от Бога дан“» (Рождественский Т. С., Успенский М. И. Песни русских сектантов-мистиков. С. 847 (№ 714)).
[Закрыть]:
Сначала согласие было общее между хлыстами и скопцами, но по какому-то разногласию между начальниками они поссорились, друг друга преследовали, произошла драка; тот, которого осилили, был сечен лозами и вышибен ему глаз. Жил он, как говорят, у Спаса на Новом, в богадельне, против колокольни, очень давно, в старину, до мору[562] 562
Реутский Н. В. Московские «Божьи люди»... С. 50.
[Закрыть].
Тягу к усложнению и институциолизации демонстрируют и другие стороны культа московской и костромской христовщины первой половины XIX в. Сектанты формируют свой собственный праздничный календарь, отчасти не совпадающий с традиционной для народного православия системой праздников. Так, особой популярностью в московской общине пользовался день пророка Даниила (17 декабря старого стиля), очевидно ассоциировавшегося с Данилой Филипповичем. Согласно показаниям той же Ирины Лисиной, «главное сборище» московских хлыстов бывало накануне 16 июня старого стиля, когда празднуется память трех Тихонов: епископа Амафунтского, преподобного Медынского, Калужского и преподобного Луховского, Костромского чудотворца. Думается, что именно почитание последнего сделало этот день значимым для христовщины: вероятно, речь идет о каком-то локальном костромском культе, инкорпорированном в религиозные традиции местных хлыстов. Особо почитался и день св. Ионы, митрополита Московского (15 июня старого стиля). Вместе с тем московские сектанты сохраняли почитание и «общих» праздников: радения совершались в дни Введения, св. Александра Невского[563] 563
Не исключено, что в этом случае также сказалось влияние скопческой традиции, поскольку сектанты могли ассоциировать Александра Невского с Александром Шиловым.
[Закрыть], в Сборное Воскресенье, в Рождество, на второй день после Пасхи, на Троицу и т. п.
Усложняется и структура радельного ритуала: его обязательными элементами становится коллективная молитва с земными поклонами «на подручниках», общее «прощание» и исполнение устных эпических текстов, репрезентирующих «священную историю» общины. У московских хлыстов 1830-х гг. радения совершались в дневное время и были довольно продолжительными:
Сходбища хлыстов начинаются с самого утра и продолжаются до глубокой ночи, и как соберутся ожидаемые пророки и пророчицы в чей дом, то, раздевшись, завтракают, потом, расставив караульных и разувшись, входят в моленную, садятся все по местам, занимая оные по старшинству. После того молятся в землю на подручниках; далее, кланяясь друг другу, прощаются и садятся мужчины на одной, а женщины на другой стороне. Старшие разговаривают о своем Боге Даниле и Иване Тимофееве тихо, чтобы не быть услышанными от младших, об их учении, о своих стариках и старухах умерших, почитая стариков за апостолов, а старух за равноапостольных, о их учении, издавна существующем, по преемственному от них устному преданию. Старшая же хозяйка дома стоит у дверей и вслушивается в их разговор. По довольном их разговоре снимает она с пола половики и метет пол; молится на подручнике; кланяется сидящим на лавках и скамьях в ноги почти каждому, говоря: «Порадейте и молитесь о успехе имеющего быть пророчества». Потом каждому пророку, коих в собрании бывает по два, по три и более, раздает по два длинных полотенца, называемые знаменами, коими они по подобию диаконского ораря перепоясываются; одни пророки, будучи в белых рубахах, подпоясанные разноцветными поясами, машут третьим свернутым полотенцем, вертясь и прыгая до поту и исступления, поя про себя негромко... какие-то песни, поминая своих богов с молитвою и призывая Св. Духа, именуя его Райскою птицею, и после сего пророчествуют... Потом то же самое делают пророчицы, а скащики и скащицы-старухи им напоминают, что нужно делать по сказанию их Данилы. По окончании означенных пророчеств, начинают все пиршество, не употребляя хмельного и чаю...[564] 564
Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1:Христовщина, т. 1. С. 44-45.
[Закрыть]
Итак, последователи московской и костромской христовщины 1830-х гг. (И. Г. Айвазов предложил называть эту ветвь христовщины «данило-филипповцами») сформировали довольно специфическую культовую практику, основанную на богатой устной эпической традиции и усложненной структуре радельного ритуала. Вероятно, что эта практика была своеобразной реакцией на активную экспансию скопческого учения. Однако традиция «данило-филипповцев» не оказала заметного влияния на эволюцию русского мистического сектантства второй половины XIX в.[565] 565
В конце XIX – начале XX в. сектантские общины, унаследовавшие именно эту хлыстовскую практику с ее сложными ритуалами и богатым фондом устных эпических сказаний, существовали в Казанской губернии, в частности – в Чистопольском уезде (см.: Руфимский П. Религиозно-нравственное состояние прихожан с. Булдыря // Известия по Казанской епархии. 1891. № 2. С. 45-53; Он же. Из жизни хлыстов села Булдыря // Известия по Казанской епархии. 1891. № 9. С. 275-278; Он же. Приводы хлыстов села Булдыря // Известия по Казанской епархии. 1891. № 13. С. 404-409; Он же. Нелепый взгляд хлыстов села Булдыря на некоторые иконы // Известия по Казанской епархии. 1891. № 18. С. 555-554; Урбанский. Религиозный быт хлыстов Казанской губернии // Известия по Казанской епархии. 1903. № 12. С. 459-488; № 13. С. 517-547.
[Закрыть] Гораздо более значимым для дальнейшего развития традиции христовщины стало движение «постников», основанное в 1810-х гг. тамбовским крестьянином Аббакумом Ивановым Копыловым. Копылов не внес существенных изменений в традиционную для христовщины религиозную практику, однако, согласно его учению, особую значимость для спасения души имело воздержание от пищи. В среде постников сложилось даже особое песнопение, прославлявшее семидневный пост: