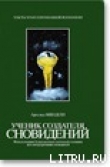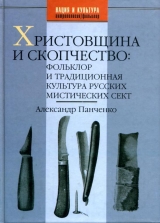
Текст книги "Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект"
Автор книги: Александр Панченко
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 37 страниц)
Думаю, что Эткинд ошибается. Во-первых, легендарный мотив царских знаков не является чем-то уникальным и представляет собой частное проявление широко распространенного фольклорного топоса чудесных отметин на теле героя. Эти знаки могут сообщать и о знатном (в том числе царском) происхождении, и о необычных способностях: мудрости, богатырской силе и проч.[1032] 1032
См.: Седакова И. А. О «знаках» и «отметинах» в традиционной культуре южных славян // Славянские этюды: Сборник к юбилею С. М. Толстой. М., 1999. С. 399-415.
[Закрыть] Что касается крестьянской культуры тела вообще, то подразумеваемая ею сфера значений не сводится исключительно к образу телесных отметин. Вспомним, например, широко распространенные представления о порче, проступающей на теле жертвы в виде килы, ящерицы и т. п. Во-вторых, непонятно, как все-таки крест, звезда или полумесяц на теле избранника могут быть приравнены к скопческому «обрезанию естества». Добро бы таким необычным «знаком» обладал бы только Селиванов. Но если оскопление доступно каждому, то оно уже не может быть признаком царского происхождения. Единственное, что, возможно, роднит мифопоэтические представления об оскоплении и о «царских отметинах» – это сама идея избранности.
Более вероятно, что особую роль в метафоризации оскопления сыграл апокалиптический контекст крестьянских представлений о знаках на теле. Я имею в виду мотив антихристовых печатей, широко распространенный в старообрядческом эсхатологическом фольклоре и восходящий к тринадцатой главе Апокалипсиса[1033] 1033
О значимости и устойчивости этих представлений в массовой религиозной культуре говорит их недавняя актуализация в поверьях о штрих-коде, индивидуальных идентификационных номерах и т. п. (см., например: Соболева Л. С. Американское сочинение об Антихристе-компьютере в интерпретации уральского старовера. С. 118-130).
[Закрыть]. Так, в духовном стихе об антихристе из сборника Варенцова поется:
Послушайте, мои светы:
Последний пришли лета.
Народился злой антихрист,
Напустил он свою прелесть
По городам и по селам,
Наложил печать свою на людей,
На главы их и на руки,
Что на руки и на персты.
Кто его печать принимает —
Тому житие пространно.
А кто его печать не принимает —
Тому житие гонимо[1034] 1034
Варенцов В. Сборник русских духовных стихов. СПб., 1860. С. 197.
[Закрыть].
Этнографические корреспонденции конца XIX в. свидетельствуют, что целый ряд официальных мероприятий мог ассоциироваться с поверьями этого рода[1035] 1035
То же мы встречаем и ранее. Так, например, интерпретировалось распоряжение Петра I об обязательном клеймении рекрут: им накалывали и натирали порохом четырехконечный крест на левой руке (см.: Александров Г. Н. Печать Антихриста (Письмо Петра Великого к князю Я. Ф. Долгорукому // Русский архив. 1873. Т. 2, № 10. Стб. 2068-2073; Он же. Еще о печати Антихриста // Русский архив. 1873. Т. 2, № 11. Стб. 02296-02297).
[Закрыть]. Вологодские крестьяне воспринимали в качестве антихристовой печати оспопрививание: «Привитие оспы и ставленье банок приравнивают к договору с дьяволом. Умирающий от оспы „помирает в христовой ризе“, пятнышки же, остающиеся на коже после привития оспы, – антиева печать»[1036] 1036
Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии. С. 120.
[Закрыть]. В среде поволжских старообрядцев подобные слухи циркулировали в связи с всеобщей переписью 1897 г.:
В Угличском уезде странники и женщины, среди которых наиболее распространялись и поддерживались такие россказни, решили, что народившийся и уже ходящий в народе... антихрист сам орудует переписью в Москве, а переписывать народ послал счетчиков, своих приближенных чиновников, снабдив их листами с печатью антихриста, – государственный герб на первой странице есть-де «антиева» печать, – и обязанных накладывать на переписываемых печать с таким знаком. ‹...› В одной деревне две семьи раскольников-самокрещенцев пришли к полной уверенности, что антихрист уже воцарился и разослал своих слуг, чтобы всех себе подчинить, что, видимо, должно выразиться записью в списки антихриста и наложением печати его на правую руку, после чего уже нельзя будет ни с кем повидаться, ни помолиться Богу. Они простились друг с другом, со всеми близкими и горько друг друга оплакали[1037] 1037
Беляев А. О безбожии и антихристе. Т. 1. Подготовление, признаки и время пришествия антихриста. С. 955-957.
[Закрыть].
Использование термина печать для обозначения оскопления широко распространено в скопческой словесности. Можно предположить, что здесь сказалась инверсия мотива антихристовой печати. Те, кто не принял антихриста, также нуждаются в телесной отметине. Таковой и становится скопческое «обрезание», маркирующее избранных праведников[1038] 1038
Ср. в скопческой песне о страшном суде (конец XIX в.):
Вся селенна устрашится,
Многи будут в гроб просит‹ь›ся,
Станут закон распирать,
На суд души собирать,
Что будут отвечать,
Во всех спросится печать,
Котора Богом дана
(Kocopotob Д. О ритуальных повреждениях у скопцов. С. 174).
[Закрыть]. С этим же кругом мотивов соотносится и идея оскопления как «огненного крещения». Здесь очевидна параллель со старообрядческими самосожжениями, также воспринимавшимися в качестве «крещения огнем». М. Б. Плюханова, специально исследовавшая символический и ритуальный подтекст самосожжения, полагает, что старообрядческие «гари» представляли собой род самовольного Страшного суда: «Вершиной в развитии темы огня как в духовных стихах, так и в идеологии раскола был взгляд на страшный суд как прохождение через огненную реку. ‹...› Страшный суд мог быть увиден в каждой гари, и тем самым эсхатологическая мистерия в каждом отдельном случае могла считаться доведенной до конца»[1039] 1039
Плюханова М. Б. О национальных средствах самоопределения личности: самосакрализация, самосожжение, плавание на корабле // Из истории русской культуры. Т. 3. С. 428-429.
[Закрыть]. Оскопление, первоначально совершавшееся при помощи раскаленного железного ножа, также может интерпретироваться в качестве предвосхищения загробного наказания за «блудный грех» или за грехи вообще. Отметим, что «огненные муки» грешников – один из самых устойчивых мотивов восточнохристианских эсхатологических апокрифов и фольклорных «видений того света»[1040] 1040
См.: Пигин А. В., Разумова И. А. Эсхатологические мотивы в русской народной прозе // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1995. С. 52-79.
[Закрыть].
Оскопление как змееборство. Отчетливый эсхатологический оттенок просматривается и в контексте восприятия оскопления как змееборства. Этот топос скопческого фольклора более сложен, он представляет собой сочетание и инверсию целого ряда религиозно-мифологических мотивов. Во-первых, в самых разных скопческих текстах под злым змием могут подразумеваться как ампутируемые половые органы (в частности, фаллос), так и «плотская похоть»[1041] 1041
Ср. заимствованный из «Великого зерцала» и широко распространенный в русской народной гравюре XVIII—XIX вв. сюжет о женщине, «умершей в блудном грехе без покаяния»: по смерти она сидит на огненном змее, что, собственно, и служит наказанием за блудный грех как таковой: «А на сем сижу – то есть блудны гре(х), которы тебе таила на исповеди» (Ровинский Д. Русские народные картинки. СПб., 1881. Кн. III: Притчи и листы духовные. (Сборник ОРЯС АН; Т. XXV). С. 44 (№ 701); см. также № 700, 702-703 (С. 42-46)).
[Закрыть] либо греховность вообще (что вполне соответствует топике грехопадения Адама и Евы)[1042] 1042
Ср. контаминацию образа змеи и представлений о телесном уродстве грешника в старообрядческом варианте легенды о «рукописании Адама». «Праотец наш Каин» рождается «сквернав»: «Глава на нем яко и на протчих человецех, на персех и на челе дванадесеть глав змииных, еже егдаже Евва сосцы своими питаше, тогда змиевы главы чрево ея терзающе, а от того терзания и лютаго мучения прабаба наша Евва окрастовила». Дьявол предлагает Адаму исцелить Каина и избавить Еву от мучений, но за это просит у Адама рукописание: «Заколи козлища и знаменуй на камени, еже дам ти, и рече сице: „живый Богу, а мертвыя тебе“. Адам совершает требуемое и отпечатки его рук «воображаются» на «плите белого камня». «И прииде диявол к Каину и оборва дванадесять глав змииных, положи их на камень и на рукописание то и вверзе оную еже во Иордан реку и заповеда диавол главам змиевым стрещи то рукописание и бе хранима теми главами змиевыми до пришествия Господа нашего Иисуса Христа» (Тихонравов Н. Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. Т. I. С. 16-17).
[Закрыть]. Так, в «Страдах» Кондратия Селиванова читаем: «...А я уж один пойду на страды за всех своих детушек, дабы прославить имя Христово и победить змея злова, чтобы он на пути не стоял и моих людей не поедал»[1043] 1043
Здесь и далее текст «Похождений» и «Страд» цитируется по Приложению 3.
[Закрыть]. Еще более драматично змееборство описывается в скопческой песне:
А я нонче, братие, очень скорбен и болен.
Подходила, братие, под меня мутная вода;
Подползала, братие, под меня лютая змея.
Уж не мог я, братие, от ней осторониться.
Закричал я, братие, своим громким голосом:
Вы подайте, братие, батюшке вострый меч
Змее голову отсечь![1044] 1044
Рождественский Т. С., Успенский М. И. Песни русских сектантов-мистиков. СПб., 1912. (ЗРГО по ОЭ; Т. XXXV). С. 414 (№ 323).
[Закрыть]
Во-вторых, с мотивом змееборства устойчиво ассоциируется распространенный в скопческом фольклоре образ белого коня. По справедливой догадке А. М. Эткинда[1045] 1045
Эткинд А. Русские скопцы: опыт истории. С. 139; ср.: Тульпе И. А. Конь в скопческом фольклоре // Символ в религии: Материалы VI Санкт-Петербургских религиоведческих чтений. СПб., 1998. С. 47-49.
[Закрыть], «белый конь», на котором восседает скопец, представляет собой своеобразную «метафору отсутствия». Сесть на белого коня означает царскую печать, полное удаление половых органов. Хотя в восточнославянском фольклоре ассоциации фаллоса с конем встречаются не так уж часто, известен ряд текстов, представляющих именно такую метафоризацию. В 34-й сказке из сборника А. Н. Афанасьева («Заветные сказки» или «Народные русские сказки не для печати»), например, находим следующий диалог лакея и барыни:
– Посмотри, что это у меня? – а сама на дыру показывает.
– Это колодезь! – говорит лакей.
– Да, это правда! А у тебя это что такое висит?
– Это конь называется.
– А что, он у тебя пьет?
– Пьет, сударыня; нельзя ли попоить в вашем колодезе?
– Ну, пусти его; да чтоб он сверх напился, а глубоко его не пускай![1046] 1046
Афанасьев А. Н. Народные русские сказки не для печати, заветные пословицы и поговорки, собранные и обработанные А. Н. Афанасьевым. 1857—1862 / Изд. подг. О. Б. Алексеева, В. И. Еремина, Е. А. Костюхин, Л. В. Бессмертных. М., 1998. С. 91. Б. А. Успенский, комментируя этот текст, замечает: «Представление мужского полового органа как коня, а женского органа как источника, откуда конь утоляет жажду, по-видимому, очень архаично: оно встречается и у других индоевропейских народов, например, у итальянцев» (Успенский Б. А. «Заветные сказки» А. Н. Афанасьева // Анти-мир русской культуры. Язык, фольклор, литература / Сост. Н. Богомолов. М., 1996. С. 163).
[Закрыть]
Аналогичную сцену встречаем в «Сказании о молодце и девице» (XVII в.):
Сице рече младый отрок к прекрасной девице: «Душечка еси моя прекрасная девица! Есть у тебя чистой луг, а в нем свежая вода; конь бы мой в твоем лузе лето летовал, а яз бы на твоих крутых бедрах опочин дерьжал»[1047] 1047
«А се грехи злые, смертные...»: Любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России (X – первая половина XIX в.) / Сб. ст. под ред. Н. Л. Пушкаревой. М., 1999. С. 125.
[Закрыть].
В качестве фаллического символа конь используется и в различных обрядовых и игровых текстах. В севернорусской «собольей частушке», записанной братьями Соколовыми, поется:
Тот же текст исполняется «попом» в торопецкой святочной игре «в покойника»:
Сидела на мяжи, копала коренья.
Раскололося пизда, вылилось варенье.
Садилася барыня на коня буланого,
Не боялася езды, боялася тряски,
Расщепилася пизда на две плашки[1049] 1049
Игры ряженых Торопецкого района Тверской области (публикация М. Л. Лурье) // Русский эротический фольклор / Сост. и ред. А. Л. Топоркова. М., 1995. С. 213 (№ 38).
[Закрыть].
В другой святочной игре («суд») из того же региона «судья» «спрашивает „жениха“: „Ты к ней ходил? Коней пускал? А ей запускал? А замуж не хочешь брать?“»[1050] 1050
Там же. С. 220 (№ 66).
[Закрыть].
Итак, скопческий белый конь может рассматриваться в качестве инверсии традиционной фаллической символики. Однако это значение вовсе не является доминантным. Устойчивая связь образа белого коня и мотива змееборства применительно к оскоплению очевидно ассоциируется с иконографией Георгия Победоносца и легендарными сюжетами о святых-змееборцах. На это обращал внимание еще А. П. Щапов, писавший в 1867 г.: «Народный стих о Егории храбром, прикрытый канвой византийского сказания о Георгии Победоносце..., является постепенным историко-литературным развитием и выражением той идеи, какая потом выразилась, в своем окончательном проявлении, в духовных стихах и песнях людей божиих и скопцов о „пророке над пророками“ – Селиванове»[1051] 1051
Щапов А. П. Сочинения. СПб., 1906. Т. I. С. 614; ср. также: Барсов Н. И. Исторические, критические и полемические опыты. СПб., 1879. С. 90.
[Закрыть]. В песне, призывающей новообращенного к оскоплению, поется:
Кто хочет благодатью владеть,
Тот изволит за Бога пострадать,
Золотую печать получить,
Чтобы душам в грехах не отвечать.
Садись ты смелее на коня,
Бери в руки шелковы поводья,
Возьми острый меч
И изволь ты змию голову отсечь[1052] 1052
Крыжин А. П. Опыт исследования скопческой секты в Симбирской губернии. С. 508-509.
[Закрыть].
В другом, позднейшем, варианте того же текста образ скопца-змееборца еще более живописен:
На коня-то поскорее, друг, садись
И своими сердецами веселись,
За златые повода крепче берись,
На свою сторону покатись,
По своей стороне прокати,
А ты лютого-то змея сократи. ‹...›
Ты послушай искупительскую речь,
Ты возьми в свои руки острый меч,
Ты изволь змею голову отсечь.
Тогда будут пречистые телеса,
Так пойдет тебя (?) душа во небеса[1053] 1053
Волков Н. Секта скопцов. С. 133-134 (№ 6).
[Закрыть].
Как известно, христианский культ святых-змееборцев (и особенно – Георгия Победоносца) достаточно разнообразно преломился в различных сферах восточнославянской народной культуры[1054] 1054
См.: Кирпичников А. И. Св. Георгий и Егорий Храбрый: Исследование литературной истории легенды. СПб., 1879; Веселовский А. Н. Разыскания в области русских духовных стихов. II. Св. Георгий в легенде, песне и обряде. СПб., 1880; Рыстенко А. В. Легенда о св. Георгии и драконе в византийской и славяно-русской литературе. Одесса, 1909; Пропп В. Я. Змееборство Георгия в свете фольклора // Фольклор и этнография русского Севера. Л., 1973. С. 190-208; Плюханова М. Б. Веселовский как исследователь форм исторического сознания // Наследие Александра Веселовского. Исследования и материалы. СПб., 1992. С. 51-54.
[Закрыть]. Вероятнее всего, однако, что на образ скопческого всадника, отсекающего голову змею, оказал особое влияние иконографический тип «Чуда Георгия о змие»[1055] 1055
См.: Алпатов М. В. Образ Георгия-воина в искусстве Византии и древней Руси // ТОДРЛ. М.; Л, 1956. Т. XII. С. 292-310; Лазарев В. Н. Русская средневековая живопись XI—XV веков. Статьи и исследования. М., 1970. С. 55-102; Вилинбахов Г. В., Вилинбахова Т. В. Святой Георгий Победоносец. (Образ святого Георгия Победоносца в России). СПб., 1995.
[Закрыть], получивший широкое распространение в русской иконописи и повлиявший на великокняжескую геральдику Московской Руси, а также на российский герб XVIII—XX вв. «Изображения „Чуда Георгия о змие“, – пишет В. Н. Лазарев, – сделались постепенно излюбленным сюжетом в русском искусстве XIV—XV веков, особенно в искусстве Новгорода и прилегающих к нему областей. Восседающий на белом коне святой воспринимался как воплощение светлого начала, ведущего борьбу с враждебными человеку силами»[1056] 1056
Лазарев В. Н. Русская средневековая живопись... С. 94.
[Закрыть]. Георгий изображается на белом коне на фреске Георгиевского собора в Старой Ладоге (XII в.), житийной иконе из собрания Государственного Русского музея (XIV в.), иконе «Чудо Георгия о змие» конца XV – начала XVI в. из Музея русского искусства в Киеве (здесь, кстати, святой держит не копье, а меч), иконе «Чудо Георгия о змие» конца XIV в. из собрания Государственного Русского музея, деревянных скульптурах из Юрьева-Польского и Софийского собора в Новгороде (обе – XV в.) и т. д.[1057] 1057
Любопытно, кстати, что, в отличие от иконы, духовный стих нередко помещает героя-змееборца не на коня, а на белого осла. Г. П. Федотов, обративший на это внимание, справедливо предполагает здесь отражение представлений о входе Господне в Иерусалим и «шествия на ослята» – специфически русского обряда, «так сказать, оцерковившего евангельское животное» (Федотов Г. П. Стихи духовные. С. 100.).
[Закрыть] Хотя в московской иконописи, начиная с XVI в., «Чудо Георгия о змие» начинает вытесняться старым иконографическим типом Георгия-воина, стоящего с копьем и мечом в руках, это не повлияло на популярность «Чуда»: в крестьянском фольклоре Георгий Победоносец, как правило, изображается в качестве всадника. Для нас немаловажно и то, что при Анне Иоанновне Георгий, поражающий змея, был включен в герб Российского государства[1058] 1058
Лазарев В. Н. Русская средневековая живопись... С. 100.
[Закрыть]. Поскольку скопческая мифология, отождествляя в лице Селиванова небесного и земного властителей, придавала особое значение различного рода имперской атрибутике (так, известно, что среди последователей движения пользовались особой популярностью монеты, отчеканенные в царствование Петра III), вполне вероятно, что российский герб также интерпретировался сектантами в качестве символического изображения оскопления. Начиная с 1710-х гг., образ св. Георгия, побеждающего дракона, становится гербом Москвы[1059] 1059
Вилинбахов Г. В., Вилинбахова Т. В. Святой Георгий Победоносец. С. 28.
[Закрыть].
Вместе с тем, образ конного всадника-скопца не сводится исключительно к инверсии фаллической символики и своеобразному осмыслению образа святого-змееборца. Здесь важно иметь в виду один скопческий текст, неоднократно цитировавшийся отечественными сектоведами и воспевающий «батюшку-искупителя» Кондратия Селиванова:
Уж на той колеснице огненной
Над пророками пророк сударь гремит,
Наш батюшка покатывает.
Утверждает он святой Божий закон.
Под ним белый храбрый конь.
Хорошо его конь убран,
Золотыми подковами подкован.
Уж и этот конь не прост,
У добра коня жемчужный хвост,
А гривушка позолоченная,
Крупным жемчугом унизанная;
Во очах его камень-маргарит,
Изо уст его огонь-пламень горит.
Уж на том ли на храбром на коне
Искупитель наш покатывает[1060] 1060
Рождественский Т. С., Успенский М. И. Песни русских сектантов-мистиков. С. 49 (№ 30).
[Закрыть].
Исследователи, упоминавшие и анализировавшие этот колоритный текст, усматривали в нем самые разные вещи. А. М. Эткинд, например, полагает, что «в этом центральном скопческом гимне легко увидеть барочную конную статую»[1061] 1061
Эткинд А. Русские скопцы: опыт истории. С. 139.
[Закрыть], а И. А. Тульпе характеризует «белого храброго коня» следующим (довольно странным) образом: «Главный источник греха, имеющий для скопцов абсолютно отрицательное значение, представлен в стихе эпически основательно и абсолютно положительно, в небесном, звездном аспекте. ‹...› Белый конь Батюшки – орган, не имеющий телесности, отсутствующий орган – приобретает значение верха»[1062] 1062
Тульпе И. А. Конь в скопческом фольклоре. С. 48.
[Закрыть]. Однако не было замечено самое существенное – непосредственным источником этого стиха является 19-я глава Апокалипсиса: «И видех небо отверсто, и се, конь бел, и седяй на нем верен и истинен, и правосудный и воинственный. Очи же ему (еста) яко пламен огнен, и на главе его венцы мнози: имый имя написано, еже никто же весть, токмо он сам... И нарицается имя его слово божие. И воинства небесная идяху вслед его на конях белых, облечены в виссон бел и чист. И из оуст его изыде оружие остро, да тем избиет языки» (Откр. 19: 11-15)[1063] 1063
В синодальном переводе: «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове его Его много диадим; Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого... И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». Любопытный парафраз этих же стихов встречаем в записке Еленского (см. главу 2): «Камень бел, и на камени имя ново написано, котораго никтоже весть, только приемляй его».
[Закрыть]. Еще более отчетливо эта связь проявляется в другом скопческом стихе, варьирующем тему Страшного суда:
Страшно время, други, будет,
Как господь судьбой засудит,
Земная жизнь други решится,
Судьба божия совершится,
Белый конь у нас явится,
На коне сидит бел-мужествен,
Всем грешным ужасен.
На нем ризы белей снегу,
На нем венец, яко цвету,
Изо уст его оружье
Избивает всякую ложность,
Его имя – свобожденье.
Его верные были слуги,
Ко стопам его идоша,
Все на белых на конях.
На конях товары печати,
За что было бы отвечати[1064] 1064
Волков Н. Секта скопцов. С. 134-135 (№7).
[Закрыть].
Итак, анализ кастрационных метафор и символов скопческой словесности показывает, что мифологизация оскопления сложным образом сочетает и ассоциирует традиционные для крестьянской культуры образы с эсхатологической и апокалиптической топикой. Однако изложенные наблюдения не дают ответа на вопрос о первоначальном происхождении ритуального оскопления. В самом деле: что же все-таки послужило исходным стимулом для этого обычая? Понятно, что практика оскоплений лишь развивала один из пунктов хлыстовской аскетики, с самого начала связанной с эсхатологическим подтекстом. Известно, кроме того, что сектантская община, где зародилась «скопческая ересь», характеризовалась особой сексофобией: нарушители запрета на сексуальные отношения с женами не допускались на радения, они должны были приносить публичное покаяние и подвергались дополнительному инициационному ритуалу. Обрядовое самобичевание, практиковавшееся в этом же «корабле», также воспринималось в контексте борьбы с плотской похотью[1065] 1065
См.: Высоцкий Н. Г. Первый скопческий процесс. М., 1915. С. 32, 37, 218.
[Закрыть]. Однако от всего этого еще довольно далеко до самооскопления. Вероятно, был все-таки какой-то «спусковой крючок», который активизировал культурные и психологические механизмы, приведшие, в конечном счете, к массовым оскоплениям. Л. Энгельштейн, в соответствии со своей идеей об оскоплении – подражании распятию, полагает, что определенную роль в генезисе скопчества сыграло широкое распространение практики телесных наказаний в России XVIII в.: «Распятие Христа превращало жестокость светской казни в божественную драму. Это – старинный христианский мотив. Однако для крестьян екатерининской России кнут, иногда становившийся причиной смерти, был не отдаленным воспоминанием или метафорой, но реальностью, которую многие испытали на своей коже. Эта близость подкрепляла исходную сверхъестественную связь: распятие и порка были формами боли и насилия, исполненными морального и духовного значения. Кастрация была столь же значимым мучением, на сей раз причиняемым самому себе»[1066] 1066
Engelstein L. Castration and the Heavenly Kingdom. P. 22.
[Закрыть]. Кроме того, исследовательница предполагает, что одной из причин распространения скопчества были массовые страхи и эсхатологические ожидания, вызванные эпидемией чумы, разразившейся в 1771—1772 гг. в Москве и Подмосковье[1067] 1067
Там же. P. 21.
[Закрыть]. Что касается первого предположения Энгельштейн, то оно представляется мне неприемлемым по вышеизложенным причинам. Второе более вероятно (ср. выше историю крестьянина, оскопившегося во время холеры 1849 г.), однако страхи, рожденные эпидемией, могли быть лишь дополнительным стимулом, но не исходной причиной распространения скопчества: первые оскопления были совершены до 1771 г., вероятно – еще во второй половине 1760-х гг.
Я хотел бы предложить другую гипотезу, которая на первый взгляд может показаться несколько странной. Вероятно, ее никогда не удастся проверить, но, с моей точки зрения, она вполне релевантна определенным тенденциям простонародной религиозной культуры XVII—XVIII вв. Речь идет о том, что исходным стимулом для появления русского скопчества могло стать распространение картофеля (Solanum tuberosum L.) в качестве огородной культуры.
Среди известных нам русских новеллистических сказок лишь одна использует мотив кастрации в качестве сюжетообразующего. Это сюжет, имеющий международное распространение и зафиксированный указателями AT и СУС под номером 1133 (Как сделать сильным; в AT: Как сделать черта сильным)[1068] 1068
См. также Th K 1012.1 (Как сделать глупца сильным – кастрировать) и K 241 (Соглашение о кастрации). Параллель к этому сюжету составляет AT (СУС) 153 (Выхолащивание медведя), однако в русском фольклоре он не зафиксирован (в СУС учтен лишь один украинский вариант). Русские тексты СУС 1133 см.: Соколовы Б. М. и Ю. М. Сказки и песни Белозерского края. М., 1915. № 36 (С. 57-58); Заветные сказки из собрания Н. Е. Ончукова / Изд. подгот. В. Еремина и В. Жекулина. М., 1996. № 46 (С. 161-162);Афанасьев А. Н. Народные русские сказки не для печати... №23 (С. 65-66), 86 (С. 272-274); Баршевич Д. В., Пономарева В. А. Анекдотические сказки в новых записях (Из фольклорного архива Академической гимназии) // Традиция в фольклоре и в литературе: Статьи, публикации, методические разработки преподавателей и учеников Академической гимназии Санкт-Петербургского государственного университета / Ред.-сост. М. Л. Лурье. СПб., 2000. С. 237-238 (№ 12, 13).
[Закрыть]. Его русские варианты сводятся к следующим обстоятельствам. Мужик отправляется в место, традиционно ассоциирующееся с присутствием тех или иных демонических существ (лес или «полесовая избушка», овин, гумно). Здесь ему встречается черт или леший. При помощи хитрости мужик отрезает ему яйца[1069] 1069
В варианте, записанном Б. М. и Ю. М. Соколовыми – половой член. Обман здесь построен на диалектной игре слов: ряб — и «рябчик», и «половой член». Мужик, к которому приходит черт, варит суп из «ряба своего» и предлагает черту сделать то же самое. В большинстве других вариантов необходимость кастрации мотивируется тем, что только «кладеный» обладает достаточными силами для эффективного выполнения различных действий.
[Закрыть]. Черт решается отомстить, но на следующий день мужик посылает вместо себя бабу, которая показывает черту свои гениталии. Простодушный черт принимает увиденное за следы кастрации и оставляет мужика в покое.
Среди известных мне русских вариантов этого сюжета особняком стоят два текста, записанные экспедицией Академической гимназии СПбГУ соответственно в Торопецком и Андреапольском районах Тверской области (записи 1997 г.)[1070] 1070
Баршевич Д. В., Пономарева В. А. Анекдотические сказки в новых записях... С. 237-238 (№12, 13).
[Закрыть]. В обоих вариантах инициатива кастрации черта принадлежит не мужику, а бабе, причем обман заключается в том, что за отрезанные гениталии выдается печеная картошка:
Рига топилася, а баба пришодсы там картошку пекла у риги. Пришел к ней черт. А она ист картошку, ‹черт› говорит, это: «Баб, ты что делаешь, что чы ишь?» – «Яйцы». – «А где ты взяла?» – «А я, – говорит, – свои отрезала». – «Как ты свои отрезала?» – «А вот так – отрезала и все». А он говорит: «А покажи!» Она развярнулась, он видит: правда, нет у бабы яиц. Говорит: «Отрежь и мне». ‹Баба› говорит: «Давай ножик». Баба у итого ‹у черта› ножик взяла, его чешь! Он ошалел, закричал[1071] 1071
Там же. С. 238 (№ 13).
[Закрыть].
Все это было бы не столь важно, если бы ассоциация картофеля и мужских гениталий в русской народной словесности исчерпывалась упомянутой сказкой. Однако это не так. Хорошо известны старообрядческие поверья, изречения и повести о происхождении картофеля, где последний, так же как и табак, вырастает из гениталий человека или животного[1072] 1072
См.: Перетц В. Н. Легенды о происхождении картофеля // Памяти Леонида Николаевича Майкова. СПб., 1902. С. 89-98; Назаревский А. А. К истории легенды о происхождении картофеля // Русский филологический вестник 1911. Т. 66. С. 15-21; Никифоров А. И. Русские повести, легенды и поверья о картофеле. Казань, 1922; Усачева В. В. Из истории культурных растений: картофель (Solanum tuberosum L.) // Славянские этюды: Сборник к юбилею С. М. Толстой. М., 1999. С. 539-550.
[Закрыть]. Особый интерес в этом контексте представляют собой два сюжета о картофеле, известные в списках конца XVIII и XIX вв. (а также в ряде устных пересказов) и специально исследованные А. И. Никифоровым[1073] 1073
См.: Никифоров А. И. Русские повести, легенды и поверья о картофеле.
[Закрыть]. Согласно первой повести, которая, по всей вероятности, сложилась в результате объединения краткой письменной редакции легенды о табаке[1074] 1074
Обзор устных этимологических рассказов и письменных повестей о происхождении табака см.: Волкова Т. Ф. Повести и легенды о табаке в контексте мифопоэтических представлений о смерти // Смерть как феномен культуры: Межвузовский сборник научных трудов. Сыктывкар, 1994. С. 75-95.
[Закрыть] и рукописных же изречений о картофеле, последний появился следующим образом. Некая царевна «по дияволскому действию совокупилась со псом»; узнав об этом, царь приказывает бросить свою дочь в ров, сверху положить пса и засыпать их землей. Через некоторое время на этом месте находят траву, у которой по корням растут «круглыя яйцы». Выясняется, что трава произрастает «ис тайных оуд костей», а «яйцы» оказываются целебными. Так начинается распространение «поганой картофи».
Завязка второй повести более специфична и не имеет прототипов в сказаниях о табаке. В некоей «стране восточной» собираются шестеро мужей, которые «по диявольскому действу» молятся своим богам в своем капище. Они нарекают сами себя святыми и хотят выбрать, «кому быть из них богом и царем». Выбор падет на того, перед кем загорится свеча во время поклонения идолам. Первым кланяется старший из шести, но свеча загорается только перед вторым. Однако старший не хочет терять своей власти. Согласно одним вариантам, он уходит к другому «капищу», где его начинают «почитати яко же и прежде»; а по другим – просит у шестерых дать ему еще неделю «царствовати над ними». Так или иначе, он продолжает властвовать и учить людей «своему скверному закону». По смерти старшего на его могиле вырастает «трава яко дуб подобием»; докопавшись до ее корней люди видят, «яко от уда и от костей его из афедрона его сквернаго взяся корение и израсте сие мерское зелие». А. И. Никифоров полагает, что во второй повести, наряду с традиционным сказочным мотивом избрания на царство посредством самовозжигающейся свечи, отразились какие-то представления о мифологии и ритуалистике русской христовщины, поскольку речь идет о самозваных святых и об избрании «бога и царя»[1075] 1075
Никифоров А. И. Русские повести, легенды и поверья о картофеле. С. 33-38.
[Закрыть]. Трудно сказать, насколько верно это предположение. С одной стороны, система доказательств Никифорова изобилует натяжками и построена на отчасти ложных сведениях. С другой стороны, нельзя исключать, что такое преломление мотива религиозного самозванства действительно представляет собой отражение каких-то анти-хлыстовских настроений. Отмечу, впрочем, что хлыстовская традиция также знает легенду о происхождении картофеля, хотя и в несколько иной редакции[1076] 1076
Рождественский Т. С., Успенский М. И. Песни русских сектантов-мистиков. С. 743-746 (№ 617).
[Закрыть]. Узнав о том, что «...опять Бог-то на землю скатился // И гостем богатым объявился» (речь, по-видимому, идет об Иване Суслове), сатана решает: «Надо на земле насеять // Чай и кофе, табак и картофель». Эти «злые семена» находятся на телах молодца и девицы, которых Бог спустил в преисподнюю за то, что они сотворили блуд по дороге на радение:
...В первое-де времячко,
Когда сын божий еще
В Иерусалиме ликовался,
И так же собирал к себе
Полки праведных,
Молодцов и девиц, мужчин и бабух,
К нему-де на христову
Апостольску беседушку
Шли молодец с девицей,
Да они-де дорогой-то блуд сотворили,
И их-де за это Бог
Живыми в преисподнюю и спустил,
У них-то-де теперь и растут эти семена-то.
Сатана посылает за семенами «двух самых злющих из дьяволов»:
А они-де целых три дня палились
И в преисподнюю спустились,
И нащли-де тех молодца и девицу,
И нашли у них те злыя семена.
У молодца-то...[1077] 1077
Здесь и ниже купюра публикатора. По всей вероятности, речь идет о гениталиях.
[Закрыть]
Растет табак и картофель,
А у девицы-то...
Чай и кофе.
И они-де ненавистники
Из преисподней те семена вынесли
И на земле-то насеяли
И сатане о том сказали.
Хотя мотив происхождения картофеля из «срамных уд» и вторичен по отношению к легендам о появлении табака, характерна одна деталь: картофель неизменно связывают с мужскими гениталиями. Этому вторят и письменные изречения о картофеле (по всей видимости, предшествовавшие обеим повестям). Картофель называется здесь «бесовским хлебом» и «кобелиными яйцами»[1078] 1078
Никифоров А. И. Русские повести, легенды и поверья о картофеле. С. 73.
[Закрыть]. Та же ассоциация встречается и в устной традиции. Так, в пересказе первого из сюжетов о происхождении картофеля, записанном П. Г. Богатыревым в Шенкурском уезде, «картофь» вырастает «от пса», а табак – «от царевны»[1079] 1079
Богатырев П. Несколько легенд Шенкурского уезда Архангельской губернии // ЖС. 1916. Приложение № 6. С. 075.
[Закрыть]. В южной Карелии запрет включать блюда из картофеля в число поминальных блюд обосновывается тем, что «картошка – грыжа (или половые органы) черта, лешего»[1080] 1080
Лавонен Н. А. Из наблюдений о бытовании поминально-погребального обряда в Южной Карелии // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1993. С. 41.
[Закрыть]. Кроме того, зафиксированы представления о картофеле как о дьявольских яблоках, дублирующих созданные Богом райские яблоки[1081] 1081
Никифоров А. И. Русские повести, легенды и поверья о картофеле. С. 45.
[Закрыть], и даже – как о «яблоках добра и зла»[1082] 1082
Усачева В. В. Из истории культурных растений... С. 549.
[Закрыть] (ср. с вышеприведенным скопческим рассказом о грехопадении).
Показательно, что большинство изречений и повестей трактует появление картофеля в качестве несомненного эсхатологического признака:
Гл(агол)ет бо о нем святыи Симеон Новый Б(о)гослов, яко он приидет антихрист, противник Христу, принесет сласти похотные по их нраву...; в то время будет трава еже от него зовомая картофь, антихристова похоть, а иныя нарицают овъвощем, и распространится по лицу всея земли и всяк возраст возлюбит сласть великую, и помрачатся человецы оумом яко пияны[1083] 1083
Никифоров А. И. Русские повести, легенды и поверья о картофеле. С. 74.
[Закрыть].
Распространение картофеля приведет к неурожаю и всеобщей гибели, а те, кто ел «сие мерзкое зелие», обречены на вечные муки:
Аще в которой стране расплодят людие сие проклятое зелие, то в той стране не будит плода пошеницы и всякаго овощия не будит, и нужда, а потом смерть, а по смерти мука вечная со дияволом в негасимый огнь. ‹...› Аще который человек сие зелие ял, то до самой смерти должен плакать и каяться о том гресе, да прощения приймет от Бога; аще который человек ял, по смерти своей царства небеснаго во веки не наследует, аще за Христа и кровь свою прольет и аще на сковроде огненой... ‹несколько слов утрачено›[1084] 1084
Назаревский А. А. К истории легенды о происхождении картофеля. С. 21.
[Закрыть].
Хотя последовательное внедрение картофеля в качестве сельскохозяйственной культуры и связанные с этим крестьянские бунты относятся к эпохе Николая I[1085] 1085
Об истории распространения картофеля в России см.: А. Я. Картофель. История // Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1895. Т. XIV. С. 629-630; Усачева В. В. Из истории культурных растений... С. 540-542.
[Закрыть], эсхатологические сказания о «земляных яблоках» появились в России гораздо раньше. Никифоров полагал, что упомянутая «первая повесть» (где речь идет о царевне, соблудившей со псом) сложилась в XVIII в. у средневолжских старообрядцев[1086] 1086
Никифоров А. И. Русские повести, легенды и поверья о картофеле. С. 66.
[Закрыть]. Обратим внимание, что первая попытка массового распространения картофеля относится ко времени, непосредственно предшествовавшему появлению скопчества. В 1765 г. был издан ряд сенатских указов о необходимости культивирования картофеля с подробными инструкциями по его разведению и использованию[1087] 1087
ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. XVII. С. 141-148 (№ 12 406), 465-466 (№ 12 527); Подвысоцкий А. О. Водворение и распространение картофеля в Архангельской губернии в 1765—1865 гг. // Русская старина. 1879. Т. 26,. сент. С. 85-87.
[Закрыть]. В том же году семенной картофель был разослан по всем губерниям: местным властям поручалось распространять его среди горожан и крестьян. Известно, например, что в Архангельскую губернию предполагалось отправить 44 пуда (704 кг) семенного картофеля, хотя в конечном счете было послано всего лишь 24[1088] 1088
Подвысоцкий А. О. Водворение и распространение картофеля... С. 87.
[Закрыть]. Вполне возможно, что именно это государственное мероприятие вкупе с упомянутыми поверьями и легендами послужило исходным толчком для цепной реакции эсхатологических ассоциаций, приведшей к появлению русского скопчества. Добавлю, в заключение, что, согласно записанному суздальским архимандритом Парфением рассказу Селиванова, самооскопление последнего произошло при точно таких же обстоятельствах, что и кастрация черта в сказке андреапольской крестьянки. «Мне было явление во сне, – рассказывал скопческий искупитель, – будто бы Господь Саваоф явился и говорит: „ты имеешь грех, и если ты его не отбросишь от себя, то не будешь в царствии небесном“. И показал мне нож большой, который лежал в сарае и был сильно раскален, и сказал: „возьми сей нож и проведи оным по телу своему, начиная от большого пальца правыя ноги до тайного уда; и ежели нож остановится на тайном уде, то отрежь его, и будешь счастлив и спасен“. Когда я проснулся, то пошел в сарай и нашел там нож, показанный мне во сне. Взяв его, пошел в ригу, которая в это время топилась с хлебом для молочения; положил нож в огонь и раскалил его так, как во сне видел; потом, взявши его, провел... по всей ляжке правыя ноги своея до самого тайного уда; и как только до него ножом довел, то в ту же минуту отрезал себе ‹яйца› и бросил их в огонь, которые в моих глазах и сгорели»[1089] 1089
Майнов В. H. Скопческий ересиарх Кондратий Селиванов (Ссылка его в Спасо-Евфимиев монастырь) // Исторический вестник. 1880. № 4. С. 769.
[Закрыть].