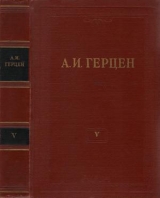
Текст книги "Том 5. Письма из Франции и Италии"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 38 страниц)
Письмо девятое
Париж, 10 июня 1848.
Снова, любезные друзья, настает время воспоминаний о былом, гаданий о будущем, – небо опять покрыто тучами, в душе злоба и негодование… мы обманулись, мы обмануты. Трудно признаваться в этом, будучи тридцати пяти лет.
Пятнадцатого мая сняло с моих глаз повязку, даже места сомнению не осталось – революция побеждена, вслед за нею будет побеждена и республика. Трех полных месяцев не прошло после 24 февраля, «башмаков еще не успели износить»[167]167
Гамлет об своей матери.
[Закрыть], в которых строили баррикады, а уж Франция напрашивается на рабство, свобода ей тягостна. Она опять совершила шаг для себя, для Европы и опять испугалась, увидевши на деле то, что звала на словах, за что готова была проливать кровь.
Я был пятнадцатого мая с утра до ночи на улице, я видел первую колонну народа, пришедшую к Камере, я видел, как ликующая толпа отправилась из Собрания в ратушу, я видел Барбеса в окно Hôtel de Ville, я видел кровожадную готовность Национальной гвардии начать резню и торжественное шествие победоносного Ламартина и победоносного Ледрю-Роллена из ратуши в Собрание. Спасители отечества, из которых один под рукой помогал движению, а другой кокетничал с монархистами, ехали верхами без шляп, провожаемые благословениями буржуазии. Барбес и его товарищи отправились в то же время, осыпаемые проклятиями, в тюрьму. Собрание победило, монархический принцип победил, часов в девять вечера я пришел домой. Горько мне было. Дома я застал одного горячего республиканца, он тогда заведовал мэрией XII округа.
– Республика ранена насмерть, ей остается теперь умереть, – сказал я ему.
– Allons donc![168]168
Полноте! (франц.). – Ред.
[Закрыть] – заметил мой демократ с тем французским легкомыслием, которое в иные минуты бывает возмутительно.
– Ну, так ступайте за вашим ружьем и стройте баррикады.
– Nous n’en sommes pas encore là[169]169
До этого еще не дошло (франц.). – Ред.
[Закрыть], придет время построим и баррикады. Собрание ничего не осмелится сделать.
Мой приятель мог на досуге взвесить истину своих слов, его схватили, когда он шел домой, и отправили в Консьержри[170]170
Где я его и видел в 1851 году.
[Закрыть].
Когда я в Риме читал список членов Временного правления, меня разбирал страх: имя Ламартина не предвещало ничего доброго, Марраст был прежде известен за большого интриганта – потом эти адвокаты, эти неизвестности; один Ледрю-Роллен будто что-то представлял, Луи Блан и Альбер стояли особо, – что было общего между этими людьми? Потом огромность событий заслонила лица. Вдруг они напомнили о себе, одни – тайной изменой, другие – явной слабостью. Отдавая обстоятельствам то, что им принадлежит, мы не покроем однако ими людей, – люди тоже факты и пусть несут ответственность за свои дела, – кто их заставлял выйти на сцену, взяться своими слабыми руками за судьбы мира? Где их призвание, где помазание? Если они и уйдут от железного топора, то не уйти им от топора истории.
С каким восторгом летел я снова в Париж, как было не верить в событие, от которого потряслась вся Европа, – в события, на которые отвечала Вена, Берлин, Милан. Но Франция назначена всякий раз излечивать меня от надежд и заблуждений.
В Марселе я прочел о страшном усмирении руанского восстания, это была первая кровь после 24 февраля, она пророчила дурное…
Пятого мая мы приехали в Париж. Он много изменился с октября месяца. Меньше пышности, меньше щегольской чистоты, богатых экипажей – больше народного движения на улицах; в воздухе носилось что-то резкое и возбужденное, со всех сторон веяло девяностыми годами, чувствовалось, что революция вчера пронеслась по этим улицам. Толпы работников окружали своих ораторов под тенью каштанов в тюльерийском саду, деревья свободы на всех перекрестках, часовые в блузах и пальто, косидьеровские монтаньяры с большими красными отворотами и с сильно республиканскими, театрально воинственными лицами[171]171
Игра в солдаты и страсть рядиться в мундир и придавать себе вид свирепых «трупье» обща всем французам. Ледрю-Роллен, отдавая раз приказание генералу Курте о сборе Национальной гвардии на смотр, прибавлял: «Употребите ваше содействие, чтоб офицеры штаба не скакали беспрерывно во весь опор, взад и вперед по улицам, придавая Парижу вид города, осаждаемого неприятельским войском». < Исправленная опечатка. Было: непрятельским войском». – Ред.> Отчасти все это остатки уродливой империи, сильно исказившей старую Францию и Францию революционную, но отчасти эти наклонности принадлежат самому народу.
[Закрыть], расхаживали по улицам, стены были облеплены политическими афишами, из окон Тюльери выглядывали раненые герои баррикад, в больничных шинелях и с трубкой в зубах, на бульварах и больших улицах толпы мальчиков и девочек продавали с криком и с разными шалостями журналы, прокламации; знаменитый крик: «Demandez la grrr-ande colère du Père Duchêne, – un sou! Il est bigrrr-ement en colère, le père Duchêne, – un sou cinq centimes!»[172]172
«Требуйте стрррашный гнев дядюшки Дюшена, – одно су! Дядюшка Дюшен черрртовски зол, – одно су, пять сантимов!» (франц.). – Ред.
[Закрыть] – раздавался между сотнею новых. Мелкая торговля, отталкиваемая в дальние кварталы и переулки чопорной полицией Дюшателя, рассыпалась по бульварам и Елисейским Полям, придавая им цыганскую пестроту и удвоенную жизнь. При всем этом не было слышно ни о каких беспорядках и середь ночи можно было ходить по всему Парижу с величайшей безопасностью.
Собрание открылось накануне моего приезда, это не было торжественное, полное надежд открытие 89 года. Народ парижский и клубы встретили его с недоверием, правительство презирало его в душе; все оттенки политических партий, не соглашаясь ни в чем, были согласны, что это Собрание ниже обстоятельств; нравственное 15 мая было совершено в совести у всех за десять дней. Горестная судьба Собрания, которое было ненавидимо прежде, нежели успело сказать слово; для того чтоб компрометировать представителей, генерал Курте, кажется, или Косидьер заставил их выйти на перистиль и перед народом провозгласить Республику.
Начальные заседания, ожидаемые с страшным нетерпением, поразили всех своей необычайной бесцветностью; характер Собрания ярко обозначался при этом первом приеме за дело, оно бросилось в подробности, занялось вопросами второстепенными, – адвокатский, прокурорский и доктринерский тон прежних камер остался в Национальном собрании. Положим, что вопросы, которыми Собрание занималось, были дельны, но мало ли на свете дельного, – попавши на эту дорогу, можно работать года два-три, до поту лица и не разрешить ни одного из тех вопросов, которые дают резкий тон, делают переворот и вперед решают тысячу второстепенных вопросов.
Национальное собрание, следуя благородной поговорке «charité bien ordonnée», тотчас вотировало своему президенту право призывать Национальную гвардию не только парижскую, но и из департаментов на защиту Собрания. Оно боялось. Трусость – одна из самых выдающихся сторон его; Собрание чувствовало ложность своего положения, оно видело, что не представляет ни народ, ни революцию, ни даже реакцию, что действительной почвы у него нет; что Париж, народ и роялисты не за него; что за него часть мещан, пресные реакционеры, помешанные на идее внешнего порядка, – и больше никого; что в нем уважают не его, а первый результат всеобщей подачи голосов…
Ламартин явился перед Собранием Временного правительства с отчетом, он вел под руку честного, но выжившего из ума Дюпон-де-Лёра, показывая, что он только подстав преклонного и уважаемого старца. Ламартин говорил своим известным напыщенным слогом; его речи похожи на взбитые сливки: кажется, берешь полную ложку в рот, а выйдет несколько капель молока с сахаром; для меня он несносен на трибуне, французы удивляются ему – стало, он оправдан вполне. Ламартин смирялся перед Собранием, льстил ему, называл его владыкой и самодержцем. Собрание было довольно и предложило вотировать, что Временное правительство заслуживает благодарность отечества; оно терпеть не могло Временного правительства, особенно трех членов его – Ледрю-Роллена, Луи Блана и Альбера, но хотело заплатить за учтивость учтивостью и на почине сказать спасибо правительству за его смиренный вид. Казалось, это пройдет без спора, – вышло не так.
Барбес потребовал речи. Его появление на трибуне сделало сильное впечатление, все ждали с нетерпением, что он скажет; такие люди даром не говорят; Барбес, которого остроумная «Северная пчела» не иначе называет, как «каторжник и убийца», пользуется огромным преимуществом людей, которых твердость и чистота выше всякого подозрения; его убеждения были ненавистны Собранию, его личность, его прошедшее, его известность, его долгие страдания, так героически вынесенные, внушали неловкое, досадное, но непреодолимое уважение. Барбес считал нужным, прежде нежели Собрание покроет своей благодарностью все действия правительства, потребовать у него отчета во многом.
– Я протестую, – говорил он, – против ряда действий, вследствие которых оно лишилось народности. Вы помните руанские – убийства?..
При слове убийства неистовый крик «à l’ordre!»[173]173
«к порядку!» (франц.). – Ред.
[Закрыть] перебил оратора, дальше мещане не могли слушать, кровь убитых ими или их товарищами подымалась им в голову не как угрызение совести, а как ободрение продолжать если не делом, то симпатией, то оправданием. Оратор выждал окончание бури и продолжал, спокойно и гордо глядя на парламентскую чернь:
– Я говорю об убийствах, сделанных Национальной гвардией в Руане.
Снова шум.
– Я напомню вам колонны поляков, белгов, немцев, преданных на истребление. Когда эти вопросы уяснятся, будем благодарить правительство, но не прежде; до тех пор я протестую против этой благодарности во имя народа.
В последних словах лежало много смыслу для тех, кто знали авторитет Барбеса на клубы и на весь революционный Париж; но увлеченное Собрание хотело однако наказать смелого республиканца, оно вотировало тотчас и почти единогласно благодарность децемвирам.
Барбес оставался с десятком своих друзей против всего Собрания; грустно и задумчиво качая головой, сел он на свое место и замолчал до 15 мая[174]174
Барбесу отвечал Сенар; защищая руанскую бойню, он этой речью рекомендовался Парижу и остался верен своим убеждениям.
[Закрыть]. Отблагодаривши Временное правительство, Собрание назначило исполнительную комиссию из пяти человек; комиссия составила министерство из журнальных поденщиков «Насионаля», прибавив к ним знаменитого стенографа Флокона как образчик «Реформы». Луи Блан и Альбер были отстранены от правительства, слово «социализм» делалось уже клеймом, которым обозначали людей, отверженных мещанским обществом и преданных на все полицейские преследования. Собрание не хотело слушать о министерстве работ. Члены исполнительной комиссии потеряли всякое доверие искренних республиканцев выбором министров, на них смотрели как на ренегатов или как на орудие интриг Марраста, который, сидя у себя в мэрии, передергивал людей и подсовывал своих корректоров и батырщиков.
Четвертого мая открылось Собрание, десятого оно было ненавидимо всем Парижем, исключая партии «Насионаля» и тупорожденных либералов. Демократические клубы вотировали поздравления Луи Блану и Альберу. Самые случайности делали несчастное Собрание еще более нелюбимым и смешным; так, например, упорное отвращение Беранже от звания представителя, его вольтеровские письма об этом, его мольбы пощадить его седины унизили Собрание всею славою любимого народного поэта. После десятого мая все ожидали чего-то, всем казалось невозможным, чтоб эта торговая баня, чтоб этот толкучий рынок мог стоять во главе Франции и Парижа. Журналы были полны укора, в кафе, на улицах все говорили с жаром против Собрания, на площадях и углах улиц собирались всякий день группы, в клубах делались (как говорят роялисты) зажигательные предложения, произносились судорожные речи. Так подошло пятнадцатое мая.
Пятнадцатое мая было великим протестом Парижа против устарелого притязания законодательных собраний на самодержавие, за которым всегда и везде пряталась монархия, реакция и весь дряхлый общественный порядок. Чего не осмелился сделать Робеспьер 8 термидора, перед чем он, передовой человек революции 93 года, остановился и лучше хотел снести голову на плаху, и снес ее, нежели решился спастись противно своим началам, в силу которых самодержавие принадлежало одному Конвенту, – то сделал парижский народ 15 мая.
Вот отчего консерваторы и либералы на старый лад опрокинулись с такой яростью на Барбеса, Бланки, Собрие, Распаля; вот отчего в этот день Собрание и исполнительная комиссия, ненавидевшие друг друга, бросились друг другу в объятия. Роялисты схватились за оружие для того, чтоб спасти Республику и Национальное собрание. Спасая Собрание, они спасали монархическое начало, спасали безответную власть, спасали конституционный порядок дел, злоупотребление капитала, а наконец и претендентов. По ту сторону виднелась не ламартиновская республика, а республика Бланки, т. е. республика не на словах, а на самом деле; по ту сторону представлялась революционная диктатура как переходное состояние от монархии к республике; suffrage universel[175]175
всеобщее избирательное право (франц.). – Ред.
[Закрыть], не нелепо и бедно приложенный к одному избранию деспотического Собрания, а ко всей администрации; освобождение человека, коммуны, департамента от подчинения сильному правительству, убеждающему пулями и цепями. Собрание, опертое на Национальную гвардию, победило, но нравственно оно было побеждено 15 мая, оно держится, как все отжившие учреждения, единственно силою штыков и не дошло даже до того, чтоб журналисты говорили об нем без явного презрения.
Для того чтоб сделать понятным пятнадцатое мая и странное положение республики, которая пятится назад с половины апреля, т. е. через семь недель после революции, необходимо бросить взгляд на предшествовавшие обстоятельства, которые потрясли всю Европу. Революция 24 февраля вовсе не была исполнением приготовленного плана; она была гениальным вдохновением парижского народа, она, как Паллада, вышла разом, вооруженная и грозная, из народного негодования; это удар грома, внезапно осуществивший давно скопившиеся, но далеко не зрелые стремления. Февраля двадцать третьего ни Людвиг-Филипп, ни Гизо, ни министры, ни «Реформа», ни «Насиональ», ни оппозиция, ни даже люди, построившие первые баррикады, не предвидели, чем окончится 24 февраля. Хотели реформы – сделали революцию, хотели прогнать Гизо – прогнали Людовика-Филиппа, хотели провозгласить право банкетов – провозгласили республику; утром мечтали о министерстве Тьера или Одилона Барро, вечером Одилон Барро больше отстал, нежели Гизо. Как же это случилось? «De l’audace[176]176
Смелость (франц.). – Ред.
[Закрыть], – говорил С.-Жюст, – да, дерзкая смелость, отвага – тайна переворотов, особенно парижских». Горсть людей, принадлежавших к тайным обществам, мужественно дравшаяся на баррикадах, опираясь на благородные инстинкты парижских работников, провозгласила республику и дала такой толчок всей Европе, что теперь еще нельзя предвидеть, чем кончится это повсюдное брожение. Разумеется, республиканская партия существовала, она, обманутая 30 июля, пережила бойню в Cloître St.-Merry, резню в улице Транснонен, потерю всех своих корифеев, от Барбеса и Бланки до Алибо, – записывая в свою печальную хронику одни удары, несчастия, открытые гонения и судебные приговоры. Она имела мало надежд. Арман Карель качал головой во время битвы, Годфруа Каваньяк говорил перед смертью с мрачным отчаянием: «Это правительство износит нас всех, мы состаримся в бесплодной и неровной борьбе!»
С 1840 года действительно прекращается открытая борьба. До 1840 года у правительства был еще стыд, или если не стыд, то осторожность, оно боялось прибегать ко всем средствам, оно не было совершенно уверено в полном, безграничном сочувствии буржуазии. Оно убедилось наконец, что маска не нужна; действующая часть народа, т. е. та часть, которая имела гражданские права, была достаточно развращена, чтоб действовать заодно с правительством. Выборы – с малыми изъятиями – были в руках министров, подкупы делались открыто, половина Камеры состояла из чиновников, остальная часть была втянута в разные финансовые операции, для успеха которых надобно было не распадаться с правительством. Достаточная буржуазия давала свои голоса правительству, правительство давало ей свои штыки на защиту всех злоупотреблений капитала. У них был один общий враг – пролетарий, работник, – они соединились против него, при этом союзе были пожертвованы республиканцы и национальная гордость. Понижение электорального ценса после 1830 года заставило всплыть страшную дрянь в Камеру. Понижение ценса остановилось на границе народа и буржуазии, оно не ввело в Камеру элемента чисто народного, а подняло в нее всю чернь среднего сословия. Гизо понял круговую поруку буржуазии с правительством, он понял, что она гораздо больше боится народа, нежели власти; вооруженный Тьеровыми сентябрьскими законами, он пошел прямее к цели. Методический, холодный, притеснительный по характеру и властолюбивый донельзя, Гизо посвятил себя на уничтожение доли приобретенного Францией с 89 года; Гизо, кальвинистский поп, трезвый, желчевой, бесчувственный фанатик, сказал с высоты трибуны задавленному трудом и нуждой работнику: «Работа вам необходима, это единственная узда, на которой вас можно держать».
Семь лет постоянных удач развили более уверенности в Гизо, нежели в самом короле, они забылись. Умей Гизо остановиться во-время, он сделал бы гораздо больше вреда, он отдалил бы 24 февраля, он успел бы еще больше приучить к подкупам, к симонии всех родов, еще глубже растлить все нравственное в общественном мнении, но он слишком рано принял тон победителя, он не хотел даже хранить благопристойного вида, увлекаясь желчевым характером и мелкими личностями. Часть буржуазии испугалась, видя петербургские замашки министров. Министерство не боялось партии умеренного прогресса; надобно было видеть своими глазами презрительный тон Гизо, его вид, его отрывистую речь, когда, вынужденный реформистами взойти на трибуну, он противупоставлял свою талантливую дерзость – бездарной горячности Одилона Барро.
Другого рода протестация порядку вещей слышалась иногда как будто из-под земли… какой-то тяжелый стон раздавался по временам, не в Камере, не в «Насионале», не в «Реформе», а в мастерской, у изголовья умирающих от нужды, а иногда в ассизах, – «Gazette des tribunaux» записывала его, не понимая, что делает. На лавке подсудимых часто слышались страшные признания и страшные обвинения безобразному общественному устройству от людей, которые, отправляясь на галеры, в тюрьмы, бросали мрачные слова на прощанье; но кто же их слушал?..
Таково шли дела перед революцией, так застал я их, приехавши в Париж в марте месяце 1847 года.
Не могу вам выразить тяжелого, болезненного чувства, которое овладело мною, когда я несколько присмотрелся к миру, окружавшему меня. Мы привыкли с словом «Париж» сопрягать воспоминания великих событий, великих масс, великих людей 1789 и 1793 года; воспоминания колоссальной борьбы за мысль, за права, за человеческое достоинство, – борьбы, продолжавшейся после площади то на поле битвы, то в парламентском прении. Имя Парижа тесно соединено со всеми лучшими упованиями современного человека, я в него въехал с трепетом сердца, с робостью, как некогда въезжали в Иерусалим, в Рим. И что же я нашел – Париж, описанный в ямбах Барбье, в романе Сю, и только. Я был удивлен, огорчен, я был испуган, потому что за тем ничего не оставалось, как сесть в Гавре на корабль и плыть в Нью-Йорк, в Техас. Невидимый Париж тайных обществ, работников, мучеников идеи и мучеников жизни – задвинутый пышными декорациями искусственного покоя и богатства – не существовал для иностранца. Видимый Париж представлял край нравственного растления, душевной устали, пустоты, мелкости; в обществе царило совершенное безучастие ко всему выходящему из маленького круга пошлых ежедневных вопросов.
У французов среднего состояния мы встречаем, кроме исключений, какое-то образованное невежество, вид образования при совершенном отсутствии его; этот вид обманывает сначала; но вскоре начинаешь разглядывать невероятную узкость понятий, их ум так неприхотлив и так скоро удовлетворяем, что французу достаточно десятка два мыслей, сентенции Вольтера или Шатобриана, Ламартина или Тьера или того и другого вместе, чтоб довольствоваться ими и покойно учредить нравственный быт свой лет на сорок; к этому у него прибавляются практические нравоучения, взятые из подслащенной морали à la Жанлис, кой-какие предания, которые он уважает не рассуждая, и кодекс, которого он боится.
У французов нет потребности идти далее, идти вглубь, никакой смелости мысли, никакой истинной инициативы; они достигают большой ловкости навыком, они рутинисты по преимуществу; все эти roués из roués Тьеры, Маррасты ничего не понимают в социальном вопросе. Они умны и ловки в своем известном круге, за пределами его – они пошлы и глупы. Посмотрите их возражения – смешно читать; они знают, что социализм враждебная им партия, что ее надобно уничтожить, мастерски подведут guet-apens[177]177
западню (франц.). – Ред.
[Закрыть], но не поймут, в чем дело. Одна господствующая страсть поглощала все мысли и досуги среднего состояния – стяжание, нажива, ажиотаж; эта страсть, вместе с национальной скупостью французов, вытравливает в их сердце не только любовь к ближнему, к истине, но уважение к себе. Издание журнала, выбор депутата, голос в Камере – все это было торговым оборотом, едва прикрытым условными фразами. Сила банкиров во всех общественных делах была чрезвычайная; министерство боялось больше всех зол распадения с капиталистами.
Англичанин тоже расчетлив, он купец, для него приобретение выгоды составляет цель оборота, он в него вносит всю светлость своего практического ума, это его дело, его занятие; но, закрывая бухгалтерскую книгу, он делается в свою очередь потребителем, охотно бросает свои гинеи, хочет пожить на свой лад, он имеет свои капризы, которые не подчиняет деньгам. Француз, увлеченный в денежные дела, делается лишенным всех страстей и желаний, он ни в каком случае не забудет финансовой стороны вопроса, он вперед подкуплен опасением денежной утраты. Может быть, это свидетельствует, что французам не свойственна исключительно коммерческая деятельность, они в ней словно теряют такт и меру, потому что это не их дело; может, оно и пройдет как временное зло, как уродливое и последнее проявление буржуазии, может… но таким я застал среднее состояние в Париже. Прибавьте к страсти стяжания страсть власти, жажду мест, которою заражены все политические люди, к какой бы партии они бы ни принадлежали. Мы видели в последнее время, с какою яростью редакторы «Насионаля» и «Реформы» бросились на места и как важно подняли они потом свой демократический нос, замаранный голландской сажей. При таком нравственном падении буржуазии, при невежестве крестьян, при подозрительной чистоте оппозиции и либеральной партии, при страшных средствах административной централизации министры Людовика-Филиппа могли смело поступать как хотели, храня наружный вид законности. Но последнее опять не в духе французов, я это вменяю им в достоинство. Француз не может остановиться на фарисейском толковании буквы, как англичанин, не может довольствоваться существенной выгодой победы, он хочет еще внешнего торжества, унижения противника.
Противник, с своей стороны, точно также, перенес бы поражение, но восстает против оскорбления. Сверх дерзкого тона, министры впали в вечную ошибку всех консерваторов: они не умели оценить своего врага, они не знали этой несокрушимой упорности небольшой кучки республиканцев, готовых, выходя из тюрьмы, в тот же день продолжать заговор и начинать новую попытку, – эти исключительные явления во французской жизни приводят в удивление своей твердостью, своим героическим постоянством. К тому же люди правительства слишком презирали работников после Лиона, Cloître St.-Merry и Трансноненской улицы, они были уверены, что армия и Национальная гвардия задавят их, – и ошиблись. Людовик-Филипп недаром толковал, качая головой, о Париже et ses aimables faubourgs[178]178
и его милых пригородах (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Старый король видел les sections[179]179
секции (франц.). – Ред.
[Закрыть] первой революции, он сам стоял дежурным при входе в якобинское Собрание; а Гизо начал собственно знать французов после взятия Парижа союзными войсками. Сверх всего, не надобно забывать, что семнадцатилетняя проповедь самого грубого эгоизма и самого нечистого поклонения материальным выгодам и спокойствию – не могла образовать особенно преданных и самоотверженных защитников июльскому трону… В октябре 47 г. я уехал в Италию, оставив Париж в самом мрачном состоянии, надежды на 24 февраля никакой не было. Воровство, продажа пэрства и крестов, подкупы министров, убийства в герцогских комнатах, крапленые карты в Tюльери, кража лесов королем, министр юстиции, пойманный в публичном доме, сын короля (Монпансье), выброшенный из дому почтенным генералом за неприличное поведение, – вот чем были полны журналы и разговоры. Депутаты отвечали на обвинительные документы – вотируя спасибо министрам, уличенным в плутнях.
Вы помните ряд событий, который привел к 23 и 24 февраля, – я намерен только слегка их коснуться, время истории этого переворота еще не настало, мы еще мало знаем его закулисную сторону, а его официальную сторону мы еще помним из газет и брошюр.
Вы знаете, в какое положение Гизо поставил Францию к концу 1847 года. Все влияние на Европу было утрачено из-за мелких династических интересов; все симпатии народа были пожертвованы для того, чтоб простили испанские браки и революционное начало июльского трона. Франция не могла держаться даже на той высоте, на которой была за десять лет, она делалась второстепенным государством. Правительства перестали ее бояться, народы начинали ненавидеть. Узкая, эгоистическая, мещанская политика, ставившая мир выше всего и невозможную теорию de la non-intervention[180]180
невмешательства (франц.). – Ред.
[Закрыть] ключом свода, не мешали Гизо запятнать Францию явным вмешательством в дела Португалии и тайным в дела Швейцарии. В обоих случаях Франция играла ту самую роль, которую Реставрация – столько проклинаемая – принимала на себя в 1822 относительно Испании, – роль военной экзекуции, полицейского усмирения. Португалия была задавлена из учтивости к королеве Виктории – Пальмерстоном и из учтивости к Пальмерстону – Францией. В Люцерне выставили на площади пушки французской артиллерии, потихоньку присланные Зондербунду.
Для довершения благородной политики недоставало одного – союза с Австрией против Италии. Действительно, все симпатии кабинета были в пользу statu quo. Гизо беспрерывно унимал Пия IX, даже Карла-Альберта, меры которого он находил слишком либеральными. Французский посланник в Турине протестовал против дозволения печатать в Генуе песни, в которых говорят оскорбительно об австрийцах. Союз с Россией – было одно из пламенных желаний Гизо. Бакунина выслали из Парижа по требованию русского посланника, князю Чарторижскому не позволили праздновать своих именин.
При всем этом нельзя было не заметить характер мещанина в дворянстве, который принимало правительство, вышедшее из баррикад, и министр из профессоров. Аристократические симпатии английского министерства-тори естественны и потому просты. Поспешность, с которой Гизо протягивал руку всему аристократическому, старание прикрыть революционное происхождение трона 1830, отречься даже от 1789 года и выдать себя за страшного тори, за страстного консерватора – было очень смешно. Французскому министерству, как всем parvenus[181]181
выскочкам (франц.). – Ред.
[Закрыть], при всех стараниях не удавалось стать на одну ногу с аристократически-монархическою Европой. Россия имела поверенного в делах, которому в конце 1847 дала название посланника… Зато с какой радостью, с какой благодарностью Гизо протянул руку Меттерниху – когда тот ему дозволил это. Мишле был прав, говоря, что глубже пасть невозможно.
Камера 47–48 собралась. Большинство оказалось еще плотнее за министерство, нежели в прежней. Гизо вместо ответа указывал оппозиции рукою на свою когорту. Парламентскими путями трудно было сломить министерство. Появление Ламартина на трибуне было событием; долгое время он держал себя в стороне, его «Жирондисты» были новым знаком жизни, вслед зa тем речь в Маконе, глаза многих обратились на него, его считали чистым человеком, потому что он ничего не делал. Речь его потрясла министерство, наравне с другою речью, – хотя второго оратора, совсем наоборот, никто не уважал. Тьер произнес нечто вроде смертного приговора политике Гизо. Дерзкий Гизо сломился под тяжестью этих речей. Забывая свою материальную силу большинства, лично уязвленный, он сделал опыт победить своим талантом – ему это удавалось, – но ответ его был неловок, бледен. Униженный как дипломат и политик, оскорбленный как оратор, гибнущий от ударов сладкоглаголивого стихотворца и политического афериста, он спасся бы еще какой-нибудь парламентской шуткой, но ему пришлось выпить до конца унижение и горечь, он должен был еще потерять в это заседание последний венок, который так шел к его квакерскому челу, – венок бескорыстия. Многие, не любя Гизо, считали его человеком правдивым, но увлекшимся доктринаризмом, системой – маленьким Стаффордом, и не смешивали его с людьми вроде Дюшателя и Эбера. И что же? Ограниченнейший из смертных, Одилон Барро, сорвал с него этот венок, доказавши, что Гизо семь лет не только терпел продажу мест, но брал отеческое участие в распоряжениях, условиях…
Закон, уничтожающий право собираться на общественные банкеты, был вотирован. Торжество большинства, впрочем, было не весело, трусливое и купленное стадо депутатов начинало подозревать, что это даром не пройдет, оно готово было оставить министерство на том условии, чтоб оппозиция оставила банкет. Такое примирение было невозможно, скорее coup d’Etat[182]182
государственный переворот (франц.). – Ред.
[Закрыть].
– Если б и у нас, – сказал… – и кто же? – Кобден после 24 февраля, – в парламенте, нашлось министерство настолько глупое или преступное, чтоб осмелилось предложить закон против мирного собрания граждан, и мы бы взялись за оружие.
Ропот сделался всеобщ. Министерство соглашалось было дозволить банкет, но уже Одилон Барро думал об отступлении, Тьер решался не идти на него… Видя эту слабость, полиция заперла залу, в которой приготовлялся банкет, Делессер объявлял городу нелепым циркуляром о причинах; министерство сзывало войска и готовилось. Мера эта действительно возмутила Париж, волнение распространилось по всему городу. Правительство, не совсем уверенное в Национальной гвардии, не било сбора, одни муниципалы свирепствовали, как всегда, на улицах; войска собиравшиеся были печальны. Национальная гвардия, созванная наконец, собиралась с криком «да здравствует реформа, долой министерство!» Король решился уступить. Перемена министров успокоила было народ, но люди, видевшие далее, не хотели потерять такой случай, они поняли, что не скоро опять взволнуешь весь Париж и что не скоро найдешь такой повод к восстанию, в котором Национальная гвардия стояла бы заодно с народом. Они устроили знаменитую прогулку по бульварам, которая окончилась залпом у Hôtel des Capucines и баррикадами во всем Париже 24 февраля.
Утром 24 февраля немудрено было понять, что правительство не устоит; напрасно Тьер уступил место Одилону Барро, напрасно Одилон Барро в синих очках верхом ездил на баррикады и сам поздравлял народ с назначением такого славного министерства. Реформы было недостаточно и на баррикадах там-сям поговаривали о республике.








