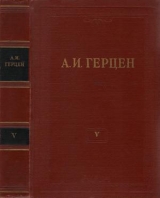
Текст книги "Том 5. Письма из Франции и Италии"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
Письмо двенадцатое
Ницца, 10 июля 1850 г.
Наконец я опять в Ницце, – в Ницце теплой, благоуханной, тихой и теперь совершенно пустой. Два года с половиной тому назад я едва обратил внимание на нее. Тогда я еще искал людей, большие центры движения, деятельности, многое было мне ново, многое занимало. Полный негодования, я еще примирялся; полный сомнений, я находил еще надежды в моей груди и торопился оставить маленький городок, едва бросив рассеянный взгляд на его красивые окрестности. Торжественный гул итальянского пробуждения пробегал тогда по всему полуострову – я рвался в Рим.
Это было в конце 1847 г. …а теперь я прихожу в Ниццу с потупленной головой «голубя-путешественника», прося одного покоя в ее безмятежной пустоте, удаляясь от трескучей деятельности больших городов, так же ни к чему не ведущей на Западе, как беспечная праздность на Востоке.
Долго думая, куда укрыться, где найти отдых, я избрал Ниццу не только за ее кроткий воздух, за ее море – а за то, что она не имеет никакого значения – ни политического, ни ученого, ни даже художественного. Мне менее не хотелось ехать в Ниццу, нежели всюду, и я доволен ею. Это мирная обитель, в которую я отхожу от мира сего, пока мы не нужны друг другу. Счастливый ему путь. Он довольно меня мучил, я не сержусь на него, он не виноват, но не имею больше ни сил, ни охоты делить его свирепые игры, его пошлый отдых.
Это вовсе не значит, что я совсем посхимился, дал обет, заклятие, – я вышел из тех лет, да и род человеческий вышел из них, когда такие шутки были в ходу, я не считаю себя в праве кабалить мое будущее… Нет, я поступил гораздо проще, я отошел в сторону от непогоды и долгого ненастья, не видя средств остановить его.
И было от чего уйти в лес, без распоряжений Бароша и Карлье. Когда я подумаю, что за жизнь влачил я в Париже в последнее время, мной овладевает тоскливое беспокойство и страх. Я вспоминаю об ней, как об недавней хирургической операции, и мне кажется, что снова чувствую приближение кривых ножниц и зонда к наболевшему месту. С утра до ночи все стороны души были оскорбляемы, грубо, нагло, дерзко. Один взгляд на журналы и прения в Собрании отравляли целый день.
Нет, это не роялизм и не консерватизм довел этих людей до такого растления всякого нравственного чувства, всякого человеческого достоинства. Совсем напротив, эти люди довели роялизм и консерватизм до такого бесстыдного цинизма. Роялизм – своего рода общественная религия, он не исключает ни доблести, ни благородства; его вина в ограниченности и несовременности; консерватизм – политическая теория, старческий образ мыслей, но далеко не лишенный чувства стыда, чести. Ни Стаффорд, ни Малерб, ни английские тори нисколько не были похожи на нынешних орлеанистов и елисейцев. Депутаты, литераторы, журналисты «великой партии порядка» так перемешались с грязными орудиями власти, которых нельзя уже оскорбить не только словом, но и рукой, что не знаешь ни разу, имеешь ли дело с человеком или с шпионом.
Большинство Камеры и консервативные журналы – верные органы не роялизма, а того поколения французов, которое, родившись под казарменным гнетом Империи, вполне расцвело под зонтиком короля-гражданина. Оно не верит в христианство, оно не верит в королевскую власть, но оно знает опасность свободы, но оно хочет наслаждаться – хоть одно десятилетие еще. И вот отчего журналисты порядка представляют доносчиков ангелами, хранящими порядок и спасающими общество. И вот отчего один из опричников порядка наивно защищался в своей брошюре тем, что он ходил на революционеров, как на охоту, и брал хитростью, где нельзя было взять силой; а рецензент, воспевший его, уговаривает схватить вилы и серпы и избивать социалистов по домам и полям. В то же время орган более порядочный, «Journal des Débats», умиляется пред самоотверженной службой доблестного корпуса жандармов, a «Assemblée Nationale» называет императора Николая – Агамемноном и страстно зовет его идти на Европу.
Защитники порядка с какой-то болезненной горячностью напрашиваются на самый грубый деспотизм, лишь бы власть обеспечила неприкосновенность стяжания. Они из-за этого протянули руку всем правительствам, ненавидящим Францию; они из-за этого отдали детей своих на воспитание иезуитам, которых сами терпеть не могут; они из-за этого дошли до того героизма подлости, что хвастаются публично доносами – так, как их публичные сестры хвастаются своим развратом.
Образованность не обязывает французских консерваторов ни к чему; с этой стороны они совершенно свободны; при своих риторических, учтиво стереотипных и чувствительно моральных фразах они свирепы, безжалостны и безраскаянны. Французы вообще любят теснить. Вы знаете, как они в прошлом веке «освобождали» Италию и какую ненависть возбудили в Испании, – но это ничего перед тем, каковы они дома в междоусобии; тут они делаются кровожадными зверями, мясниками Варфоломеевской ночи, сентябрьских дней, июньскими застрельщиками.
Я с ужасом, смешанным с любопытством, с тем любопытством, с которым мы смотрим, как кормят гиену или как boa constrictor[214]214
удав (лат.). – Ред.
[Закрыть] глотает живых кроликов, следил за прениями о депортации.
Не думайте, что я хочу говорить о нелепости осуждать людей на вечную тюрьму за поступки, сделанные через несколько дней после переворота, когда умы еще волнуются, а учреждения не установились, – нет. Я знаю, как враги судят и осуждают своих врагов, – чего тут ожидать лучшего? Но колоссально то, что Собрание, состоящее из семисот человек, возвращается через два года в казематы, в которых гибнут их противники, для того, чтоб удесятерить наказание.
Прежде всего надобно знать, что такое французские тюрьмы. Одно позволение видаться с другими арестантами и вместе гулять делает их сноснее Шпильберга, Шпандау или Бобруйска. В центральной тюрьме Клерво люди мерли с голоду, в Мон-Сен-Мишеле, в Дулансе, в Бель-Иле бросают за вздорные провинности заключенных с связанными руками в конуру без окон; знаменитый Бланки был однажды избит в тюрьме. Шильонская темница, построенная савойскими герцогами в средних веках, покажется танцевальной залой перед château d’If[215]215
замком Иф (франц.). – Ред.
[Закрыть] возле Марселя, где содержались июньские инсургенты. Но если французские тюрьмы стоят Шпильберга, то Нука-Ива далеко превосходит Сибирь. В Сибири климат свирепый – но не убийственный, ссылаемые на поселение (на депортацию), а не на каторжную работу не принуждены к поурочному труду, как в французских пенитенциарных колониях в Алжире.
Но министрам и представителям было мало Нука-Ивы, они выдумали на этом болотистом острове, обожженном тропическим солнцем, покрытом тучами москитов, построить экваториальную Бастилию. И это не все, они хотели подвести всех прежде осужденных под этот закон, вопреки здравому смыслу и начальным понятиям уголовного права.
Когда остаток совести Одилона Барро восстал против этой неслыханной нелепости, когда раскаяние за июньскую кровь вызвало Ламорисьера на трибуну, чтоб предложить укрепленное место вместо тюрьмы, тогда надобно было видеть этих ирокезов порядка, этих каннибалов религии, этих шакалов добродетели и семейной жизни. Звериные звуки злобы вырывались из груди этих бесчувственных стариков, этих бездушных адвокатов – во время собирания голосов. Потерявши два пункта, они с бешенством схватились за третий – и отстояли его. Семьи не имеют права идти в депортацию, осужденный должен просить как милости об этом; министр имеет право отказать. «У политических преступников, у врагов общества – нет семьи», – сказал один из ораторов.
Как язык человеческий нашел столько силы, чтоб всенародно сказать это, как бесстыдство могло воспитаться до этой поэзии бездушия в стране, где последовательно в полстолетия все партии перебывали в тюрьме, – это тайна французского воспитания…
И все это делается для защиты общества, религии, семьи.
Хорошо должно быть общество, защищаемое такими средствами. Общество, защищаемое Тьером; религия, защищаемая – Тьером; семейство, защищаемое – Тьером!
Thierus salvator mundi, redemptor usuriae et defensor proprietatis – ora pro nobis![216]216
Тьер, спаситель мира, искупитель ростовщичества и защитник собственности, молись за нас! (лат.). – Ред.
[Закрыть]
Бедный Иисус Христос, до чего тебе пришлось дожить – Тьер стал твоим однокорытником!
А впрочем, Тьер – полнейший представитель современного большинства, дерзкого на вид и смиренного на деле, которое, остря и помирая со смеху, ссылает на поселение, сажает на цепь, которое имеет одного бога – капитал и не имеет богов разве его. Кто лучше может представлять французскую партию порядка, как не Тьер – остряк, седой gamin, шалун, болтун, либерал, облитый лионской кровью, вольнодум, продиктовавший сентябрьские законы? Самая наружность Тьера, малорослого старичишки, с кругленьким брюшком, на тоненьких ножках, с видом плута-дворецкого, Фигаро, типически выражает буржуазную Францию.
Скорее отлейте его статую – статую в очках и в полуфраке – и поставьте ее на июльскую колонну, пусть она переглядывается с своим императором на Вандомской колонне. Наполеон и Тьер – героическая эпоха восходящего мещанства и эпоха ее тучного преуспеяния!
…«Все это печально, дурно, – говорили мне демократы, страдающие хронической надеждой и застарелым оптимизмом, – но не надобно временную остановку принимать за более важное, нежели она есть. Наша победа близка, безумцы хотят коснуться до всеобщей подачи голосов… за свой голос народ встанет, как один человек».
Отняли всеобщую подачу голосов – ни один человек не двинулся, народ остался в том «торжественном и величавом покое», о котором ему так натолковали и в котором остается человек, когда его ограбят, довольный, что не изуродовали. Странная борьба, всякий раз один и тот же побит, и мы знаем о его существовании только потому, что он кричит от боли; это не борьба, а победа. Но чающие воскресения мертвых демократы не унывают. «Это-то и прекрасно, – говорят они, – теперь-то правительство и сломит себе шею». Разумеется, правительство когда-нибудь упадет, все имеет конец, особенно во Франции… Да вы-то во всем этом что? Народ не за правительство, – зачем клепать на него, – да и не за вас.
Народ не с вами, потому что в вашей свободе он не находит своей, потому что ваша борьба – борьба двух правительственных форм – не его борьба… Вы воображаете, что приобрели дело, когда произнесли слово, а народу дела нет до слов; народ не с вами, наконец, потому, что вы должны быть с ним. Вы должны изучить его стремления, его желания, а не он давать свою кровь на ваши теоретические попытки, на ваш курс экспериментальной революции. Вы видите, что прежней дорогой идти нельзя… Если же вы не хотите новых путей, если же не можете переродиться, то сознайтесь откровенно, что вы – прошедшее, и доживайте спокойно ваш век как историческая редкость, как образчик иного времени, не усиливаясь ходить и мутить мир после смерти, как легитимисты, иезуиты, пиетисты.
Они называли это озлоблением, отчаянием, они находили доблестным выдерживать свою роль и пытаться ставить на своем, хотя явным образом не было места, где ставить…
…Трудно издали вообразить себе, что делается в Париже. Никаких гарантий, этих бедных, небольших гарантий, данных притеснительным code civil[217]217
гражданским кодексом (франц.). – Ред.
[Закрыть], не существует более. Террор, сальный, скрывающийся за углом, подслушивающий за дверью, тяготит каким-то чадным туманом надо всем. Всякий мерзавец, который донесет на вас какую-нибудь политическую небылицу, может быть уверен, что на другой день полицейский комисcap с двумя шпионами явится к вам осматривать бумаги. Семейные тайны, дружеские сообщения – все перерыто рукою лакеев светской инквизиции, половина унесена и никогда не возвратится к вам. Люди, имеющие или имевшие политическое значение, не спят дома, прячут бумаги, запасаются визированными пассами. Все боятся дворников, комиссионеров, трех четвертей знакомых; письма приходят подпечатанные, на углах улиц постоянно бродят подозрительные фигуры в сюртуках не по мерке, в потертых шляпах, с подло военным видом и с палкой в руке. Они провожают глазами прохожих и передают их своим партнерам.
Вечером шайки шпионов отправляются на ловлю запрещенных для продажи журналов, они всякими обманами выманивают какой-нибудь нумер «Evénement», городовые сержанты, спрятанные в засаде, бросаются тогда на бедную лавчонку или стол, единственное достояние какой-нибудь старухи, пропитывающей семью. Сержанты хватают старуху, старуха плачет, ее толкают, ругают и ведут к префекту вместе с каким-нибудь обтерханным мальчиком 8 лет, который до вечера не ел и продал тайком «Эстафету». Прохожие видят и идут своей дорогой, не смея поднять голоса, – будто в Петербурге или в Варшаве.
В тиранстве без тирана есть что-то еще отвратительнейшее, нежели в царской власти. Там знаешь, кого ненавидеть, а тут – анонимное общество политических шулеров и биржевых торгашей, опертое на общественный разврат, на сочувствие мещан, опертое на полицейских пиратов и на армейских кондотьеров, душит без увлеченья, гнетет без веры, из-за денег, из страха – и остается неуловимым, анонимным. У этой Вест-Галльской компании есть комиссар центральной полиции, получивший шесть миллионов голосов в память того, что его дядя теснил лет шестнадцать тот же народ и усеял поля всей Европы французскими трупами, для того чтоб сделать возможным возвращение Бурбонов!
Кто он такое сам? – Сколько я ни смотрел на его заспанное лицо, на его колоссальный нос, на его мутные, пухлые глазки, на опустившиеся черты… я только мог высмотреть отрицательные качества, но поэтому-то он и будет велик, поэтому-то он и современен.
Действительно, нашему веку принадлежит честь производить таких пресных, бесхарактерных, бесплодных, стертых людей, как Пий IX, король прусский, Людовик-Наполеон и их doyen d’âge[218]218
старший по возрасту (франц.). – Ред.
[Закрыть], отставной австрийский император.
…На самой границе Франции еще раз мне припомнились все черные стороны ее.
Случайно взял я на железной дороге из Авиньона в Марсель книгу одного из сопутников и, прочитавши страниц двадцать, остановился. Я не нервная женщина, вообще довольно читал и видел, чтоб вперед знать, что нет зверства, что нет злодейства, на которое люди не были бы способны. Но, без преувеличения, без фраз, я положил книгу от внутреннего волнения. Это была какая-то новая история о «белом ужасе» (terreur blanche) в 1815.
В Марселе роялисты вырезали, избили всех мамелюков с их женами и детьми. В другом месте католики напали на протестантов, выходящих из церквей, часть их перебили и, раздевши донага, таскали их дочерей голых по улицам… И все это делалось под покровительством центральных комитетов, имевших сношения с графом Артуа и получавших свои приказания из марсанского павильона.
«Но разве якобинцы лучше поступали в департаментах?» – Нет, не лучше. Но это не только не утешительно, а напротив, это-то и приводит в отчаяние, тут-то и лежит неотразимое доказательство кровожадности французов. С которой бы стороны победа ни была, «оставьте всякую надежду», они безжалостны и не великодушны, они рукоплещут каждому успеху, каждой кровавой мере, они всякий раз идут далее самого правительства.
Марсель – один из самых противных, прозаических городов на юге. Летом, если мистраль не сшибает с ног и не душит пылью, жар нестерпимый, гнилое испарение поднимается от стоячей воды канала. Мне хотелось как можно скорее уехать, особенно после прочтенной главы… Мне все казалось, что я встречаю на улицах актеров гнусных сцен – вот этот нищий, старик с диким лицом, непременно ходил из дома в дом убивать бонапартистов; вот этот портной, кривой, нечистый и с узким лбом, верно, резал мамелюков или, может, примется во имя Порядка, Семьи и Религии резать con amore[220]220
с любовью (итал.). – Ред.
[Закрыть] социалистов.
Когда я переехал Варский мост и пиэмонтский карабинер принялся записывать мой пасс, мне стало легче на душе. Я стыжусь, краснею за Францию и за себя, но признаюсь – я свободнее вздохнул, так, как во время оно вздохнул, переезжая русскую границу. Наконец я вышел из этой среды нравственной пытки, постоянного раздражения, бешенства, негодования. По эту сторону я буду чужой всем, я не знаю и не делю их интересов, мне дела до них нет и им до меня. Здесь я могу быть отрицательно независимым, здесь я могу отдохнуть… до тех пор пока святая Германдада всемирной полиции не начнет и в Пиэмонте свой крестовый поход.
Карабинер отдал мне пасс, я взглянул на визу
– «Visto da R. carab. al Ponte Varole il 23 giugno»[221]221
«Визировано Р. карабинером, у Варского моста, 23 июня» (итал.). – Ред.
[Закрыть].
И так я оставил Францию в страшную годовщину 23 июня.
Я посмотрел на часы – три четверти пятого. Два года тому назад в этот час приготовлялась великая, роковая борьба. Я стоял под дождем, прислонясь к дому и смотрел на окончивавшуюся огромную баррикаду на Place Maubert – сердце билось страшно, и я думал – to be, or not to be[222]222
быть или не быть (англ.). – Ред.
[Закрыть]…
Not to be[223]223
не быть (англ.). – Ред.
[Закрыть] – решила судьба. Революция была побеждена. Авторитет восторжествовал над свободой; вопрос, потрясавший Европу с 1789 года, разрешился отрицательно. Стыд взятия Бастилии смыт канонадой на ее месте, и на этот раз взято предместье св. Антония. После июньских дней оставалось делать частные усмирения, воспользоваться победой, смело проложить ее последствия. Главное было сделано, монархическая республика защитила монархический принцип и смешала все понятия.
Революция была побеждена не в Вене, не в Берлине, а в Париже; не Англией и Россией, не эмигрантами и Бурбонами, а республиканцами во имя порядка – какого порядка? – того «варшавского порядка», который стремилась завести правительственная редакция «Насионаля», – того, который окончился избранием Людовика-Наполеона, взятием Рима, осадным положением, уничтожением всех свобод и всех прав. – Итак, да здравствует порядок! Июньская кровь – новое помазание всем монархам, всем властям!..
С бомбардирования парижских улиц, с обмана инсургентов предместья св. Антония, с расстреливания гуртом, с депортаций без суда не только начинается победоносная эра порядка, но и определяется весь характер предсмертной болезни дряхлой Европы. Она умрет рабством, застоем, византийской болезнью… она умерла бы и свободой, но оказалась недостойной этого. Донской казак в свое время придет разбудить этих Палеологов и Порфирогенитов – если их не разбудит трубный глас последнего суда – суда народной Немезиды, который будет над ним держать социализм мести – коммунизм – и на который апелляцию не найдешь ни у Тьера, ни у Марраста – да вряд тогда найдешь ли самих Марраста и Тьера. Коммунизм близок душе французского народа, так глубоко чувствующего великую неправду общественного быта и так мало уважающего личность человека.
После июньских дней ни разу луч близкой надежды не проникал в мою грудь. Сколько мне приходилось спорить с друзьями! Они не хотели видеть, что произошло, они требовали, чтоб я делил их упования. Я готов был делить с ними опасности, гонения, готов был даже погибнуть – не столько из мужества и самоотвержения, сколько от скуки и по пословице «на людях и смерть красна»; но добровольно заблуждаться, но остановиться перед истиной и отвернуться от нее, потому что она безобразна, – я не мог.
И где те, с которыми я спорил? – Все рассеяны, все гонимы; кто не в тюрьме, тот давно переплыл океан, другой удалился в Каир, третий спрятался в Швейцарии, четвертый скитается в Лондоне… Кто же был прав?
…Но довольно! Перед моим окном стелется Средиземное море, я стою на святом итальянском берегу. Мирно вхожу я в эту гавань и начерчу на пороге своего дома древний пентаграмм в отженение всякого духа тревоги и людского безумия…
Письмо тринадцатое
Ницца, 1 июня 1851 г.
Я исполнил свое намерение и прожил в моей пустыне год целый, не только не писавши длинных посланий, но и не читая писанных другими. Смиренно сидел я у Средиземного моря и ждал погоды, но не дождался ничего хорошего – все стало еще хуже, суровый мистраль дует и сильнее и холоднее. Напрасно радовался я моему тихому удаленью, напрасно чертил я пентаграмм, я не нашел желанного мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищают от нечистых духов; от нечистых людей не спасет никакой многоугольник – разве только квадрат селюлярной тюрьмы.
Скучное, тяжелое время и чрезвычайно пустое, утомительная дорога между станцией 1848 года и станцией 1852 – нового ничего, разве какое личное несчастие доломает грудь, какое-нибудь колесо жизни рассыпется, шина лопнет…
Впрочем, до июня месяца 1851 г. дотащились – и то хорошо. Ну, друзья, ну! шаг за шагом, дорога больно глиниста, песчана – да ведь делать нечего, не остаться же ночевать, – чтоб сократить ее, давайте снова перебирать старое.
Хотя перебирать его не легко.
Трудно говорить откровенно в наше время, и это вовсе независимо от полицейских преследований, а от того, что большинство людей, стоявших с нами на одном берегу, расходится более и более; мы идем, они не двигаются и становятся все раздражительнее от лет, от несчастий и составляют демократическое православие.
У них учреждена своя радикальная инквизиция, свой ценс для идей; идеи и мысли, удовлетворяющие их требованиям, имеют права гражданства и гласности, другие объявляются еретическими и лишены голоса; это пролетарии нравственного мира, они должны молчать или брать свое место грудью, восстанием. Против бунтующих идей является демократическая цензура, несравненно более опасная, нежели всякая другая, потому что не имеет ни полиции, ни подтасованных присяжных, ни судей в маскарадных беретах, ни попов в маскарадных митрах, ни тюрем, ни штрафов. Цензура реакции насильственно вырывает книгу из рук, и книгу все уважают; она преследует автора, запирает типографию, ломает станки, и гонимое слово переходит в верование. Цензура демократическая губит нравственно, обвинения ее раздаются не из съезжей, не из прокурорского рта, а из дали ссылки, изгнания, из мрака заточения; приговор, писанный рукой, на которой виден след цепи, отзывается глубоко в сердцах, что вовсе не мешает ему быть несправедливым.
У наших староверов образовалось свое обязывающее предание, идущее с 1789 г., своя связующая религия, – религия исключительная, притеснительная. Они хранят ее в изгнании, несмотря на преследования и гонения, – это прекрасно, но мало способствует к развитию. Несчастие останавливает, верность былому мешает настоящему; гонимое предание, с своим терновым венком на голове, ограничивает сердце, мысль, волю.
Демократы-формалисты, точно Бурбоны, ничему не научились в бедственную годину, начавшуюся на другой день после февральской революции. Оттого они так упорны в своих мнениях, не могут надивиться, откуда произошли все их неудачи, и добродушно объясняют их частными ошибками, изменами. Воротись они завтра из тюрем и ссылок в правительство, они будут продолжать свою невозможную несоциальную республику, так, как эмигранты после 1815 г. продолжали свою невозможную монархию-рококо.
Все то, что останавливается и оборачивается назад, каменеет, как жена Лота, и покидается на дороге. История принадлежит постоянно одной партии – партии движения. Революционный консерватизм дошел в последнее время до того, что хранительное начало в нем перевешивает революционное, и как ни парадоксально это покажется, а разрушение старых общественных форм идет вперед благодаря реакционерам и действительным консерваторам.
Видя грозящую опасность, реакционеры вышли за пределы, поставленные законами, и укрепились вне падающих стен собственной крепости – подтверждая тем самым и ускоряя близость их падения; а наши староверы из этих-то стен, готовых рухнуться, и собираются построить свою республику.
Вот почему брошюра Ромье гораздо революционнее прокламаций Центрального комитета.
Брошюра Ромье – крик ужаса, раздавшийся у гуляки, невзначай увидавшего в окно столовой, где он так привольно пировал с Вероном, – красный призрак;увидав Медузу в фригийской шапке, ему показалось, что своды треснули, что столбы закачались, из-за трещин ему мерещился огонь от поджога, головы на пиках, люди с топорами с заскорузлыми руками, и он, дрожа всем телом, стал звать на помощь.
«Забудьте, – кричал он ломая руки, – забудьте формальности легистов, право ваше всегда было пустое слово, а особенно теперь, когда надобно спасаться и спасать свое последнее достояние. Бейте на улицах, режьте по домам, зовите на помощь русские пушки, венчайте цезарем того сержанта, который своим тесаком убьет последнего социалиста» – «ваши теперешние средства остановить катаклизм смешны (депортация, расстреливание, тюрьма, гильотина!..), они напоминают тех двух жандармов, поставленных начальством во время разлива Луары с приказом ездить шагом взад и вперед по берегу и подаваться назад, по мере того как вода будет понимать луга. То ли надобно теперь… давайте боевые патроны – и грудью вперед, у победителя не спросят о правах!»
Народные массы, вечно реальные по инстинкту, а может, и потому, что они-то и составляют реальность, не слушают староверов. Они смотрят им через голову. Как, где научился народ, трудно сказать – только не из книг, народ мало читает. Он не прочь иной раз послушать демократические речи на банкете, так, как прежде любил слушать проповедников; он даже соглашается с теми и с другими от непривычки к слову и увлекаясь фразой, но на его жизнь, на поведение это не имеет никакого влияния.
Народ, как женщины, понимает вещи особым процессом и особенно развитым тактом; до чего мы дорабатываемся длинным теоретическим трудом, то он схватывает вдруг целиком и, повидимому, даром. Новая истина, поражающая его, если он ее поймет, переходит не в рассуждение, а в непосредственное действие, его понимание больше страстное и художественное, нежели логическое. Долго дремлет народ, тупо следуя обычаю отцов, привычке, повторяя принятое предшествовавшими поколениями, – он склоняется перед духовной и светской властью, не разбирая ее; он ее принимает за роковой факт, за неотвратимую и не подвластную ему силу, так, как принимает природу и ее явления. У него мало досуга на отвлеченную работу, он работает беспрерывно руками для завоевания материальных условий жизни. Иногда душу его волнуют темные стремления и неопределенная тоска, он чует возможность лучшей жизни и гнетущую несправедливость, но поколения идут за поколениями, и он все остается при неясной тоске, при одном стремлении, он ничего не делает повидимому, но грудь его разъедена и готова. Одно слово, одно событие, и он рвет, как Самсон, свои путы; ринувшись вперед, он становится в уровень революционному вопросу своего времени.
Массы французского народа ничего не знали о политике перед 1789 г., но они давно были недовольны; пробужденные парижским набатом, они стали революционными, особенно в городах, они взяли Бастилию, а потом Тюльери, а потом Лион, а потом всю Европу и, побежденные, в свою очередь вовсе не усмирились. Каждое поколение имело свой юбилейный день революции, 30 июля 1830, 24 февраля 1848 года.
Но с июньских дней народ расстается с революционерами именно потому, что остается верен революции. Призрачный мир политики и внешних перестроек тюрьмы вдруг исчез для него и утратил весь интерес свой. Людовик-Наполеон мог десять раз провозгласить себя императором, легитимисты могли выписать своего Шамбора, орлеанисты – короновать графа Парижского, народ не сказал бы ни слова. Трусость династов помешала им успеть. А давно ли этот самый парижский народ бежал за ружьем, оскорбленный приказами Полиньяка, запрещавшими печатать книги, которых он никогда бы не прочел, приказами Дюшателя, запрещавшими банкет, на который его никто не звал, и армии бледнели перед ним и короли бежали? А теперь он сидит и не двигаясь смотрит на гнусности, которыми явно подкапывают все приобретенные им права. Он дал свои три месяца голода, его обманули, он не верит больше в тех, которые оставили его в день его восстания.
Но революция не остановилась. Вместо неосторожных попыток и заговоров работник думает крепкую думу и ищет связи не с цеховыми революционерами, не с редакторами журналов, – а с крестьянами. С тех пор как грубая рука полиции заперла клубы и электоральные собрания, трибуна работников перенеслась в деревни. Эта пропаганда неуловима и глубже захватывает, нежели клубная болтовня.
В груди крестьянина собирается тяжелая буря. Он ничего не знает ни о тексте конституции, ни о разделении властей, но он мрачно посматривает на богатого собственника, на нотариуса, на ростовщика; но он видит, что, сколько ни работай, барыш идет в другие руки, – и слушает работника. Когда он его дослушает и хорошенько поймет, с своей упорной твердостью хлебопашца, с своей основательной прочностью во всяком деле, тогда он сочтет свои силы – а потом сметет с лица земли старое общественное устройство. И это будет настоящая революция народных масс.
Всего вероятнее, что действительная борьба богатого меньшинства и бедного большинства будет иметь характер резко коммунистический.
Слово это пугает старых революционеров, так, как слово «якобинец» пугало вольнодумов-дворян и слово «иезуит» полукатоликов. Они проповедовали всю жизнь равенство и братство, теперь они хотят отпрянуть, когда народ берет их за слово, – и всё еще воображают, что они идут с ним заодно и представляют во всей чистоте его стремления.
В сущности они и не с народом и не из него, они из книг, изшкол, из римских преданий, из образованного меньшинства, из тогообщественного устройства, которое развилось против народа и которое должно погибнуть для того, чтоб народ был свободен.
Какой практически смешной и щемящий сердце образ складывается для будущего поэта, образ Дон-Кихота революции! Наши рыцари времен Конвента и старой Горы, вскормленные историей девяностых годов и тогдашним «Монитером», видят в настоящем одно временное отклонение от истинных начал, они стараются возвратить человечество к 9 термидору и к конституции Сен-Жюста… Они повторяют слова, потрясавшие некогда сердца, не замечая, что они уже давно задвинуты другими словами, они все еще толкуют о цивизме и тирании, о коалиции и английском влиянии, о протестациях и петициях, о неотъемлемых правах человека, о нарушении конституции и, наконец, о святом праве восстания!
Как работнику не улыбаться и не качать головой, когда ему в осадном положении, возле военных судов и партий, ссылаемых без суда, толкуют о праве восстания, прибавляя к нему вновь изобретенную нелепость «права работы». Кому он предъявит эти права, кто обязан их признать, и на что они ему, когда сила не с его стороны? И на что они ему, когда сила с его стороны? По крайней мере Людовик XVII был признан десятью немецкими календарами и одним русским…








