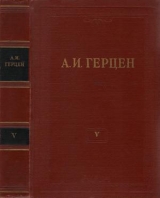
Текст книги "Том 5. Письма из Франции и Италии"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)
Я принимаю все это.
Да, я плакал на июньских баррикадах, еще теплых от крови, и теперь плачу при воспоминании об этих проклятых днях, в которых каннибалы порядка восторжествовали. Я буду очень счастлив, если мои писания могут служить для уяснения «патологии» революции, и цель моя будет совершенно достигнута, если я могу указать, как последние молнии революции сверкнули и отразились в русском понимании.
С этой тройной точки зрения я Вам предлагаю мои письма и братски приветствую вас.
Лондон, 7 февраля 1854 г.
Оглавление[234]234
Настоящее оглавление, несомненно принадлежащее Герцену и раскрывающее содержание писем, воспроизводится по изданию 1858 г. – Ред.
[Закрыть]
Введение
Письмо I. Париж. – Дорога. – Немецкая кухня. – Положение русского в Европе. – Рига и Псков. – Кенигсберг.
Письмо II. Париж, стоящий за ценс, и Париж, стоящий за ценсом. Буржуа и Пролетарий. – Прислуга. – Портье.
Письмо III. «Ветошник» Ф. Пиа и Фредерик Леметр. – Расин и Рашель. – Французская красота. – Левассор.
Письмо IV. Нравственно-политическое состояние Франции. – Социальные идеи. – Вопрос материального благосостояния.
Письмо V. Прощанье с Парижем. – Лион в 1793 и 1832. – Эстрель. – Ницца. – Генуя. – Risorgimento. – Три Рима. – Кампанья. – Извинение смеха.
Письмо VI. Пий IX. – Новый год и демонстрация 2 января. – Восстание в Палерме. – Взгляд на историю Италии последних трех веков. – Мнение Гёте. – Чичероваккио.
Письмо VII. Неаполь. – Сравнение с Римом. – Король ha firmato. – Потерянный портфель. – Лаццарони.
Письмо VIII. Слух о 24 февраля. – Маскарад в Тор-ди-Ноне. – Viva la Repubblica francese! – Размолвка папы с народом. – Восстание в Милане. – Казнь австрийского орла. – Ополчение в Колизее. – Патер Гавацци.
Письмо IX. 15 мая 1848 г. – Приезд в Париж, его вид после революции. – Национальное собрание. – Барбес о руанском деле. – Реакция. – Взгляд на события, предшествовавшие 24 февраля. – Характер французской буржуазии. – Гизо. – 23 и 24 февраля. – Временное правительство.
Письмо X. Июньские дни. – Сравнение с террором 93 и 94. – Донесение следственной комиссии. – Провозглашение республики. – Социализм. – Люксембургская комиссия. – Ледрю-Роллен. – Луи Блан. – Ламартин. – Бланки.
Письмо XI. Современное значение революции. – Социализм. – Пределы политической республики и социальной. – Их характеристика. – Брейсбен и Северо-Американские Штаты. Нелепые нападки на социализм.
Письмо XII. Ницца в 1850. – Париж в разгаре реакции. Вотирование закона о Нука-Иве. – Семейство, порядок и религия, защищаемые реакцией. – Демократы и народ. – Травля на парижских улицах. – Вест-Галльская компания. – Президент. – Белый террор. – Марсель. – Воспоминания 23 июня на пиэмонтской границе.
Письмо XIII. Демократы-староверы, революционное православие, народ. – Революционный Дон-Кихот. – Право работы и право восстания. – Наше призвание и его предел.
Письмо XIV. Второе декабря 1851 года. – Vive la mort! – Необходимость coup d’Etat. – Бонапарт и Бланки. – Последствие 2 декабря. – Война, разрушение старого мира.
Приложение. Письмо к издателю журнала «L’Homme».
227
Другие редакции
Письма из Avenue Marigny*
Письмо четвертоеМне на роду написано – никогда не писать писем о том, о чем предполагаю. Даже «Письма об изучении природы» остановились именно там, где следовало начать о природе. Судьба, или, как любил выражаться один древний писатель (Виктор Гюго), Ананке! Вы знаете очень хорошо, что может сделать слабый человек против Ананки, хотя бы они являлись не с козой, не с фанданго, не с маленькими ножками и огненными глазками цыганки, как случилось с нотрдамским архидиаконом. У меня было твердое намерение рассказать вам о благородном турнире, на котором рыцарь газеты «Presse» так отважно напал на Кастора и Поллукса министерских лавок, о турнире, доставившем маленькое рассеяние добрым буржуа, скучающим в пользу отечества в Palais Bourbon. Но пока я собирался с славянской медленностью, здесь случилось столько турниров, кулачных боев, травль, чрезвычайных случаев и случайных чрезвычайностей, что вспоминать о маленьких обвинениях, взводимых Жирарденом на своих противников, столько же своевременно, как поминать историю Картуша, Ваньки Каина, Стеньки Разина… хотя сии последние с отвагою и смелостью последовательности немецких идеалистов дошли до конца того поприща, которое начинается «злоупотреблением влияния», маленькой торговлей, проектами крошечных законов, привилегиями на театры и рудокопни, а оканчиваются самими рудокопнями, морскими прогулками на галерах, трудолюбивым вколачиванием свай в портовых городах, а иногда и воздушными прогулками всем телом или отчасти… смотря по тому, на которой стороне Па-де-Кале случится. Картуш и театральная привилегия, Жирарден и продажное пэрство – все это забыто, задвинуто, затерто новыми происшествиями. Никто не говорит здесь о Жирардене:
a) После дела Теста, в котором так справедливо наказали генерала Кюбьера за то, что он плута не считал честным человеком, и так невинно расстреляли фуфайку и рубашку бывшего министра.
b) После ученых изысканий Варнера, который открыл в Алжире видимо-невидимо маленьких Абдель-Кадеров министерского происхождения, – Фавну, составленную на местах, он привез в Париж; все ее видели, все убедились в возможности его открытия, кроме одного поэта из художественной школы Фукье Тенвиля, патентованного изобретателя de la complicité morale. Он, как поэт, презирает доказательства, у него сердце вещун, оно молчит – он не верит.
c) После размолвки Буа-ле-Конта с швейцарской собакой, – размолвки, доходившей до «диеты» вместе с делом об иезуитах, – собака вполне оправдалась, доказала невинность своих намерений, чистоту образа мыслей и выиграла процесс. Вы, верно, помните эту историю; она была в то же время, как в Берне намылили так жестоко голову тому же Буа-ле-Конту за то, что мешается в семейные дела, заводит всякие шашни, якшается с подозрительными людьми, советует, когда его не спрашивают, и распоряжается с своей нон-интервенцией везде, как дома; или, еще хуже, точно, куда ни обернешься, все Португалия.
d) После семейной сцены герцога Праленя с женой, от которой герцог приобрел такую силу, что, искрошивши свою жену, он отужинал мышьяком, приготовленным на опиуме, и прожил, не хуже Митридата, с неделю, – потом вспомнил, что порядочный человек должен умереть, отравившись, – и умер, как истинный маркиз, из учтивости, чтоб не поставить в неприятную необходимость гг. пэров казнить товарища и однокорытника, после того как маститый Пакье в нынешнем году уже сгубил двух пэров-министров. Жаль Праленшу! А ведь страшная женщина была! Это обличилось после ее смерти; она всякий день писала мужу письма в несколько листов. Все ведь это к нему писалось; ему, бывало, надобно к M-lle Luzy, вдруг несут книгу in folio… Что такое? – Утренняя записочка от герцогини… е, f, g… р, q, r, s, t… у… z… После того, как история Жирардена была напечатана в «Современнике»… Вы думаете, здесь не читают «Современника»? Извините, чрезвычайно, невероятно! В café только и слышишь: «„Le Sovremennik”, s’il vous plait…» – «Impossible, – отвечает garçon, – on se l’arrache „Le Sovremennik”»[235]235
Пожалуйста «Современник»… Не могу, – отвечает официант, – «Современник» вырывают друг у друга из рук (франц.). – Ред.
[Закрыть] и подает апельсинный гранит как слабую и холодную замену «Современника»…
А право, жаль, что время прошло говорить о жирарденовской истории: такая милая и забавная история! Жирарден баловень, горячая голова, Алкивиад буржуази; он далеко оставил за собой тяжелого и плюгавого Гранье де-Кассаньяка, который нашел утешительную пристань от треволнений жизни в объятиях дружбы, нежной и постоянной, с Гизо. Жирарден, не боясь мефитического воздуха, взболтал после семилетнего застоя болото бюрократической грязи, и оно стало бродить с тех пор. Он в этой борьбе явился во всем блеске, он в ней дома, как эти белые венчики нимфеи в болотах, которые так изящно плавают по поверхности воды и у которых корень глубоко в илу и глине. Оттого-то обличаемые им и перепугались: один осунулся и сделался цвету потертых мундиров, у другого щека стала дрожать независимо от его воли; я до сих пор не видал ни у одного человека такой самобытности щек. Чем ближе стоял Жирарден к коммерческим домам, где продавались привилегии, проекты, Лежьон д’онеры и места, тем с бóльшим душевным волнением слушали обвиняемые негоцианты. У них была одна надежда, что он пощадит себя, многого не скажет; но Жирарден ничего не пожалел. Бывали случаи, что черемис Вятской губернии до того рассердится на своего врага, что, не зная, чем донять его, придет ночью да и повесится у него на дворе, умирая таким образом с сладкой надеждой, что месть обеспечена, что следствие будет. Такую вендетту обыкновенно приписывают дикости; но с некоторыми изменениями в формах она встречается не в совершенно диких обществах и даже совершенно не в диких. Один самоотверженный газетчик, чтоб окончательно уличить одного из известных писателей наших, воспользовался неосторожной исповедью его, чтоб довести до сведения читателей, что между им и автором величайшая симпатия; газетчик очень хорошо знал, что после этого автор потеряет всякое уважение порядочных людей. Таков в своем роде Жирарден: он не пощадил своей чести, лишь бы посыпать на старости лет главы семилетних министров всевозможными обвинениями. К фоблазовскому окончанию поприща Мартень дю-Нора только и недоставало каталога подкупов, продаж, взяток, сделок, проделок etc., оглашенных «Прессой» из ее семейных бумаг!
Камера депутатов оправдала министров.
Камера пэров оправдала Жирардена.
Общественное мнение было удивлено. Журналы требовали следствий, суда. – Поэт Эбер им лукаво улыбался, грозил пальцем и уверял, закрывши глаза, что ничего не видит.
Тогда посыпался град доносов, документов, доказательств… Я вам рассказывал как-то, что один поврежденный доктор принимал журналы за бюллетени сумасшедших домов: это был человек отсталый; теперь журналы, по крайней мере здесь, – бюллетени смирительных домов и галерных выходок…
О журналы, журналы!
Как спокойно и весело жить где-нибудь – в Неаполе, например, – куда не проникает всякое утро серая стая журналов всех величин, всех цветов, с отравляющим запахом голландской сажи и гнилой бумаги, с грозным premier-Paris в начале и с крупными объявлениями в конце, – стая влажная, мокрая, как будто кровь событий, высосанная ею, не обсохла еще на губах, саранча, поедающая происшествия прежде, нежели они успеют созреть, – ветошники и мародеры, идущие шаг за шагом по следам большой армии исторического движения. Там журналы ясны и прозрачны, как вечноголубое небо Италии; они на своих чуть не розовых листиках приносят новости успокоительные, улыбающиеся – весть о прекрасном урожае, об удивительном празднике в такой-то вилле, у прелестной дукеццы, на которой месяц светил сверху, а волны Средиземного моря плескали сбоку… Хорошо, кого судьба избавила от страшных, ежедневных доносов и обличительных актов безумия, низости и разврата; не лучше ли в милом неведении сердца верить в аркадские нравы на земле, в кроткое счастие лаццарони, в праздничную, официальную нравственность и в людское бескорыстие? Не лучше ли, когда много прекрасного в божием мире, не знать, что в нем есть бешеные собаки, крапива, холера, тифус, поддельное шампанское, горькое масло, – и наслаждаться запахом розы и пением соловья?
Да какая же обязанность читать журналы? Вот подите, никакой обязанности нет, да и выбору нет; страсть к новостям – это парижское сирокко, какая-то болезнь вроде запою. Проснешься утром, так и тянет, ну хоть маленькую газетку, ну «Шаривари», пока кофей подают; дотронулся до одной – и пошло, и пошло, и перечитаешь десяток, а сам очень хорошо знаешь, что такой мрак падет на душу, такая тоска, что с горя бросишься в вагон да и уедешь на целый день куда-нибудь в Медонский лес… Хороши журналы, да каков же однако и быт, вести о котором всякий день исполняют горечью и негодованием душу порядочного человека?
Знаете ли, что мне пришло в голову вас спросить? Вы так и ждете, что я, увлеченный Жирарденом и Варнери, спрошу вас: «Что ваши часы – краденые или купленные?», – совсем напротив, я хочу вас спросить, случалось ли вам после долгой разлуки встретить женщину, которую вы любили издали, которая для вас была недосягаема, о которой светлое воспоминание согревало вашу грудь? Вы ее увидели наконец. Она замужем, и муж ее – пошлый, тупой, мелкий, ничтожный негодяй. Как уважать жену пошлого человека! Она лишилась пьедестала, и вместо трепетной и робкой речи уважения на ваших губах колкий намек, и вместо восторженного идолопоклонства вам хочется за нею поволочиться. С кем этого не случалось? Но случалось ли вам потом рассмотреть в той женщине другие, новые черты, скрываемые, затаенные, но выступающие наружу, как обличительный румянец? Случалось ли подслушать иные речи, свидетельствующие, что в душе ее ничего не утрачено, что, напротив, она окрепла в невзгоде, в перенесенном опыте, что она возмужала в сердечных утратах? Если случалось, будьте осторожны: не давайте воли поспешному суду и оскорбительной насмешке, говоря не о женщине, а о целом народе, чтоб не краснеть потом от стыда и раскаянья!
Ничего нет легче в мире, как указать больное место Франции, Англии, преимущественно Франции. Сам Париж своими журналами и укажет и покажет все зло и всю меру его с ожесточением духа партий, с ловкостью их острой и едкой полемики, со всеми средствами гласности. Стало быть, достаточно знать грамоту, чтоб без особого труда и умственного напряжения в одно утро, проведенное в café, узнать черную и грязную сторону Франции: отрицать ее была бы величайшая недобросовестность или полнейшее тупоумие. Но – прав ли будет тот, кто удушливый и вонючий воздух тесных переулков примет за атмосферу целой нации? Испорченный воздух вовсе не есть ее обычная среда; она доказывает это своим повсеместным негодованием, а негодовать попусту она не привыкла. Журналисты втянуты в омут дел, – представители борьбы, органы и орудия партий делают свое дело. Но много ли путного сделает посторонний свидетель, который остановится на перечислении этой массы зла, безнравственности и обманов, на бесплодном подтверждении, что все это есть, на возгласах, на проклятиях? Надобно дать себе несколько труда вглядеться в историческое происхождение, в логику событий, в смысл того, что есть. Только в связи с прошедшим, и притом с прошедшим, освещенным всем светом современной, возмужалой мысли, можно уяснить настоящее положение Франции; тогда вы увидите много запутанного, много трудного, много отрицательного, но с тем вместе увидите, что безнадежного, отчаянного ничего нет и что Франция еще изворотится без радикальных средств землетрясения, небесного огня, потопа, мора, которыми так богата искаженная Франция вновь изобретенного Востока, говорящего с дикой радостью о всем дурном на Западе, воображая, что ненависть к соседу – истинная любовь к своей семье, что чужое несчастие – лучшее утешение в своем горе. Я не берусь писать в этих письмах целых диссертаций, но скажу несколько намеков, несколько беглых мыслей в подтверждение моих слов. Настоящим положением Франции – все недовольны, кроме записной буржуази и ажиатёров «во всех родах различных»; чем недовольны – знают многие, чем поправить и как поправить – почти никто; всего менее – существующие социалисты и коммунисты, люди какого-то дальнего идеала, едва виднеющегося в будущем. Почти в том же положении и существующая оппозиция, парламентская и журнальная: она основана или на небольших, паллиативных средствах, которые могут принести слабые улучшения, или на воспоминании былого, на стремлении снова призвать к жизни идеал, удаляющийся в прошедшее. Они не знают истинного смысла недуга, они не знают действительных лекарств и оттого становятся в постоянном меньшинстве; у них истинно только живое чувство негодования, и в этом они правы, ибо болезнь все болезнь, хотя бы она была к росту; чувствовать присутствие зла необходимо для того, чтоб отделаться от него тому равнодушному, косному квиетисту, которого не мучит настоящее зло из-за будущего блага. Обратимся теперь к обвинениям.
Обвинение, всего чаще повторяемое и совершенно верное, состоит в том, что с некоторого времени грубые материальные интересы овладели всеми сословиями и подавили собою все другие интересы, что великие идеи, слова, потрясавшие так недавно душу людей и масс, заставлявшие покидать дом, семью, исчезли и повторяются теперь, как призвание Олимпа и муз у поэтов, как слово «верховное существо» у деистов – по привычке, из учтивости. Вместо их рычаг, приводящий все в движение, – деньги, материальные удобства; там, где были прения о государственных интересах, исключительно занялись одними вопросами политической экономии.
Тот, кто не видит, что вопрос о материальном благосостоянии составляет великую половину всех вопросов современности, тот вовсе не знает, что делается на свете.
Да, это важнейший общественный вопрос нашего века. И беда не в этом, а большею частию в образе разрешения. Как же, наконец, не поставить на первый план тот вопрос, от разрешения которого зависит не только насущный хлеб большинства, но и их цивилизация? Нет образования при голоде; чернь будет чернью до тех пор, пока не выработает себе досуга, необходимого для развития. Страны, которые уже перешли мифические, патриархальные и героические эпохи, которые довольно сложились, довольно приобрели, которые пережили юношеский период абстрактных увлечений, изучили азбуку гражданственности, естественно обратились к тому вопросу, от которого зависит вся будущность народов; но он труден, его не решишь громким словом, пестрым знаменем, энергическим кликом; это самый внутренний и существенный вопрос общественного устройства. Вы его встречаете в Северной Америке, в Англии, во Франции; в Америке и Англии он сделал более практических шагов, во Франции более шуму. Все это понятно: жизнь Франции, во-первых, богаче, полнее и поэтому сложнее, смутнее, запутаннее, во-вторых, экспансивнее, – в ней все гласно, все громко, все для всех. Оттого на Францию обращено более внимания; все худое и хорошее, что делается здесь, точно делается на сцене, а в партере сидит все человечество; подчас кажется, что именно все происходящее здесь делается, как в театре, – только для публики, ей польза, ей удовольствие, ей поучение; актеры играют не для себя и возвращаются со сцены к домашним неприятностям и мелочам. В этом одна из лучших национальных сторон французов, но они иногда остаются за это с пустыми руками. Гегель говорит, что Индия походила на родильницу, которая, произведя на свет дитя, радовалась им и сама для себя ничего больше не хотела. Франция – хочет всего, но ее силы истощились при тяжких родах, она не может оправиться. Ею выработанное принято другими на свежие плечи; этого не надобно забывать. Но воротимся к экономическому вопросу. Считать чем-то подчиненным и грубым стремление к развитию повсюдного довольства, стремление вырвать у слепой случайности распределение сил и орудий, привести труд, ценность, плату, обладанье к разумным началам, к незыблемым правилам, раскрыть действительные законы общественного достояния – могут одни закоснелые романтики и идеалисты. По счастию, в наше время выводятся эти высшие натуры, боявшиеся замараться о практические вопросы, бегавшие в мир мечтаний от мира действительности, хотя я еще своими ушами слышал следующее замечание одного из лучших представителей старого романтизма: «Вы полагаете, что с развитием довольства, – говорил он мне, – народ будет лучше, это ошибка, – он забудет все прекрасное и отдастся грубым желаниям… Что может быть чище и независимее от земных благ, как жизнь поселянина, который бросает все свое достояние в землю, смиренно ожидая, чем его благословит судьба? Бедность – великая школа для души, она хранит ее». – «И образует воров», – добавил я. И эту идиллию говорила не пятнадцатилетняя девочка, а человек лет в пятьдесят. Все несчастие прошлых переворотов состояло именно в упущении экономической стороны, которая тогда еще не была настолько зрела, чтоб занять свое место; тут – одна из причин, почему великие слова и идеи остались словами и идеями и, что хуже всего, страшно выговорить, надоели. Романтики, которым все это смертельно не по сердцу, с иронией возражают, что величайшие исторические события нисколько не зависят от большей или меньшей степени сытости и материального благосостояния, что крестоносцы не думали о приобретениях, что голодная и босая армия победила под Жемапом, Флерюсом и проч. Да оттого-то, между прочим, и не много вышло изо всех этих войн и передряг. Оттого-то Европа, после трех столетий правильного гражданского и всяческого развития, дошла только до того, что в ней лучше, нежели там, где этого развития не было, и что она после стольких переворотов и опустошений стоит при начале своего дела. Поэтические интересы, увлеченья теперь не поднимут народа совершеннолетнего. Это просто результат лет, возраста; нельзя же всегда быть юношей. Революция (я говорю о настоящей, а не о последней), со всей обстановкой ее, от страшной introduzione[236]236
интродукции, увертюры (итал.). – Ред.
[Закрыть] до героической симфонии Наполеона, заключает собой романтическую часть истории гражданских обществ. Финал громовый, грозный, достойный завершитель ряда событий, начавшихся с похода аргонавтов и со взятия Трои, – финал, начавшийся провозглашением прав человека и окончившийся провозглашением маленького капрала императором французов. Сколько событий, сколько крови, и после этого разгрома, когда улеглась пыль и разъяснилось небо, вырезались, наконец, страшные данииловские слова, написанные перстом самой буржуази: «Rien, rien, rien!»
Но вы однако не вовсе доверяйтесь этому rien. Это – негодование, это ненависть любви, ревность. Результаты не исчезли: они взошли внутрь.
Люди, проливавшие кровь и пот, страдавшие и измученные, приобрели право иеремиевского плача. Мы не имеем никакого права ни на слезы, ни на увлеченье: наше дело сторона, и потому мы можем иначе оценить совершающееся. Повидимому, Франция всего менее занята продолжением своего былого, она действительно будто унаследовала только это «ничего» – и, заметивши, ринулась в другую сторону, ударилась в противоположную крайность – в материализм финансовых вопросов. Люди мыслящие первые вдались в эти вопросы и увлекли с собою, как всегда бывает, пошлую толпу, которая всякий принцип доводит до нелепости, до цинизма, особенно такой родственный, такой близкий и соразмеримый принцип, как материальное благосостояние. Медаль перевернулась.
Прежде слова без ясного пониманья, без определенного содержания, но полные фанатизма, увлеченья, – вели людей, основываясь на высоком предчувствии, на глубоко человеческой симпатии ко всему широкому и благородному, и люди охотно жертвовали им всеми материальными благами; теперь увидели всю важность этих благ, отвернулись par dépit от всего прочего и прилепились к одному вопросу политической экономии; но вопрос этот очень немногие умели поднять в ту высокую сферу общечеловеческих интересов, на которую он имеет право и вне которой он не имеет действительного значения. Печальное недоразумение состояло в том, что не поняли круговой поруки, взаимной необходимости обеих сторон жизни. Политическая экономия, именно вследствие своей исключительности, при всей видимой практичности, явилась отвлеченной наукой богатства и развития средств; она рассматривала людей как производительную живую силу, как органическую машину; для нее общество – фабрика, государство – рынок, место сбыта; она, в качестве механика, старалась об улучшении машин, об употреблении наименьшей силы для наибольшего результата, о раскрытии законов движения богатства. Она шла от принятых данных, она брала патологический факт за физиологический, отправлялась от того распределения богатства и орудий, на котором захватила общество. До человека собственно ей не было дела. Занимаясь им по мере его производительности, она равно должна была за пределами своими оставить того, который не производит за недостатком орудий, и того, который имеет мертвый капитал. В такой форме наука о богатстве, основанная на правиле «имущему дастся», должна была сделать великий успех в мире торговли, купечества, буржуази. Но для неимущих такая наука не представляла больших прелестей. Для них вопрос о материальном благосостоянии был неразрывен с критикой тех данных, на которых основывалась политическая экономия и которые явным образом были причиною их бедности. Критика удалась вполне. Несколько сильных умов, глубоко сочувствуя с несчастным положением бедных классов, поняли невозможность исторгнуть их из жалкого и грубого состояния, не обеспечив им куска насущного хлеба; понявши, они бросились на изучение экономических вопросов. Но какое наставление, какое утешение могли они найти в холодной науке, которая, по несчастию, совершенно последовательно говорила неимущему: «Не женись, не имей детей, поезжай в Америку, работай 12 часов или умирай с голоду», прибавляя к этим советам поэтическую сентенцию, что не все приглашены жизнию на ее пир, и бесчеловечную иронию, что «вольному воля», что «нищий пользуется теми же гражданскими правами, как Ротшильд». Они видели, что сытый голодному не товарищ и что в старой науке есть что-то неладное, тупое и оскорбительное, – они ее бросили. Экономический вопрос получил иные размеры. Начали с критики. Критика – сила нашего века, это наше торжество и наше проклятие. Политическая экономия была разбита, место расчищено, но что же было поставить вместо ее?
Благородное негодование, pia desideria, и критика не составляют положительного учения, особенно для народа; нет ничего менее симпатизирующего с критикой, как народ: он требует готового, доктрины, верования; ему нужно знамя, ему нужна определенная межа, к которой идти. Люди, смелые на критику, – были слабы на создание; все фантастические утопии двадцати последних годов проскользнули мимо ушей народа; у народа есть реальный такт, по которому он, слушая, бессознательно качает головой и не доверяет отвлеченным утопиям до тех пор, пока они не выработаны, не близки к делу, не национальны, не полны религией и поэзией. Народы слишком юны, чтоб увлекаться одними экономическими теориями. Они живут еще несравненно более сердцем и привычкой, нежели умом; из-за нищеты, бедности и работы так же трудно ясно видеть вещи, как из-за богатства, пресыщения и лени. Попытки новой экономической науки одна за другой выходили на свет и разбивались о чугунную крепость привычек, истин и фактических преданий. Они были сами по себе полны желанием общего блага, полны любви и веры, никогда не достигали до бесчеловечной плоскости старой науки, но зато держались во всеобщностях, представляли больше стремление, нежели достигнутый результат. Всего страннее, что человек и в новую науку вошел все же не человеком, а каким-то жалким существом, которого освобождали от нищеты или от неправедного стяжания для того, чтоб затерять его в общине… Понять личность человека, понять всю святость, всю ширину действительных прав лица – самая трудная задача, и, кроме частностей и исключений, она никогда не была разрешена никакими прошлыми историческими формами; для нее нужно большое совершеннолетие, до которого не дорастал человек.
. . . . . . . . . . . . . . .
Старая наука, вовлеченная в злую полемику, не была в авантаже, новая отличалась на этом журнальном и литературном поприще. Умы, сочувствующие с веком, оставили прежнюю политическую экономию, одни по убеждению в истине новых теорий, другие по убеждению в недостаточности и лжи прежних; зато пошлая посредственность прильнула к ней; в ее руках наука Адама Смита измельчала, выродилась в торговую смышленость, в искусство с наименьшей тратой капитала производить наибольшее число произведений и обеспечивать им наивыгоднейший сбыт; наука дала им в руки кистень, который бьет обоими концами бедного потребителя, с одной стороны, уменьшением платы, с другой – поднятием цены на произведения. Буржуази бросилась на экономические вопросы, хотя не из крайности, но тем не менее они поглотили все ее внимание; она пожертвовала им всеми интересами; в этом, сверх нерасчета, была черная неблагодарность, ибо все перевороты, все несчастия Франции принесли лучшие плоды свои среднему сословию. А оно, как только стало на ту высоту, которую ему приготовила революция 1830 года и обеспечили сентябрьские законы, забыло свое прошедшее, забыло даже национальную честь и свои права, о которых столько разглагольствовало во время Реставрации. – Будущности для буржуази, повторяю, нет. Она теперь уже чувствует в своей груди начало и тоску смертельной болезни, которая непременно сведет ее в могилу, и, что всего печальнее, польза, которую она приносит, останется, но не приобретет ей даже спасиба, не заставит пролить ни одной слезы на ее могиле, – слезы, так легко проливаемой по всему умершему. Буржуази сама отучила от любви и симпатии, она сама проповедовала холод и бездумье, – чего же ожидать? Еще во время Реставрации буржуа не все продали внутри души своей, тогда их еще уважали; но с тех пор, как все интересы их можно разменять на звонкую монету, с тех пор, как жизнь превратилась для них в средство чеканить деньги, народ возненавидел их тем более, чем ближе к ним стоит. В народе бездна раздражительности, susceptibilité[237]237
чувствительности (франц.). – Ред.
[Закрыть], он оскорблялся развратом Людовика XV и его царедворцев, он оскорбляется теперь продажностью голосов, подкупной администрацией, он теперь принял вместо политического крика – «A bas les voleurs!»[238]238
«Долой воров!» (франц.). – Ред.
[Закрыть] Крик этот по справедливости относится не к одной администрации; не она развратила буржуази, а буржуази дала из среды своей таких администраторов, а те, воспитанные ею, в свою очередь подстрекнули, ободрили ее алчность к деньгам. Не в самом же деле несколько бюрократов увлекли огромный класс народа. Что это за сильные люди были бы, и эта седая пискливая куколка – Тьер, и этот рыцарь печального образа, квакер de l’hôtel des Capucines, и… эти неизвестности и ничтожности, которые их окружают, если мы им припишем возможность развратить такую страну. Лица, обвиняемые журналами и общественным мнением, не более как скир, скир – обнаруженное последствие худосочья; оттого умные медики и не вырезывают его, а стараются поправить все жизненные отправления. Зло не только глубже, нежели в администрации, но имеет свое историческое оправдание, свою необходимость.
Буржуази – казнь за прошлую односторонность. Следом за мистицизмом и изуверством идут кощунство и сомнение, следом за идеализмом – материализм, за террором – Наполеон.








