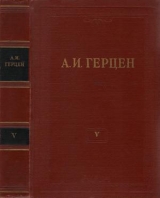
Текст книги "Том 5. Письма из Франции и Италии"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
В Камере пэров 22 февраля задорный Буасси просил дозволения спросить министров о положении Парижа и почему Национальная гвардия не в сборе. Камера отказала – не находя, повидимому, достаточно важными обстоятельства, о которых говорил Буасси. Старый Пакье не думал, что это будет последнее заседание пэров и что через несколько дней в самом этом здании, в этой зале, на этих местах сядут работники под председательством работника Альбера. В Камере депутатов было еще покойнее, депутаты продолжали заниматься будущим устройством Бордоского банка и разошлись для того, чтоб на другой день заняться очень современным и важным вопросом – учреждением du chapitre royal de S.-Denis[305]305
королевского капитула собора Сен-Дени (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Одилон Барро подал президенту обвинительный акт, сделанный оппозицией против министров. Гизо полюбопытствовал прочесть и, презрительно улыбнувшись, отдал бумагу. Дюшатель прошел по зале и вышел на террасу посмотреть, все ли распоряжения были исполнены. Площадь была пуста и окаймлена солдатами, возле Камеры были пушки. Он воротился довольный и самонадеянный, все шло хорошо. Тем и окончилось 22 число. «Монитер» от 23 объявил Парижу, что толпа злонамеренных людей, увлекших с собою множество мальчишек и в рядах которой было несколько человек подозрительной наружности[306]306
Вспомните «людей безобразной наружности во фраках». Как все правительства похожи друг на друга!
[Закрыть], сделала преступную попытку возмутить общественное спокойствие в Париже, но что деятельными мерами полиции толпы были рассеяны и совершенная тишина восстановлена.
Действительно, ночь с 22 на 23 прошла довольно тихо, особенно на бульварах и аристократических улицах, – но классические части города – Faubourg S.-Antoine[307]307
предместье Сент-Антуан (франц.). – Ред.
[Закрыть], Faubourg S.-Marceau[308]308
предместье Сен-Марсо (франц.). – Ред.
[Закрыть] – кипели. Толпа людей ходила в Батиньолях из дому в дом, обирая ружья Национальной гвардии. Многие жители сами приносили ружья, патроны, исторические улицы Транснонен, du Cloître St.-Merry не спали – там шла работа, приготовления. Работники явным образом стали со стороны восстания. Утром 23 ударил сбор Национальной гвардии. Правительство нехотя сзывало этот раз верную защитницу свою – оно чувствовало, что зашло слишком далеко, что на большинство Камер и на преданность богатой буржуази можно надеяться – но не в бою. Вопрос о роли, которую будет играть Национальная гвардия, становился так же важен, как с вечера вопрос – примут ли работники деятельное участие. Состав Национальной гвардии был, как вы знаете, чисто буржуазный, это были вооруженные собственники, вооруженные мещане, это было войско хартии – часто готовое поддержать первую против власти и всегда готовое давить народ. Несмотря на это, Национальная гвардия тоже делилась на два стана: беднейшая часть буржуази, считавшая себя за народ, имела радикальное направление, к ней присовокуплялась Национальная гвардия либеральных частей города (например XII округа). Когда ударили сбор – они первые собрались, – собрались с криком «Vive la réforme, à bas Guizot!»[309]309
«Да здравствует реформа, долой Гизо!» (франц.). – Ред.
[Закрыть]. К ним пристала часть консервативной буржуази, которой наконец сделалось противно управление министров; другая часть консервативной буржуази, и самая богатая, вовсе не явилась, – она, разумеется, не хотела успеха возмущенью – но еще менее хотела стать под пули из-за Гизо. Чтоб увлечь окончательно сомневающихся, множество клубистов надели мундиры Национальной гвардии и рассыпались в рядах, они предлагали товарищам не допускать кровопролития, уговорить войско не стрелять, вытребовать реформу – они увлекли за собой отряд, с которым они прошли возле войск, приветствуя солдат, протягивая им руки с криком «A bas Guizot!». Войско пропустило их, оно было смущено, ему не хотелось драться. Все это делалось перед глазами маршала Бюжо. Между тем несколько баррикад явилось там-сям, на одной развевалось огромное красное знамя. Парижский народ отчаянно храбр и от природы стратег, он мастерски располагает свои баррикады – делает ложные, заманивает неприятеля, мучит его, утомляет, здесь берет гауптвахту, там зажигает дом, смеется из-за своей баррикады – и всякий раз оставляет ее прежде, нежели войско взойдет. Военные действия не были велики – несколько ружейных выстрелов слышались в разных сторонах, даже несколько пушечных.
Правительство было поражено изменой Национальной гвардии, хладнокровным безучастием войск, ожесточением злоумышленников. Король потребовал отставку министров. Весть об этом разослали по всему Парижу. Перестрелка почти тотчас прекратилась – это было часов пять вечера. Восстание в пользу реформы достигло своей цели, оно оканчивалось, потухало, на бульварах начали освещать домы.
Но небольшая кучка закаленных республиканцев, ждавших восемь лет восстания, работавших в тайных обществах, не затем взялась за ружья, чтоб доставить портфель Моле и маленькую реформу Франции. Они с ужасом видели, что движение, начавшееся так громадно, – движение, в которое, сверх народа, была вовлечена Национальная гвардия, оканчивается ничтожной уступкой, они очень верно оценили, что благоприятнее случая не дождешься – войско дралось нехотя, испуганное правительство было презираемо, слабо, – реформа его укрепила бы. И работник парижский не затем сошел на улицу и покинул свою работу, чтоб идти назад тем же парием, каким пришел; если ни те, ни другие не вышли сначала с криком «Vive la République!», на это было много причин. Кто знал оборот, который примет движение, темная надежда республики созрела за баррикадами, каждые четверть часа приносила ей силы. Притом же республиканцы были в страшном меньшинстве. Они испугали бы криком своим. Испугали бы даже ответственностью за такой крик. Кто пошел бы с ними? Национальная гвардия пошла бы против них. Будущее, пока не осуществится, всегда бывает достоянием энергического меньшинства. Они не смели утром говорить о республике – но теперь слабость правительства была так очевидна, волнение в народе так велико, что они начали надеяться и, разумеется, сотчаянием видели начало успокоения. С наступлением вечера по бульварам и разным улицам проходили ликующие толпы Национальной гвардии, перемешанной с народом, они весело кричали «Vive la réforme!» и были принимаемы с восторгом. Часов около десяти показалась новая густая колонна с красным знаменем, резкое пение «Марсельезы» и крики «Au palais, chez les ministres!»[310]310
«Во дворец, к министрам!» (франц.). – Ред.
[Закрыть] обратили на нее общее внимание; около колонны шли люди с зажженными факелами. Эту колонну вели самые энергические республиканцы, тут были клубисты и монтаньяры. Когда колонна поравнялась с hôtel des Capucines, где жил Гизо, она увидела, что дом окружен солдатами и бульвар перерезан. Надобно вспомнить, что по всей дороге к толпе приставали прохожие, женщины, мальчишки, так что, когда она остановилась перед солдатами, в ней могло быть, как говорят, больше тридцати тысяч человек. Останавливать тридцать тысяч человек вообще глупо, всего глупее было их останавливать в то время, как, повидимому, праздновалось примирение. Само собой разумеется, что толпа шла вперед, она просто не могла остановиться от натиска сзади. Между солдатами и передовыми завязался крупный разговор. Тут случилось одно из роковых происшествий, которые решают в один миг – то, что готовится годами, десятками лет: в жару спора один из начальников колонны выстрелил из пистолета в солдат – говорят, что это именно Лагранж, известный баррикадист в Лионе, один из радикальных представителей теперь. Колонна солдат немного попятилась, покрылась дымом, огненная полоса блеснула в ширину бульвара, раздался залп, и пятьдесят два человека упали на мостовую убитые и тяжело раненые, вопль и крик ужаса раздался в толпе, она отпрянула – – между солдатами и ею сделалось пустое <пространство> – перед фрунтом лежали несчастные жертвы, борясь в предсмертных муках. Солдаты опустили ружья, – бледные, они стояли стиснув зубы, слезы лились у них по щекам – они поняли, что совершили преступление. Офицер, приказавший сделать залп, взошел с видом безумного в café, стал оправдываться, несколько человек Национальной гвардии спасли его от верной смерти – – Но толпа не за тем отпрянула, чтоб уйти, крик мести заменил все остальные. Оскорбленный до глубины души и великий в глубине души парижский народ восстал негодующий и грозный. – «Теперь кончено», – сказала толпа, и в самом деле царствование Людвига-Филиппа было кончено. Гизо был отомщен. Да и народ отомстил за себя. Часов в одиннадцать Париж увидел страшное зрелище – по бульварам везли дроги, полные едва остывших трупов, кровь еще сочилась из ран. Время от времени бледный, растрепанный человек, стоявший на дрогах, поднимал труп молодой женщины, показывал глубокую рану и кричал: «Месть!» – ему отвечал народ, толпившийся отовсюду, криком «Aux armes!»[311]311
«К оружию!» (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Кортеж проходил по местам, занятым войском, и войско, поставленное для того, чтоб не пропускать, – молча и без команды раздвигалось и составляло почетные шпалеры. Негодование, гнев овладели всеми, все вооружалось, все сошло на улицу – дети, женщины, старики, – такого рода порывы свойственны одной Франции, они искупают бездну грехов и недостатков; одни богатые буржуа и проприетеры домов торопились затворять ворота, двери, ставни. Печальный и торжественный набат, грозный и грустный токсен раздавался издали мерно, страшно, напоминая 93 год – – всю ночь строили баррикады. На многих баррикадах явились поутру красные знамена, на некоторых кричали: «Vive la République!». Многие, увидя это знамя и услышав этот крик, оставили их. Национальная гвардия ужаснулась, она тут только поняла, чему она помогла; но движенье было слишком сильно, остановить его не могла никакая сила – Редакция «Насионаля» не верила еще в возможность республики – – народ опередил политиков и литераторов. Вся честь, вся слава принадлежат ему и его друзьям. Прежде нежели мы с ним встретимся в тронной зале – вспомним, что делалось во дворце.
Моле отказался. Поздно вечером 23 февраля король послал за Тьером. Тьер застал еще в кабинете Гизо – они раскланялись молча, как Миних с Бироном на Волге. Одилон Барро взошел в состав министерства. Тьер написал прокламацию, которую тотчас отправили в типографию. Тьер был уверен, что город успокоится, узнав, какие великие люди во главе правительства. Король отправился в той же уверенности спать. Великие, хитрые, проницательные дипломаты и дельцы! Как жалки все эти Талейраны, Меттернихи – когда народ действительно выходит на сцену, как они бледнеют и исчезают со всей премудростью своей перед его мощной простотой, – нахохотался над вами 48 год! – Гизо побоялся отправиться домой, его уложили где-то во дворце; на другое утро, ранехонько, он вышел из Тюльери – и исчез, первая весть о беглом министре была из Лондона. Просыпаясь, король услышал перестрелку. Тюльери были окружены в разных расстояниях, но со всех сторон баррикадами, – вот что сделал народ от полночи до рассвета. Встревоженный Людвиг-Филипп ждал с нетерпением действий магической прокламации Тьера; ему донесли, что ее рвут со стен. В комнатах короля суетились генералы, придворные, этикет был забыт, одни шептались, другие громко спорили. Королева, бледная от досады, советовала королю показаться солдатам и Национальной гвардии, король надел мундир, сел верхом, проехал по Карусельской площади и очень скоро возвратился уничтоженный и растерявшийся. Национальная гвардия, стоявшая для его защиты, встретила его криком «Vive la réforme!». Явился Тьер с кислым лицом, он был на улицах, видел, что он обойден, просил назначить президентом Барро – не догадываясь, что и Барро давно обойден. Король согласился. Барро сам отправился узнать действие этой новости – он надел синие очки, сел верхом и поехал к баррикадам; подъезжая, он кричал «Vive Barrot!», «Vive le roi!»[312]312
«Да здравствует Барро!», «Да здравствует король!» (франц.). – Ред.
[Закрыть] – одни не обратили на него внимания, другие советовали ехать своей дорогой, пока цел. На обратном пути его ждала, впрочем, комическая овация. Толпа каких-то женщин и пьяных бадо узнали его, окружили и понесли в Камеру – суетный старик величественно принял это торжество. – Между тем революция подвинулась на ружейный выстрел к дворцу. Часть войска, стоявшего на Карусельской площади, когда к ней подошел народ, грозя саблями и стреляя, подняла ружья прикладом вверх и без всякой команды двинулась назад с криком «В казармы!» – народ проводил их с рукоплесканием. Почти в то же время завязался отчаянный и бесполезный бой около Château d’Eau, уворот Пале-Рояля. Внутри Château было поставлено то самое войско, которое вчера дало залп у hôtel des Capucines; их уверили, что им спасенья нет, – бедные обманутые хотели кровью смыть кровь – они дрались, как львы, они почти все легли под развалившимся сводом, но не сдались. – Интересно бы знать, кому в голову пришла поэтическая мысль поставить именно этот отряд в Шато д’О.
У короля не было еще никакого плана, он ни на что еще не решался, как вдруг отворилась дверь и взошел – взошел в кабинет к королю – кто вы думаете? – Эмиль де-Жирарден. Он принес ему приятную весть, что если он не возьмет решительных мер, то через час во Франции не будет ни короля, ни королевства!
– Да что же делать? – спросил король французов у редактора «Прессы».
– Отказаться от престола, государь.
– Abdiquer[313]313
Отречься (франц.). – Ред.
[Закрыть], – повторил старик король, и перо, которое он держал, выпало у него из рук. Оно и не было нужно. Сметливый Эмиль Жирарден принес прокламацию – которую он уже велел набирать. Король был в состоянии совершенной прострации; да и было отчего; его с трона выгонял не совсем чистый журналист, известный roué и интригант, он отказывал королю от места, как будто он был корректором или протом в его типографии. Прокламацию уже печатали – король пробормотал свое согласие – истинно шекспировская сцена!
Но и новость об отречении не сделала большого действия. На одних баррикадах Жирардену не поверили, потребовали письменного доказательства, на других его прогнали, – баррикады не дворец, туда не так легко входят люди tannés[314]314
Здесь: пройдохи (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Надобно было воротиться, надобно было снова мучить не у дел состоящего короля. Людвиг-Филипп написал свое отречение и отдал его генералу Ламорисьеру. Ламорисьер поскакал к Шато д’О, где шла отчаянная битва, – он не уехал дальше первой баррикады. Молодой человек с ружьем спросил его, куда он едет и зачем, – Ламорисьер объяснил и показал ему бумагу. – «Генерал, – возразил молодой человек, – воротитесь, отреченье короля не нужно». – Ламорисьер хотел насильно проехать через баррикаду – по нем выстрелили, он был легко ранен, лошадь убита. – Подписавши отреченье, король стал готовиться в путь. Карета его не могла подъехать; на Карусельской площади убили пикера и двух лошадей – приходилось удалиться тайком, – еще одна династия бежала из этих комнат. – Жаль, что после их отъезда не срыли с лица земли Тюльери, пока есть Тюльери, все кажется, рано или поздно будет и король. – Король пошел; но вдруг воротился, вынул ключи, начал искать в каком-то ящике своего бюро каких-то бумаг, ничего не находил – досадовал – и был очень жалок. Он вышел из дворца подземным ходом, который выходит на place de la Concorde, к Сене. Две буржуазные каретки увезли короля-буржуа и его семью. Несколько кирасиров и несколько уланов Национальной гвардии проводили его в Сен-Клу, – в Сен-Клу Людвиг-Филипп хотел им что-то сказать, но речь не клеилась, он повторял: «Мне было нечего делать – я должен был – не правда ли?» (Это я слышал от офицера Национальной гвардии, его провожавшего). Жена Немурского и ее дети уехали с королем; герцогиня Орлеанская с детьми и герцог Немурский остались. Герцогиню Монпансье, кажется, забыли, ее нашел генерал Тьери бегущую по place de la Concorde – растерянную и в слезах.
Жалче, прозаичнее, безучастнее не падала ни одна монархия – у прежних монархий были приверженцы, около них было преданное дворянство, преданные воины. Людвиг-Филипп был королем буржуази – у буржуази нет преданностей, она слишком положительна. Гизо и Дюшатель поехали не для того, чтоб разделить ссылку короля, как Лас-Каз и Бертран, а потому, что они боялись галер. Гизо через три месяца после 24 февраля пустил в лондонской аристократии рукопись, в которой сваливал всю вину на Людвига-Филиппа.
Лишь только Людвиг-Филипп и его министры удалились, Франция их забыла. И Людвиг-Филипп так мало понял, так плохо знал характер народа, которым правил 17 лет, что счел нужным для полного позора обрить свои седые бакенбарды и надеть пальто английского моряка, чтоб скрыться от погони – которой за ним не было. – Misère! Доктор медицины Рош после отъезда короля подошел к Карусельской решетке и потребовал, чтоб его впустили, – решетка отворилась – Рош отправился к герцогу Немурскому и предложил ему во избежание страшного кровопролития, которое все-таки окончится взятием дворца, отдать приказ, чтоб войска отступили. Герцог повиновался.
Народ занял дворец. Молодой работник в блузе обтер сапоги об подушку трона и водрузил на нем красное знамя при криках «Vive la République!» – Это было торжественное, единственное, искреннее и откровенное провозглашение республики. Началась оргия, победители торжествовали победу – они расположились пировать, в этом доме, так дорого стоившем народу; лучшие вина были принесены из подвалов, поварам велели готовить, и повара-аристократы с тою же покорностью новому владыке принялись за вертелы. Бюсты Людвига-Филиппа, его портреты, портреты Бюжо были расстреляны, трон вырубили. – Молодой поляк М. из Познани, бывший студент берлинского университета, который с начала восстания не оставлял улицы и начальствовал баррикадой, – попросил теперь награду – везти трон Людвига-Филиппа на place de la Bastille и там сжечь – французы уступили храброму славянину эту честь[315]315
Факт, который умолчали все журналы.
[Закрыть], и он верхом на лошади, вероятно, взятой в королевских конюшнях, поехал с толпой народа предать огню этот возрождающийся феникс между мебелью. Народ ободрал бархат с трона и сделал из него фригийскую шапку для статуи Спартака. Пока часть победителей пировала во дворце, Château d’Eau был взят и горел, народ овладел Пале-Роялем – и плясал уже на площади карманьолу возле трупов, освещаемый пожаром, и выкатывая бочки вина из палерояльских подвалов. Мебель, драгоценные вещи, бронзы летели из окон. Во всем этом нет ничего удивительного, – как народу было не ненавидеть всю эту роскошь, как не обрадоваться возможности отмстить на излишних вещах – все свои лишения? Подлую и буржуазную похвалу, что народ не крал, я не повторю, потому что по себе чувствую, что я не был бы доволен, если бменя кто-нибудь похвалил за то, что я не украл ничего. И когда же люди, подвергающиеся пулям из-за своих убеждений, крадут? Каких-то бедняков, взявших себе вещицы из дворца, расстреляли – я с отвращением вспоминаю об этом бездушном педантизме. Вы тут видите влияние буржуази, которая хочет поставить выше всего религию собственности. Итак, две республиканские оргии шли буйно и весело, недоставало одного на этом празднике – дам. Они не долго заставили ждать. Между прочими тюрьмами работники отворили и С.-Лазар, где содержались бедные жертвы Венеры, искупая на хлебе и воде излишнее поклонение ей. Выпущенные из тюрьмы, они по какому-то инстинкту бросились прямо в Тюльери. Пропустивши дам, работники заперли решетку, везде расставили караул – будто король пошел почивать – но король не почивал – le roi s’amusait[316]316
король забавлялся (франц.). – Ред.
[Закрыть] – Канкан и карманьола пошли под рояли герцогини Орлеанской, работники угощали своих дам на серебре, вино лилось, дамы сняли с себя лишние части одежды – дворец был демократизирован.
Однако и я поступаю, как народ, увлекаюсь первой радостью и первым опьянением республики. – Партии, интриги не увлекались, они не устали от битвы, потому что за них дрались другие, – они не пировали, они делали свое дело, старались овладеть поскорее властью, они старались о себе. До сих пор мне не было большого труда передавать главные события 24 февраля: то, что делалось в камерах, мы знаем, – на это есть «Монитер»; то, что делалось на улице, мы знаем из «Реформы», из «Насионаля», из брошюр Пельтана, Лавирона, С.-Амана и десятка других, – мне оставалось прибавить несколько черт, слышанных мною от очевидцев, и убавить грубую лесть, с которой журналы того времени говорили о Ламартине с компанией. Этими событиями хвастались, они происходили открыто, всенародно. Остальное скрыто, спрятано, известны одни официальные последствия; едва, едва теперь приподнимается кой-где край завеса. Истина с 25 февраля была в услугах власти, ни по «Реформе», ни по «Насионалю» судить нельзя, они слишком замешаны во все. Широкая и постоянная оппозиция превосходных журналов Прудона и Торе началась с половины апреля. Изредка только какая-нибудь семейная ссора выводила на свет отдельные подробности подземной работы партий. Время истории революции 24 февраля не настало; мы слишком близко стоим к событиям и людям, мы слишком в ней. Но если нельзя писать объективную историю, то, с другой стороны, исторические очерки могут выйти живее, страстнее, – в этом своя верность, такие очерки пригодятся историку – хоть для колориту, хоть для того, чтоб знать, как события отражались на свидетелях. Сверх изустных рассказов, у нас есть богатый источник воочию совершающейся истории, беспощадно выводящей последствия, беспощадно обличающей сущность из-за фиоритуры фраз, знамен, праздников.
Утром 24 февраля немудрено было понять, что правительство пало. Редакция «Реформы» – rue J. J. Rousseau[317]317
улица Ж.-Ж. Руссо (франц.). – Ред.
[Закрыть] – и редакция «Насионаля» – rue Lepelletier[318]318
улица Лепельтье (франц.). – Ред.
[Закрыть] – были местом свидания и сборища людей, участвовавших в движении; тут они совещались, обдумывали, это были два министерства революции, – по мере того как народ побеждал, они росли в предприимчивости. Не надобно думать, чтоб главные лица, которые были на баррикадах под пулями, которые предводительствовали народом, подвергались всем опасностям открытого восстания, – принадлежали к этим двум бюро; говорят, что Ледрю-Роллен и Флокон были на баррикадах, что Косидьер дрался на улице, что и крошечный Луи Блан не отставал, но хроника молчит об их особенном влиянии на баррикадах; один Альбер мог находиться в центре революционных действий с Лагранжем, настоящими монтаньярами и членами общества des droits de l’homme. Именно оттого, что они мало участвовали на площади, у них было больше досуга обдумать и приготовить план, как завладеть движением; они, отойдя в сторону, предложили себе вопрос, на который не токмо никто не отвечал, но который никто еще не делал: «Что же теперь?» – «Реформа» – хотела провозглашения республики, «Насиональ» – довольствовался регентством и suffrage universel, потом и «Насиональ» согласился на республику, обойденный обстоятельствами. Несмотря на всю важность слова «республика», это было еще только начало ответа, знамя, заглавие. Главное решение вопроса зависело от дальнейшего определения, какую республику хотели учредить. «Насиональ» был, как и всегда, за буржуазную республику, за республику монархическую, если хотите, он хотел suffrage universel и с тем вместе хотел ему поработить Францию, он мечтал о сильном правительстве, опертом на штыки – готовые без различия разить внешнего врага и работника-социалиста, словом, он хотел республику невозможную; самолюбивый Марраст уже мечтал, как он будет первым консулом этой уродливой республики, как он заживет в Тюльери. «Реформа» стояла дальше в демократии, нежели «Насиональ», центром ее вдохновений был Ледрю-Роллен. Не думаю, чтоб он <имел> особенно новые мысли и виды, но он был человек преданный, страстный оратор и откровенный республиканец. Луи Блан представлял в этом кругу социализм – которого он в сущности никогда не понимал, его пустая книга «De l’organisation du travail» и несколько блестящих фраз составили ему репутацию. Серьезный социализм, имевший представителем мощную голову Прудона, стоял в стороне и ждал случая, где можно будет поднять речь, начать действие. «Насиональ» чувствовал, что ему на время надобно сделать перемирье с «Реформой». Мартин de Strasbourg был отправлен для переговоров, он принес свой лист Временного правительства, в котором было имя Одилона Барро. «Реформа» восстала – Одилона Барро вычеркнули. Согласились в главных лицах: Дюпон de-l’Eure, Ламартин, Араго, Марраст, Гарнье-Пажес, Ледрю-Роллен, Флокон и Луи Блан, которого не очень любили, но которого миновать было нельзя по его популярности у работников. Не замыкая, впрочем, листа, отправили печатать афиши. «Насиональ» прибавил на своих афишах еще какие-то имена; говорят, Ламартин, к которому послали печатную афишу, своей рукой приписал имя Кремье. В типографии «Реформы» напечатали прокламацию о провозглашении республики и о созвании Национального собрания – прокламации разнесли по баррикадам. В некоторых местах Национальная гвардия изодрала их – ей все еще не верилось, что она зашла так далеко. Теперь из-за кулис опять выйдемте нa сцену, но уж не на площадь, а в Камеру. Прибавим одно насчет этого самовольного распоряжения судьбами целого народа, – что, вероятно, эти люди сами не думали, какую страшную ответственность они брали на себя. Я готов верить, что половина их была добросовестна, увлечена, – но с этой минуты они должны были знать, что неудача великих дней 23 и 24 падет на них, а могли ли они добросовестно сказать, что они своими кандидатами не вносили с самого начала в правительство семена раздора, оппозиции, раздвоения: разве могло быть единство между Ледрю-Ролленом и Маррастом, между Гарнье-Пажесом и Луи Бланом, между надутым доктринером Араго и скромным работником Альбером?
Камера сидела повеся нос. Составленная из людей неблагородных и подкупленных, она боялась очень справедливо народной мести. Но народ и не думал о мести, сначала кричали «А mort Guizot!» – и то в первые минуты; мелкими плутами Камеры не занялись. Столько ли это было благоразумно, как благородно и великодушно, – это трудно решить. – Вдруг взошел Тьер, смущенный, без шляпы – «Что, вы – министр?» спрашивают его со всех сторон, Тьер качает головой и, сказавши «La marée monte, monte – monte –», исчезает. Министерские лавки пусты. Все спрашивают, где же председатель совета Одилон Барро. Барро в это время забавлялся после овации, о которой я сказал, в министерстве внутренних дел – сам по телеграфу передавал всей Франции радостную весть о своем назначении. Камера, всеми забытая, Didona abbandonata[319]319
покинутая Дидона (итал.). – Ред.
[Закрыть], предавалась совершенному отчаянию, как вдруг принесли три стула – вслед за ними явилась герцогиня Орлеанская с обоими детьми и с герцогом Немурским. Камера встретила их рукоплесканием, ей возвещают, что этот ребенок – король, что его мать – правительница. Камера кланяется и снова рукоплещет. Тронутый Дюпен предлагает записать в журнал эти рукоплескания и à propos рассказывает Камере, что они не первые, что правительница и король были с восторгом приняты на улице. Казалось, все шло как нельзя лучше. Вечный президент Камеры Созе[320]320
Созе был одно из самых комических лиц последнего времени, пристрастный, бесталанливый – он нарочно поддерживался министрами как покорное орудие. Созе был всегдашней жертвой «Шаривари», который его уморительно преследовал, между прочим, заметив, что он дурно и нечисто одевается; «Шаривари» уверял, что однажды Пакье заметил что-то странное, когда Созе ему пожал руку – и что же: у Созе между пальцами было так много грязи, что начала расти спаржа – и довольно большая.
[Закрыть] начал своим бесстрастным голосом сенатского обер-секретаря: «Господа, мне кажется, что Камера сим единодушным – –», и вдруг несчастный Созе остановился, побледнел, как полотно – – небольшая толпа вооруженных людей и несколько человек Национальной гвардии взошли в залу и в трибуны. Ламартин предлагает закрыть заседание из уважения к национальной репрезентации и к присутствию августейшей герцогини. Герцогиня встала. Ничтожный Созе не умел или не смел ей предложить провожатых; он обернулся к народу и просил его выйти, основываясь на таких-то и таких-то параграфах узаконений! Разумеется, никто не пошел вон, толпа села, ей хотелось посмотреть, что делают эти люди тут в это время. Мари предлагает учредить Временное правительство, основываясь на необходимости взять сильные меры, он находит, что нет средств вернее остановить растущее зло и обуздать безначалие – – – Эту речь, диктованную страхом, вменили Мари в достоинство; не странно ли, что 24 февраля, когда кровь еще текла на улицах, благоразумные люди уже принимали меры против будущих победителей и хотели составить правительство не для них, а против них?И кто же этого хотел? – те самые люди, которые воспользовались победой народа, для того чтоб сесть на порожний престол, – как же им было не погубить революцию? – Кремье поддержал предложение Мари. Тут явился Одилон Барро – он слушать не хотел о Временном правительстве и своей пухлой риторикой старался подействовать на Камеру с сентиментальной стороны. – «Июльская корона, – говорит он, – покоится на голове ребенка и женщины» – это очень нравится центрам, они рукоплещут. Герцогиня, снова севшая, встает и кланяется, и дитя кланяется. Герцогиня хочет говорить, и Одилон Барро хочет говорить, остановить его невозможно – он советует сохранить трон. Ему кто-то кричит громким голосом: «Трон сломан и выброшен из окон Тюльери». Легитимист Ларошжаклен иронически замечает Камере, что рассуждать о регентстве – вовсе не ее дело, что вообще депутаты «теперь ничего не значат, совершенно ничего». – Эта выходка взбесила центры, они думали, что трон может упасть, а они все же останутся. Созе сделал замечание оратору, это был его последний rappel à l’ordre! Несколько приверженцев Орлеанского дома взошли с знаменем в залу, они хотели или поддержать герцогиню, или спасти ее – появление их ничего не сделало; в то же время взбежал на трибуну Ледрю-Роллен – он с своей стороны предлагал временное правление, но не назначенное Камерой, а народом par acclamation и немедленное созвание Конвента – его речь была уже действительно сама революция на кафедре Камеры депутатов. После Ледрю-Роллена явился Ламартин; он говорил в том же смысле, посыпая цветы своего красноречия на герцогиню и робко оговариваясь, что он предлагает Временное правительство как необходимое зло, что он этим ничего не решает в будущем – – В то самое время, как он расточал жемчужины своих слов, перед дверями Камеры происходила тоже довольно красноречивая сцена. Большая толпа вооруженного народа шла по набережной, перед нею ряд импровизированных барабанщиков. Середи толпы ехала на лошади красивая, высокая женщина с красным знаменем, провозглашая направо и налево республику. Подошедши к Камере, толпа остановилась – батальон Национальной гвардии стоял на place de la Bourgogne, барабаны умолкли. «Что они там делают?» – спросила женщина у Национальной гвардии. – «Рассуждают о регентстве». «О регентстве, – кто теперь говорит о регентстве!» – заметила она с негодованием и потом, обращаясь к своим сопутникам, сказала им: «Что вы остановились, разве мы за тем пришли сюда, чтоб слышать провозглашение регентства?» – «Барабанщики, поход – в Камеру – и vive la République!» «Vive la République!» – подхватила толпа; батальон не хотел вступить в бой – и толпа взошла в Камеру, а женщина осталась верхом перед дверьми. На этот раз это был в самом деле народ баррикад, он наводнил трибуны и залу середь речи Ламартина. Взошедшие люди могли сильно подействовать на слабые нервы депутатов: все были вооружены, запачканы порохом, многие в крови, у некоторых в виде трофеев были привязаны к ружьям кивера убитых муниципалов – энергия и возбужденные битвой страсти одушевляли их лица. Двое, взошедши, прицелились: один – в президента, другой – в Немурского герцога, на всякий случай. Созе присел и спрятался за президентским местом – его с тех пор никто не видал. Депутаты центра, испуганные, искали случая куда-нибудь спастись – они рассеялись мало-помалу и пропали без вести, народ кричал «Vive la République!» и стучал оружием. Кто-то выстрелил в портрет Людвига-Филиппа. Герцогиню спасают с детьми в президентский сад, герцога Немурского запирают в какой-то канцелярии, откуда он утром спасся, переодевшись в солдата Национальной гвардии, – все это, разумеется, было излишнее, ни по чему думать нельзя, чтоб народ их перебил, – если б он хотел, возможность была полная – герцогиня проходила по длинной Salle des pas perdus, наполненной вооруженным народом, герцог Шартрский запутался в платье матери и упал, мать, увлекаемая провожатыми, не могла остановиться – его подняли и снесли. – Люди с трибун кричали Ламартину, чтоб он провозгласил республику. Ламартин медлил. – Messieurs, – начал он. – Dites «citoyens»![321]321
Скажите «граждане»! (франц.). – Ред.
[Закрыть], – кричали ему, прицеливаясь из ружья – его слова терялись в шуме. Старику Дюпон de l’Eure подали записку имен членов Временного правительства, назначенных «Насионалем» и «Реформой», его свели на президентское место и заставили читать – народ подтверждал рукоплесканием – таким странным избранием назначили: Дюпон de l’Eure, Ламартина, Ледрю-Роллена, Араго, Гарнье-Пажеса, Кремье, Мари. Народ требует вести правительство в Hôtel de Ville, толпа их подхватывает, давит, толкает, ведет – – ведет их физически так, как и нравственно, толпа была выше их и, по несчастию, ни они этого не поняли, ни она сама; почтенные члены Временного правительства не смели – за исключением Ледрю-Роллена – еще произнести слово «республика». Почему им в руки попалась судьба народа, освободившегося за минуту до того? Знали ли эти люди что-нибудь о внутренних желаниях, о нуждах этого народа, была ли у них мысль новая, плодовитая, поняли, что ли, они современное зло общественного устройства, придумали ли они средства – нет, нет и нет! Они заняли место потому, что нашлись люди довольно дерзкие, чтоб выбирать не на баррикадах, а в бюро журнала; чтоб провозглашать их имена не на месте битвы, а в побитой Камере, о которой так справедливо сказал Ларошжаклен, что она теперь ровно ничего. Народу не дали опомниться, Временное правительство явилось перед ним совсем не кандидатами – а готовым правительством, – напечатанные афиши, провозглашение имен с трибуны, имена Ледрю-Роллена и Ламартина, идущие вперед, – все это было ловко рассчитано. Как могло без этой обстановки взойти в голову людям баррикад подавать голос за такие темные посредственности, как Мари, Гарнье-Пажес? Известность Кремье как адвоката и Араго как ученого – тоже не давала им никаких прав. Ламартин и Ледрю-Роллен с первой минуты представили два полюса революции. Ледрю-Роллен хотел водворить республику во что бы то ни стало, Ламартин – обуздать революцию. Ледрю-Роллен шел в правительство, для того чтоб толкать вперед, Ламартин – для того чтоб подставить ногу, чтоб затормозить колеса. Что могло из этого выйти? Ламартин был большое несчастие для революции 24 февраля, он хотел как можно скорее порядка, покоя, выйти из революции; зачем он торопился, где, с которой стороны была такая страшная опасность, я не знаю. В этом проглянуло оскорбительное недоверие к народу и чисто буржуазное направление. Париж несколько дней был во власти народа – раскройте все журналы, какого бы цвета ни были, и найдите что-нибудь чудовищное, грабеж, убийства, экспроприацию – народ себя вел удивительно. Толпа зажигателей и разбойников, ломавших мосты по железным дорогам около Парижа, составляет исключение, – она явилась гораздо позже, и кто же подавил ее, как не тот же народ? За спасибо этому великому народу люди, нашедшие себя достойными управлять им, расточая ему лесть, убаюкивая его, как льва, – втайне ковали ему оковы, заменяя королевский штемпель словом «республика» с ее девизом, который с некоторого времени я принимаю за дерзкую иронию.








