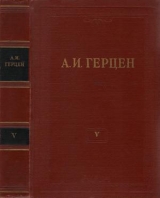
Текст книги "Том 5. Письма из Франции и Италии"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 38 страниц)
Утром, прежде нежели вы проснулись (я предполагаю, что вы нормальный человек и, следственно, просыпаетесь вовремя, т. е. никак не ранее 8 часов), платье ваше готово, вода принесена (особым водоносом); стоит одеться и идти в café, который в двух шагах, читать журналы. Но вы не любите, может быть (так, как я), рано выходить из дому, это от вас зависит, только за лень с вас надобно взять 20 фр. в месяц лишнего, и в назначенный час garçon de café[49]49
официант из кафе (франц.). – Ред.
[Закрыть] принесет вам кофейник и девочка из ближнего литературного бюро десяток журналов. Теперь к обеду. Дома готовить кушанье дорого, гораздо дороже, нежели ходить в лучший ресторан; за два франка вы будете сыты везде, прибавьте франк – и вас жажда томить не будет, вам дадут полбутылки медока (возможного). Прибавьте еще франк – все это принесут на дом. Шутка – 5 франков! Ну, а денег нет, так ходите за общий стол и обедайте за 2 фр. и даже за 1 фр. 50 с. с вином. Держать своих лошадей нелепо: превосходные voiture de remise[50]50
наемные экипажи (франц.). – Ред.
[Закрыть] и прескромные ситадины и кабриолеты к вашим услугам; цена назначена. Приехали на бал, в театр, мальчик отворяет карету и кладет под ноги доску, если грязно, за один су. Шинель ваша или пальто отдается при входе за пять су; на что же вам лакей? А кто же приведет карету? Здесь нет жандармов, громко взывающих и повторяющих вашу фамилию; такой же мальчик в блузе за су отыщет карету. Когда же крайность в частной прислуге? Вы всегда можете за делом позвать портье – затопить ли камин, бросить ли письмо в ящик; но, разумеется, он помер бы со смеху или разразился бы ругательствами, если бы вы его позвали на пятый этаж затем, чтоб он набил вам трубку или подал платок из другой комнаты; да в этом-то и состоит нравственная выгода образованной жизни, что она отучает от диких привычек. Женатому горничная также не нужна: жена портье, его дочь, сестра будет и одевать, и раздевать, и шнуровать, и сплетничать – словом, делать все необходимое. Дети требуют кухарку или повара, за ними нужна нянька; но нет необходимости их не отдавать в пансион; для большинства детей, разумеется, лучше, чтоб они были в пансионах, нежели свидетелями всего, что делается под родительским кровом.
Из этого вы видите, что без частной прислуги обойтись можно… Вообразите теперь спокойствие такой жизни; она становится мужественнее, чище; вообразите удовольствие, приносимое отсутствием лишнего человека, чуждого, постороннего, бесстрастного свидетеля всех ваших дел.
Постскриптум мой я бы посвятил М. П. Погодину, так много в нем франков и сантимов; но ведь я со стороны дороговизны, я рад ей, я со стороны «payez, messieurs, si vous êtes assez riches»[51]51
«платите, господа, если вы достаточно богаты» (франц.). – Ред.
[Закрыть], a утопия M. П. – жизнь бессребренная, т. е. не тратящая серебра; он ненавидит алчность ближнего к деньгам, он и дальнему Лондону загнул: «Марфа, Марфа, печешися о мнозе!».
Письмо третье
Париж, июня 20 1847 г.
Если я вас огорчил в прошлом письме моими замечаниями о парижских театрах, то постараюсь несколько утешить теперь; на дворе идет мелкий дождь, мокрый солдат, в красных панталонах, с прекислой рожей, прижался к будочке у стены Elysée Bourbon, и на сердце что-то тяжело, – самые счастливые условия для критики доброй, все видящей в розовом свете.
Само собою разумеется, что не все же пошло на парижских сценах, как вас уверяет второе письмо; я решительно не согласен со вторым письмом. «В семье не без урода», – говаривал часто один добрый чиновник, рассказывая, что его племянник до того пристрастился к наукам, что вышел в отставку. Вот, для примера, хоть бы и «Парижский ветошник» Ф. Пиа, которого дают беспрестанно и все-таки желающих больше, нежели мест в театре Porte-St.-Martin. Конечно, многие ходят для Фредерика Леметра, но в пошлой пьесе Фредерик не мог бы так играть. Он беспощаден в роле «ветошника» – иначе я не умею выразить его игры; он вырывает из груди какой-то стон, какой-то упрек, похожий на угрызение совести. Королева Виктория спросила Леметра, после нескольких сцен, сыгранных им из драмы Пиа на Виндзорском театре, глубоко тронутая и со слезами на глазах: «Неужели в Париже много таких бедняков?» – «Много, в. в., – отвечал Леметр со вздохом. – Это парижские ирландцы!»
С первого явления пьеса настроивает вас особенно приятно. Зимняя ночь, сбоку Аустерлицкий мост, каменная набережная Сены тянется перед глазами, два фонаря слабо освещают берег, за рекой видны домы, лес труб, которые придают Парижу его оригинальный вид, кой-где мелькают огоньки. На скамье сидит оборванный человек; из его слов видно, что он совершенно разорился, принялся было за промысел ветошника, но и это не идет. Непривычный к нищете, он решается броситься в Сену. Но является другой ветошник с своим фонарем и сильно выпивши (Леметр); он в нищете – как рыба в воде, поет песни, покачивается и уговоривает своего товарища не бросаться в воду. «В газетах будут говорить и имя напечатают, с разными неприятными рассуждениями»; то ли дело с горя придерживаться синего и горького trois-six, fil-en-quatre[52]52
пятидесятиградусной водки (франц.). – Ред.
[Закрыть] и ходить к Paul Niquet. По несчастию, тот не восхищается заведением Paul Niquet и предпочитает смерть водою смерти спиртом. Пьяница сердится и уходит, говоря ему, что, если ему очень хочется, пусть себе топится. Тот бы и утопился без этой встречи, но, развлеченный ею, он подумал, подумал – да и остался. Но что же он будет делать с мрачной злобой, с отчаянием, с недостатком мужества? Он сам не знает; но вот идет commis de bureau[53]53
чиновник (франц.). – Ред.
[Закрыть], с портфелем… чего тут думать… хвать его дубиной по голове, тот растянулся, бедняк его докончил, взял деньги и давай бог ноги. Тишина. Фонари так же горят, труп валяется на тротуаре, через минуту идет молча, мерными шагами рунд, видит мертвое тело и останавливается. – Вот каннибальский пролог, которым автор вводит вас в мир голода и нищеты, роющийся под ногами, копающийся над головой, – мир подвалов и чердаков, мир грустного самоотвержения и свирепых преступлений.
Проходит несколько лет. Сцена представляет верхний этаж, нечто вроде чердака; с одной стороны каморка, в которой при тоненькой свече шьет бедно одетая девушка платье; с другой – над лестницей догадливый проприетер выгадал нечто вроде полатей, вроде балкона, клетки, большого короба, – старик-ветошник спит совсем одетый на койке; это его комната. Девушке грустно и тяжело, бедность ее гнетет, она сирота… работа, работа и вечная работа из-за куска хлеба, никакой радости, никакого утешения! Она кончила платье, платье пышное, богатое; счастливица какая-то будет его носить, поедет в нем в театр, в оперу, а она будет шить что-нибудь другое в той же каморке, в печальном уголку своем, – и будто можно так жить в 18 лет и с французской кровью в жилах! Мария примеривает платье, чтоб узнать, нет ли складок… дитя, она хитрит с собою: ей просто хочется увидеть на себе такой наряд; оделась – к лицу ей платье, и она чуть не плачет; вдруг раздается карнавальная музыка, шум, хохот, маски идут мимо, потом шум на лестнице, и несколько швей, одетых дебардерами и гусарами, врываются в ее комнату. Мария в прекрасном платье… вот чудо, вот прелесть, в оперу, в оперу!.. Она не хочет, т. е. она хочет, но что-то страшно, она никогда не бывала… «Они будут потом ужинать, их звали, будут есть омара и мороженое» – она едет. А ветошник в это время встает, зажигает свой фонарь и идет, кряхтя, на работу – подбирать остатки, обглодки жизни, пронесшейся накануне; ночь – его юбилейный день.
Сцена меняется, один из кабинетов Maison d’Or; камин горит, лампы, свечи, зеркала – блеск такой, посетителей много; кто воротился из оперы еще в маскарадном платье без маски, кто сидел тут целый вечер, одни заказывают ужин, спорят о блюдах, другие требуют вина; какой-то молодой человек, развалясь с сигарой на кресле, философствует, все ждут дебардеров; вот и они – веселые, живые, кто садится на стол, кто полькирует, кто пьет. Их обнимают, их угощают, с ними любезничают – так, как вы, mio caro[54]54
милый мой (итал.). – Ред.
[Закрыть], знаете очень хорошо, и так, как вы, cara mia[55]55
моя милая (итал.) – Ред.
[Закрыть], никогда не узнаете. Но наша бедная девушка, в первый раз попавшаяся в такую компанию, перепуганная, не знает, что делать, она инстинктом поняла оскорбление, поняла что-то неловкое, дурное во всем этом, она взволнована. Сначала ее не замечают, потом добрались и до нее, начинают преследовать, интриговать, требуют, чтоб она сняла маску; она не снимает; маску срывают, – робкая и пугливая, она не знает, что делать. По счастию, философ с сигарой защитил ее от диких выходок своих товарищей; его поразил невинный и страждущий вид девушки, он даже взялся проводить ее до дому. И вот опять ее комната на сцене; она еще не возвращалась, какая-то женщина в салопе приходила тайком, пошныряла в комнате, потом ушла. Является и Мария, расплаканная и огорченная; сверх всего остального, платье залито, изодрано. Ну, вот ей и опера, и этот шум света, о котором она мечтала; раскаяние, стыд и горе – вот что осталось от всего. В порывах негодования и досады она решается лишить себя жизни, у ней никого нет на белом свете, кроме старого ветошника, друга-соседа, соседа-отца. Она пишет к нему записку, кладет ее ему на стол и приготовляет все нужное для угара; но вдруг раздается крик новорожденного… она смотрит – на ее кровати подброшенное дитя. Вы знаете великую физиологическую связь между женщиной и ребенком. Мария решается жить, потому что ей некуда деть ребенка… не покинуть же его, беспомощного, слабого, так. Между тем и старик вскарабкался в свою клетку, с корзинкой всякой дряни, с костями, которые перешли от барина к слуге, от слуги к собаке, от собаки достались ветошнику; но на этот раз находка была получше: père Jean[56]56
папаша Жан (франц.). – Ред.
[Закрыть] нашел десять тысяч банковыми ассигнациями; старик мечтает о награде, которую дадут ему, когда он возвратит деньги, – вдруг ему попадается записка Марии, он бежит к ней, и что же? – находит ее с новорожденным. «Так вот оно что!» – и он, как громом пораженный, падает на стул.
Да что у него за отношения к Марии, что он на старости лет влюблен в нее, или что за странная дружба седого старика с восемнадцатилетней девушкой? Он влюблен в нее, он любит ее как отец, он любит ее как друг; беспредельно нежное чувство его к Марии совершенно понятно, особенно понятно во Франции, всего понятнее в Париже. Бедные люди в Париже иногда впадают в какую-то одичалость, в кретинизм даже, особенно приходящие в Париж искать работы – все эти савояры, оверньяты; но это исключение – исключение, к которому принадлежат уличные нищие. Собственно парижские бедняки имеют, сверх затаенного негодования, голову, поднятую вверх, они психически развиты гораздо более, нежели вы предполагаете в этих организациях, бледных от дурного воздуха, от гнетущей нужды, от беспрерывных лишений, от зависти… да, от зависти!.. («Ну, уж это скверно!» Разумеется, любезный моралист, что же вы покраснели? Надобно уметь довольствоваться голодом, ходя мимо Шеве)… В душе их есть что-то верно чувствующее, метко понимающее и притом беспредельно грустное и нежное. Чистота и нравственность далеко не чужды им; разврат имеет свои пределы, опускайтесь по лестнице общественных положений, вы будете с каждым шагом находить более и более пороков и гадостей; но опуститесь на самое дно, вы найдете столько же добра и нравственности, сколько падения и преступного; разврат самый гнусный – принадлежность низшего слоя буржуазии, а не народа, не работника. Знаете ли, что народ, что бедняки берегут свою репутацию, что они редко протянут руку прохожему, а если и протянут, то не унижаясь, что они не всегда возьмут на водку и почти никогда не просят. Это не англичане, не немцы, – это парижане.
Парижский воздух – великое дело, он во все шесть или семь этажей, в чердаки и подвалы, в антресоли и первые этажи, в трубы и щели дует одним и тем же; буржуазия закрывает ставни, конопатит дыры от него; но бедняк не прячется, и он ему навевает разные мысли; ветошник, найдя минуту покоя, вытаскивает вчерашнюю газету и читает, закусывая черствым хлебом. Масса стремлений, понятий и мыслей, проникнувшая в низшие классы и поддерживающая лихорадочное и болезненное расположение духа, чрезвычайно велика; она-то и есть главная хранительница их нравственности; теряя ее, бедняки впадают в страшную жизнь «парижских тайн», с нею они типы героев Ж. Санд. Такова Мария, но ведь и père Jean таков, ведь и это чисто парижский продукт, «гриб, выросший на парижском навозе»; его колыбель, родина, училище – улица, на которую его выбросили тотчас после рождения; добрые люди не дали умереть с голоду, и он остался в живых по насмешливой прочности и упорности жизни там, где жить невозможно. Он и рос кой-как на улице, разумеется, ремеслу никакому не научили, кому до него дело… вырос наконец, сделался ветошником, пропивал все вырученное, потом бросил trois-six[57]57
пятидесятиградусную (франц.). – Ред.
[Закрыть] и так вжился всвою долю, что и не ропщет, ему кажется совершенно в порядке зажечь ночью фонарь и идти подбирать тряпки и лоскутья. Он отроду не видал поля, зелени, он жил, как мокрица на сырых каменных стенах, и ползал по ночам по узким, темным переулкам. Семьи у него не было, он слишком беден, чтоб иметь семью; любить ему состояние не позволяло. Недаром однакоже père Jean лет шестьдесят таскался по улицам и смотрел на это многоразличие движущейся жизни; он философ, он мудрец, а главное – он характер. Встретившись на этом же краю бедности, на котором сам стоял, с Марией, он тотчас понял, какого закалу эта девушка, и он полюбил ее всею той любовью и всеми теми любвями, которых не было у него в жизни; у него явилась дочь, друг. Мария – его семья, его отдых, единственное человеческое утешение, она его поэзия; его trois-six, его примирение с жизнию, – ответ на все то, на что обстоятельства не дали ответа, а парижский воздух дал вопрос. Он стал ее сторожем, ее хранителем; разумеется, новорожденный поразил старика, так вполне веровавшего в ее чистоту, в ее откровенность. Дело объяснилось; но ребенок вовлекает опять в траты, ему надобно молоко, средств нет, десять тысяч лежат неприкосновенными, о них и думать не смеют. Мария решается просить дочь барона, на которую она работает, чтобы она простила ей и не заставляла бы зарабатывать испорченного платья.
В пышной гостиной сидит барон с дочерью; он что-то не в меру беспокоен, она не в меру грустна, а тут эта девчонка с вздорными требованиями, да еще сама говорит, что ей деньги нужны для ребенка. – «Какого ребенка?» – «Мне подкинули». – «Когда?» – «12 февраля». Барон, знающий жизнь, начинает журить девушку, без обиняков говорит, что это ее ребенок, что он ей ничего не даст, что он не поощряет беспорядков и распутства, наконец, бранит ее, что она смела его дочери говорить о таких непристойностях. Мария уходит, взволнованная и удивленная. Отец в бешенстве, дочь смущена; дело становится ясно: 12 февраля родила она; отец, чтоб спрятать концы в воду, дал десять тысяч франков доброй и услужливой повивальной бабке г-же Потар, чтоб она уничтожила, сюпримировала ребенка; у г-жи Потар сердце нежное, нервы слабы до того, что она не могла подняться до высоты задачи, которою ее почтило доверие барона: она не убила ребенка, а подбросила его бедной девушке. Второпях деньги были потеряны (и père Jean их нашел). Барон делает строжайший выговор г-же Потар и дает еще 10 тысяч франков, чтоб радикальнее сбыть с рук ребенка… Ребенок пропал, и пока Мария в отчаянии не может понять, что с ним сделалось, является полиция. «Мария Дидье, вас обвиняют в детоубийстве». – «Меня?» – спрашивает испуганная девушка. «Вашего ребенка нашли утопленным в канаве». Дикий крик вырывается из уст Марии в ответ на страшную весть и на гнусное обвинение. Нервы г-жи Потар оказались на этот раз исправнее.
Мария любима, любима нежно, страстно молодым человеком, который проводил ее с бала; он (как непременно воображают нужным писатели французских пьес) жених бароновой дочери. Но что ему до нее со всем ее богатством? Он нашел ту деву, о которой мечтал, он узнал Марию, изучил ее, он хочет жениться на ней. – Погодите, молодой человек, ваша невеста, ваша неземная дева в толпе колодников, развратниц, в тюрьме; ее судят за детоубийство, ее имя попало уже в «Gazette des Tribunaux», и разнеслось от кафе до дворцов, и послужило темой моральных рассуждений для толстых мещан и жирных мещанок.
Ветошник не спит. Объявлено в афишах, что 12 февраля потеряны 10 т. фр. билетами, ночью в квартале Saint-Lazare, и что нашедший может явиться к г-же Потар, повивальной бабке, за приличным награждением. «Это неспроста», – подумал père Jean, надел на себя лучшее платье, старый фрак, который ему не впору, купленный где-нибудь на толкуне, панталоны с заплатами и отправился к г-же Потар. Тут вы видите другую сторону бедняка – хитрость, уменье владеть собою, непреклонную, неуступчивую волю, свойства, столько же необходимые бедняку, как казаку на кавказской границе: тот и другой беспрерывно лицом к лицу с хитрым и злым врагом. Леметр в этой сцене удивителен. Père Jean успел выманить у Потар доказательство, что ребенок родился от бароновой дочери. Теперь он явится во весь рост обвинителем. Но знаете ли, кто барон? Барон – человек, совершивший убийство на Аустерлицкой набережной. Он богатый и сильный, не соперник ветошнику; ветошник обманут (сцена неловкая, трудная для актера и скучная для зрителя), мало того – отдан под суд, как находящийся в сильном подозрении убийства: у него нашли портфель с именем убитого. Все в порядке, как надобно было ожидать, но тут нелепая сцена в тюрьме, украденная из Шиллеровой пьесы «Коварство и любовь», где Вурм заставляет писать Луизу; барон уговоривает Марию для спасения молодого человека, за которого он хотел выдать свою дочь, принять на себя преступление, обещаясь спасти ее после сентенции; молодой человек остался верен, остался убежден в ее невинности, непоколебим в своей любви… вдруг сознание! Мария присуждена к ссылке. На сцене судебное место, у дверей сидит между двумя солдатами ветошник, он успел одичать – что-то похож на зверя. На улице разносчик кричит: «Marie Didier, infanticide, avec des détails intéressants… cinq centimes! Un sou!»[58]58
«Мария Дидье убила своего ребенка… любопытные подробности… пять сантимов! Одно су!» (франц.). – Ред.
[Закрыть] Старика начинают допрашивать, но он о себе и говорить не хочет: он умоляет разобрать дело Марии, его не слушают, ему велят молчать, он плачет, он рвет свои волосы; он, никогда не становившийся на колени, является перед судьями, судья приказывает муниципалу выбросить его за дверь – la toile, la toile!..[59]59
занавес, занавес!.. (франц.). – Ред.
[Закрыть] Чего еще?.. Но Пиа прибавил мелодраматическую развязку. Пьесу он этим сгубил и растянул, Леметру доставил еще удивительную сцену с г-жой Потар, а публике примиряющий, услаждающий финал в буржуазном духе[60]60
Я говорил об этом Ф. Пиа, он совершенно со мной согласен, но заметил, что я не знаю французской публики, – что пьеса пала бы без утешительного окончания, – что французы не любят выходить из театра avec un sentiment pénible. Я думаю, что Ф. Пиа прав! (1852).
[Закрыть].
Если вам однакож столько же надоело слушать о ветошнике, сколько мне говорить, то я не вижу причины, отчего не кончить, т. е. не начать чего-нибудь другого. Да и что такое Porte-St.-Martin? Пойдемте в Palais-Royal, но… увы! Palais-Royal перестал быть сердцем Парижа с тех пор, как из него извели (как из Берлина впоследствии) лучшее население его. Он стал слишком нравственен, слишком добродетелен. Париж переехал из него. Париж начинается, по словам «Шаривари», с бульвара des Capucines и окончивается Maison d’Or-ом, т. е. Париж – Итальянский бульвар. «Есть, – прибавляет ученый издатель, – баснословные слухи о каком-то бульваре Пуасоньер; но кто же знает о его существовании? Что же касается до бульвара Бомарше, это просто полицейская выдумка, нарочно распущенный слух». Но делать нечего, пойдемте в Palais-Royal, и именно в Théâtre Français.
Сей кубок мы минувшим дням!..
Théâtre Français познакомил меня с одним драматическим автором, которого я не знал… с Расином. «Неужели вы его прежде не читали?» – спрашиваете вы, краснея за меня. – «За кого же вы меня принимаете?»
Я его твердил на память лет десяти, а потом читал лет пятнадцати; но это уже было поздно. Имев счастие завершить начальное образование под маханье «Московского телеграфа» и под теорию российского романтизма, я посматривал свысока на человека трех аристотелевских единств, – человека, говорящего «vous»[62]62
вы (франц.). – Ред.
[Закрыть] и «madame» устами гомеровских богатырей. Немецкая эстетика убедила меня, что во Франции искусства никогда не было, что собственно искусство может цвести в Баварии, в Веймаре, – словом, от Франкфурта-на-Одере до Франкфурта-на-Майне. А потому и Расина читал я больше для того, чтоб вполне понять красоту трагедии Гувальда и Мюльнера. Наконец я увидел Расина дома, увидел Расина с Рашелью – и научился понимать его. Это очень важно, более важно, нежели кажется с первого взгляда, – это оправдание двух веков, т. е. уразумение их вкуса. Расин встречается на каждом шагу с 1665 года и до Реставрации; на нем были воспитаны все эти сильные люди XVIII века. Неужели все они ошибались, Франция ошибалась, мир ошибался? Робеспьер возил свою Елеонору в Théâtre Français и дома читал ей «Британника», наскоро подписавши дюжины три приговоров. Людовик XVI в томном и мрачном заточении читал ежедневно Расина с своим сыном и заставлял его твердить на память… И действительно, есть нечто поразительно величавое в стройной, спокойно развивающейся речи расиновских героев; диалог часто убивает действие, но он изящен, но он сам действие; чтоб это понять, надобно видеть Расина на сцене французского театра: там сохранились предания старого времени, – предания о том, как созданы такие-то роли Тальмой, другие Офреном, Жорж…
Актеры с некоторой робостью выступают в расиновских трагедиях, это их пробный камень; тут невозможно ни одно нехудожественное движение, ни один мелодраматический эффект, тут нет надежды ни на группу, ни на декорации, тут два-три актера – как статуи на пьедестале: все устремлено на них. Сначала дикция их, чрезвычайно благородная и выработанная, может показаться изысканной, но это не совсем так; торжественность эта, величавость, рельефность каждого стиха идет духу расиновских трагедий. Пожалуй, некоторые позы на парфенонских барельефах можно тоже назвать изысканными, именно потому, что ваятели исключили все случайное и оставили вечные спокойные формы; жизнь, поднимаясь в эту сферу, отрешается от всего возмущающего красоту ее проявления, принимает пластический и музыкальный строй; тут движение должно быть грацией, слово – стихом, чувство – песнью.
Вы более любите иной мир – мир, воспроизводящий жизнь во всей ее истине, в ее глубине, во всех изгибах света и тьмы, – словом, мир Шекспира, Рембрандта, – любите его, но разве это мешает вам остановиться перед Аполлоном, перед Венерой? Что за католическая исключительность! Пониманье Бетховена разве отняло у вас возможность увлекаться «Севильским цирюльником»?
Входя в театр смотреть Расина, вы должны знать, что с тем вместе вы входите в иной мир, имеющий свои пределы, свою ограниченность, но имеющий и свою силу, свою энергию и высокое изящество в своих пределах. Какое право имеете вы судить художественное произведение вне его собственной почвы, даже вне исторической, национальной почвы? Вы пришли смотреть Расина – отрешитесь же от фламандского элемента: это отрасль итальянской школы; берите его таким, чтоб он дал то, что он хочет дать, и он даст много прекрасного. Конечно, он не удовлетворит всему, чего жаждет ваша душа, но позвольте же еще раз спросить: а весь греческий Олимп, а все греческие типы, статуи, герои трагедий удовлетворяют вас? Нет, нет и нет! Я это испытал на себе. В греческих статуях везде выражается спокойное наслаждение, торжество меры, торжество равновесия, торжество красоты, но с тем вместе вы видите, что покой достигнут, потому что требование было не полно, потому что олимпийцы удовлетворялись немногим. Одно из величайших достоинств греческого ваяния – полнейшее отрешение чувственной формы от всего чувственного, Венера Медицейская так же мало говорит чувственности, как Мадонны Рафаэля; но зато в греческом искусстве нет того знойного сладострастия, которое мы находим, например, в страстных глазах, особо рассеченных и суженных к вискам, египетских изваяний. С другой стороны, в греческом искусстве нет и не могло быть элемента, развитого миром христианским, – элемента романтического, того сосредоточенного в духе, того глубоко страдальческого, неудовлетворенного, жаждущего, стремящегося, который вы можете вполне изучить в комнатах Катерины Медичи, где расставлены испанские картины. Для греков мы делаем почетное исключение, мы их судим как греков в их сфере, будемте так же судить Расина, Корнеля – обогатимте себя и ими.
Что же вам сказать о самой Рашели? Фельетоны всех газет давно все рассказали. Она нехороша собой, невысока ростом, худа, истомлена; но куда ей рост, на что ей красота, с этими чертами, резкими, выразительными, проникнутыми страстью? Игра ее удивительна; пока она на сцене, что бы ни делалось, вы не можете оторваться от нее; это слабое, хрупкое существо подавляет вас; я не мог бы уважать человека, который не находился бы под ее влиянием во время представления. Как теперь вижу эти гордо надутые губы, этот сжигающий, быстрый взгляд, этот трепет страсти и негодованья, который пробегает по ее телу! А голос – удивительный голос! – он умеет приголубить ребенка, шептать слова любви и душить врага; голос, который походит на воркованье горлицы и на крик уязвленной львицы. Она может сделаться страшна, свирепа… до «ехидного выражения»[63]63
Как бы я желал ее видеть, когда она, разъярившись на Верона, – сказала ему, что он плут. – «Сударыня, – отвечал он, как сам рассказывает в своих записках, – я еще ни разу не слыхал, чтоб кто-нибудь меня так назвал». – «Ну вот вам и случай услышать в первый раз!» – возразила Рашель. (1852)
[Закрыть]. Рашель составляет средоточие трагической труппы, она идеал, которому подражает старый и малый, мужчины и женщины… до смешного; вся труппа французского театра оттопыривает губы, как она, все бассы и дишканты стараются говорить ее голосом.
Сестра ее Judith очень мила. Она не красавица; во Франции вообще нет красавиц, но ее gentillesse[64]64
миловидность (франц.). – Ред.
[Закрыть] совершенно французская, несмотря на то, что имя напоминает «почтенного фельдмаршала Олоферна» и невежливый поступок с ним одной дамы.
Да какая же это исключительно французская красота? Она чрезвычайно легко уловима: она состоит в необыкновенно грациозном сочетании выразительности, легкости, ума, чувства, жизни, раскрытости, которое для меня увлекательнее одной пластической красоты, всепоглощающего изящества породы, античных форм итальянок и вообще красавиц.
Быть красавицей – несчастие, красавица – жертва своей наружности, на нее смотрят как на художественное произведение, в ней ничего не ищут далее наружности. Французская красота чрезвычайно человечественна, социальна; она далека от германо-английской надтельности, заставляющей проливать слезы о грехах мира сего, о слабостях его, толико сладких, она также далека и от андалузской чувственности, от которой сердце замирает и захватывает дух. Она не в одной наружности, не в одной внутренней жизни, а в их созвучном примирении. Такая красота – результат жизни, – жизни целых поколений, длинного ряда влияний органических, психических и социальных; такая красота воспитывается веками, выработывается преемственным устройством быта, нравов, достается в наследие, развивается средою, внутренней работой, деятельностию мозга, – такая красота факт цивилизации и народного характера. Изредка встречаешь подобную красоту между польскими и русскими аристократическими дамами, и это, по-моему, высокое свидетельство в пользу славянской крови. Вы не обижайтесь, мы потому изредка находим такую красоту у нас, что число женщин, призванных к развитию, гораздо ограниченнее. Кто не замечал, насколько женщины в нашем народе хуже мужчин? Женщина в крестьянстве слишком задавлена, слишком работница, слишком безлична, слишком «баба», чтоб быть красивой. Как только переедешь границу, бросается в глаза некрасивость немецких крестьян и улучшение женщин, особенно по городам; этому много способствует, между прочим, уменье держаться; самая беднейшая горничная не выйдет на улицу не пригладивши волос и не оправившись; я не видал растрепанных голов, расстегнутых платьев, цинизма женской нечистоплотности с тех пор, как расстался с псковскою гостиницей и с жидовскими станциями в Ковенской губернии[65]65
Тогда я еще не был в Англии. (1858).
[Закрыть]. Любовь к опрятности показывает, как уж нам случалось заметить, старую цивилизацию и уважение к себе, чувство собственного достоинства и, следственно, понятие о личности; я, разумеется, говорю не об отвлеченном понятии личности и ее гражданских правах, а о том инстинктуальном понятии, которое так очевидно в самых низших классах европейских государств, совершенно независимо от их политического устройства, – в Испании, в Англии, в Италии и во Франции.
Но воротимся к театрам: в том же Palais-Royal, где во французском театре Рашель потрясает сердце, Левассор потрясает в театре Пале-Рояля всю грудь хохотом без конца, хохотом до слез, до истерики. Левассор – полнейшее выражение французской веселости, беззаботности, простодушной дерзости, острого ума, шалости, gaminerie[66]66
мальчишества (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Что за быстрота, что за неуловимость, что за богатство средств! Левассор так же принадлежит, так же необходим Парижу, как Шеллинг или Гегель Берлину. Все, что вы видели с неудержимым смехом в картинах Гаварни, все, что заставляет хохотать в «IIIаривари», все это перенесено в действие, оживлено Левассором. И в этом отношении он мне нравится гораздо больше Буффе, больше старика Верне, больше талантливого Арналя; те – превосходные актеры всякой сцены, и этим, может быть, выше Левассора, но тем Левассор и лучше их, что он актер французский – да нет и то нет, а парижский, актер Пале-Рояля: дерзость, наивность, непристойность, грация, канкан, фейерверк! И каким лицом судьба наградила этого человека: худой, с острыми маленькими чертами, за которыми спрятано втрое больше мускулов, нежели известно в анатомии Бона, и все они двигаются во все четыре стороны; от этого он делает из лица все, что хочет, так, как фокусник из складной бумаги, – то сделает сапог, то паром, то жабо. Рассказывать его игру невозможно, ее надобно видеть, и мало того – надобно войти во вкус, т. е. привыкнуть, чтоб ловить несущийся на всех парах train de plaisir[67]67
Здесь: веселый вихрь (франц.). – Ред.
[Закрыть] острот, шалости языка, глаз, голоса, ног.
От Рашели мы перешагнули к Левассору, от слез участия к смеху до слез, теперь перейдем от этого веселого смеха к смеху презрения и негодования, от милых шуток и потока каламбуров Левассора к пошлым и тяжелым фарсам, в которых актеры старой школы друг друга ругают, друг друга надувают – для общественного удовольствия. Тут на первом плане модная комедия «Эмиль Жирарден и продажное пэрство».
Как вспомню, как я на бенефисе Жирардена сидел в трибуне с 10 часов до половины седьмого, поддерживая двух французов, одного англичанина, свою собственную шляпу и бороду соседа с правой стороны, опираясь притом на почтенного посетителя, сидевшего передо мною, и все это в половине июня, градусов в пятьдесят жара, так и захочется опять выйти на чистый воздух… – Ну, и выйдемте!








