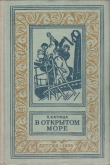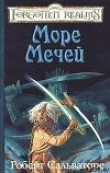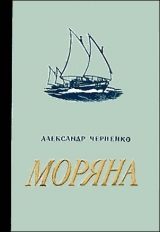
Текст книги "Моряна"
Автор книги: Александр Черненко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Глава одиннадцатая
Моряна, истекая просоленною влагой, минуя плывущие по морю ледяные острова, мчалась к обширным прикаспийским степям. Здесь, у морского прибрежья, уже не было льда.
Ветер с моря, сотрясая маяк и жадно слизывая с песчаных морских берегов редкий и бурый снег, со свистом несся дальше по закованной еще льдами, пустынной волжской дельте.
Волжские льды быстро теряли глянец, они набухли и потускнели. Пушистый иней каждое утро густо белил камыши, ивовый кустарник, редкие ветлы.
Все чаще и чаще подымались на разведку из преддельтовских просторов небольшие партии дикой птицы; покружившись над ледяными ильменями и протоками, птица улетала назад, на временные прикаспийские кочевья... Здесь, на обширных берегах, опускаясь на кормежку с далекого южного пролета, птица пестрела огромной живою массой точно так же, как неисчислимые косяки рыбы стояли сейчас неподалеку от морского берега, готовые ринуться в волжские банки и протоки. Птица, как и рыба, выжидала оттепели – того неуловимого перелома в природе, который вот-вот должен двинуть на север эти полчища уток, лебедей, гусей, цаплей... Дельта, изрезанная вдоль и поперек тысячами протоков, ериков, ильменей и банков, ждала влажного, с терпким рассолом, морского ветра, чтобы быстрей освободиться ото льда, который мешал входу из Каспия миллионным полчищам рыбы для нереста. Рыбе, что приходила сюда каждую весну из морских глубин, нужны были тепло, солнце.
Третьего дня солнце, прорвав наконец тяжелую тучевую завесу, обрушилось потоком горячих лучей и целый день огненно жгло, целый день над приморьем бродили серебряные туманы.
Вчера солнце только к вечеру вырвалось из-за низко и грузно ползших туч и повисло в закате огромным и холодным малиновым шаром. А сегодня, с промозглой зарей, окутанной в густой, парной туман, опять заштормовала моряна, поливая дельту пронзительной сырью...
Последние дни волжский лед в приморье начал сдавать: он сухо трещал, грозно гукал, – эхо долгим рокотом носилось по дельте.
Недавно громыхнуло особенно гулко, и несколько встревоженных ловцов Островка заспешили на берег.
Моряна валила их с ног, вгоняла обратно в дома; ловцы, преодолевая ветер, двигались боком, хватались за камышовые плетни, закрывали рукавами лица.
Во дворах и проулках ветру не было простора, и он отчаянно метался, вихрил, валил плетни на землю, выдавливал стекла, сотрясал дома. Припадая к земле, ловцы пробирались на берег: там моряна шла тяжело, но ровно, – можно было, широко расставив ноги, выдержать любой ее напор.
Молодой Турка, наклонив голову, упрямо двигался посредине улицы.
Вдруг с соседнего дома моряна сорвала крышу, высоко подбросила ее, перевернула и, покачав, словно лодку на волнах, швырнула на берег, крыша упала на ребро; ветер снова подбросил ее, потом метнул в проток и стремительно покатил по льду. Через минуту крыши в протоке уже не было – ветер вбил ее в камышовые заросли противоположного берега.
Яков в удивлении покачал головой:
– Эка, балуется...
На берегу стояли ловцы. Они о чем-то говорили, спорили, размахивали руками.
– Здорово, Яшка! – закричал навстречу Турке Павло Тупонос, стараясь пересилить ветер.
Яков посмотрел на его длинные руки и примятый, иссиня-красный нос. Подойдя ближе к ловцам и твердо расставив ноги, он громко ответил Павлу:
– Здорово!
Макар – низкорослый, в мохнатой шапке ловец, которого все называли за злой язык Контриком, – отрывисто и сердито выкрикивал Косте Бушлаку:
– А ловить чем?.. Чем ловить, спрашиваю? Штанами, что ли? А может, подштанниками?..
Макара перебил Антон:
– Ты, Костя, очень много говоришь. Смотри-ка: ни сетей, ни пряжи...
Он тоскливо посмотрел на стройный, запушенный ослепительно белым инеем камыш, который, точно зубчатый частокол, выстроился по противоположному берегу протока.
У Антона было темнокожее жесткое лицо, иссеченное бесчисленными морянами.
Елена его все болела, продолжая недвижно лежать на кровати; она каждый день требовала еды, и не только хлеба, но и молока, масла, яиц. И сейчас вот Антон ушел из дому за молоком для жены. Он слоняется уже несколько часов по поселку. «Может, забудет про молоко, чаю напьется», – думал ловец, вспоминая, как быстро тают, словно льды в весну, остатки скопленных им денег на обзавод бударкой и сетями. А тут еще Дойкин не развертывает свои дела, как это следовало бы, – все боится чего-то Алексей Фаддеич: события в городе, наверно, сильно напугали его.
Антон спохватился, вспомнив, что стоит на берегу с ловцами, и сосредоточенно вслушался в слова Кости Бушлака.
– Объединяться надо на совместный лов... – Кутаясь в тулуп, Костя отворачивался от ветра и продолжал: – Объединяться надо!.. Артель вот будем создавать. Большую артель! Андрей Палыч в район поехал. Газеты вон как пишут об артелях...
– Газетки! – возмущенно выкрикнул Макар и, рванув из кармана скомканную, засаленную газету, которую он всегда имел при себе, потряс ею над головой: – Газетки! Кредиты!.. Который уже год слышим это!..
Не выдержал и Антон, он тоже с возмущением крикнул Косте:
– Давным-давно следовало бы сколотить артель!.. – И, нахлобучив шапку, отошел к Сеньке, рослому и круглолицему парню.
Павло Тупонос безнадежно махнул рукой:
– Бросьте вы это! – Ухмыляясь и подмигивая ловцам, он обратился к Турке: – Расскажи-ка нам лучше, Яшка, как это ты с батькой подо льдом Коляку купал?! – И разразился громким дребезжащим смехом, отчего весь затрясся, лицо густо покраснело, из глаз покатились слезы.
Ловцы молча переглянулись.
А Турка, искоса посмотрев на Павла, зло выругался:
– Судак тухлый!..
Он круто повернулся и, подгоняемый ветром, быстро зашагал в поселок.
За ним двинулся Сенька.
Павло, снова подмигнув ловцам, крикнул вдогонку Турке:
– Чего же не расскажешь, Яшка? А?
– Трепло поганое! – не оглядываясь, ответил Яков.
Сенька быстро нагнал Турку.
– Зайдем, Яша, к Митрию? – предложил он.
Турка приостановился, торопливо спросил:
– А разве здесь он? Приехал с маяка? – и у него заблестели большие, черные зрачки.
– Вчера еще приехал.
– Значит, надо зайти. – Яков сразу повеселел, прибавил шаг. – Только давай сначала пополуднуем, а потом я к тебе или ты ко мне, и двинем к Митрию.
– Ладно, – согласился Сенька и свернул за угол, но тут же остановился, не в силах двинуться дальше: здесь особенно, словно из прорвы, хлестал ветер.
Хмуро улыбаясь и подталкивая товарища плечом в спину, Турка слегка нагнулся и зашагал в проулок. Мимо быстро катил на санях Лешка-Матрос.
– Здорово были, ловцы! – весело крикнул он.
Сенька и Яков приподняли шапки.
Лицо у Матроса, как и всегда, восторженно сияло.
– Откуда, Лексей Захарыч, в такой штормяк? – спросил Сенька, когда сани поровнялись с ловцами.
Лешка задорно тряхнул головой и, стегнув лошадь, что есть силы крикнул:
– С маяка! От Максима Егорыча!..
Когда проехал Матрос, ловцы снова заговорили о Дмитрии.
– Толковый Митрий парень, – задумчиво сказал Турка. – Да вот с Глушкой спутался. Закрутила она ему голову.
– Брехня это!
– Как брехня? – Турка насторожился. – А помнишь, как приехал из Красной Армии, про комсомол все говорил, об артели тоже. А спутался с Глушкой – молчок об этом. Закрутила она ему голову.
– Он ей закрутил! – резко оборвал Сенька. – Понукает ею, а до конца дело не доводит.
– До какого конца?
– До такого вот: из дома, от Мотьки ее надо бы взять. Чего она с ним, с этим тюленем, пропадает!.. А Митрий все тянет... – И тише, будто про себя, добавил: – Хорошая женщина Глуша, редкостная...
Яков молчал, угрюмо глядя под ноги.
– А ты чего такой? – спросил его Сенька. – Будто пришиб тебя кто.
Тяжко вздохнув, молодой Турка прерывисто заговорил:
– С батькой у меня нелады... Думал я к весне выделиться и на себя ловить. А тут Коляка уловы наши обобрал... Батька теперь говорит: повременить с выделом надо. Э-эх!..
И его охватило отчаяние. Он рванул ворот, оттянул его, словно трудно было дышать.
С каким нетерпением ожидал он этой условленной с отцом зимы! Весь улов должен был пойти на выдел Якову. И вот... Коляка... Сгинула надежда!
Он крепко, желчно выругался.
Навстречу ловцам из проулка вышел Буркин.
– Доброго здоровья, Григорий Иваныч! – крикнул ему Сенька.
Буркин шел медленно, высоко держа голову и глядя прямо перед собой.
– Мотает его моряна, как лихорадка, – шепнул Якову Сенька. – Жалко Григория Иваныча.
– Он, значит, благополучно выбрался с моря? – спросил Яков.
– Да мы вместе с ним, благополучно...
Снова бабахнул лед, грозный треск прокатился по рыбацкому поселку и далеким, рокочущим эхом отозвался в приморье.
Лед на Сазаньем протоке, что против Островка, надломился пополам – поперек реки залег толстый зеленоватый шрам. Под напором моряны и нагнанной ею из Каспия воды края шрама грузно поднялись, вздыбились, а потом рухнули в проток, дохнув на ловцов острым рыбьим запахом.
Следом загромыхал лопавшийся лед в нескольких местах, – он гукал пушечными выстрелами, словно вблизи Островка била артиллерийская батарея.
Буркин не выдержал оглушительного грохота и, прижав правую руку к груди, заспешил на задворки Островка. Длинноногий, худой, он долго слонялся за шишами камыша.
Ветер то бесшабашно трепал его одежду, то, казалось, приклеивал ее к длинным, тонким костям ловца. Буркин похож был на огородное пугало: рубаха и штаны болтались на нем, словно на жердинах.
Он бормотал что-то невнятное, и рука его, правая, круто согнутая в локте, мелко и непрерывно дрожала памяткой о гражданских боях. В штормы особенно давала о себе знать его контузия.
Выйдя за камышовые шиши, Буркин порывисто, под толчками ветра, быстро зашагал на край Островка, что длинным, острым углом уходил в море. Ловец шел и ни о чем не думал; он даже не выбирал дороги – шагал прямо по отсырелому, забухшему снегу, часто проваливаясь в него по колени.
В стороне стояла плотная, высокая камышовая крепь; от ветра она туго качалась, роняя белый пушистый иней.
Начинали попадаться стайки дикой птицы, и чем дальше шел ловец, тем птицы становилось все больше и больше.
Моряна упорно гнала ловца к низким, продолговатым холмам, – за ними начиналось море.
Ветер непрерывно хлестал холодной, соленой влагой, но нет-нет да и пахнет южной, пахучей теплынью.
Буркин останавливался, тихо улыбался, глубоко вдыхал бодрые, свежие запахи... Под новыми, еще более мощными толчками ветра он стремительно взбежал на холм.
Здесь буйно кружила и свирепо ревела моряна. Частый грохот трескавшегося льда гулко носился по приморью. С Каспия валили туманы – они двигались к берегам крутыми валами. Не достигая холмов, валы туманов бесшумно рассыпались и быстро застилали прибрежные воды мохнатым, бесконечным полотнищем.
Буркин, присев на корточки, что есть силы прижал коленом больную руку к груди и тупым, беспамятным взглядом обвел все вокруг.
В грохоте льда и реве морского ветра ему чудился фронт под Петроградом, перестрелка с белыми, орудийная канонада.
...На Буркина рухнула глыба взорванной земли, но он продолжал крепко держать заряженную винтовку – того и гляди из дальней балки вылетит белая конница; банды Юденича всё пытаются прорвать фронт, занять славный город.
Под землей было трудно дышать, в висках громко стучало, и засыпанный Буркин скоро обессилел, затих.
Когда товарищи отрыли его и хотели отправить в госпиталь, они долго не могли отодрать его руку от винтовки, – пальцы, казалось, приросли к прикладу...
Вокруг стоял тревожный, ни на секунду не умолкавший гуд, будто несчетные тысячи оркестрантов проверяли свои инструменты, готовясь к игре. Вся земля, весь снег были устланы полчищами птиц: они бились, трепетали, двигались сплошной массой, – казалось, движется сама земля. Из этого разнообразного птичьего гама особенно выделялись своим звучным голосом гуси и тоскливым кряканьем утки.
Перелетная дикая птица черными гудящими тучами передвигалась на пригорки с отталинами; на пригорках она паслась – здесь были прошлогодние жухлые травы.
С пригорков птица шумно спускалась к болотцам, где дымилась светлая снеговая вода.
Буркин рассеянным взглядом смотрел на птичье царство.
Некоторые стаи шумно срывались на разведку. Сделав несколько кругов над приморьем, где трещали льды и, пыхтя, таяли серые снега, стаи опускались снова на пригорки с отталинами и звучными, высокими голосами возвещали приближение перелета.
Буркин задержал блуждающий взгляд на небольшой стае сизых атласных гусей: у них были выпуклые дымчатые груди и темнозеленые длинные носы и лапы. Крупный, должно быть самый старый гусак-вожак, словно почувствовав взгляд ловца, высоко поднял голову и, тревожно вскрикнув, быстро расправил широкие шелковистые крылья и грузно, вперевалку отбежал за холм; за вожаком, глухо застонав, ринулось остальное сизое стадо.
В стороне от других держалась небольшая стайка красных гусей – фламинго – редкого в Прикаспии африканского гостя; фламинго – огромный в развороте, у него тонкие, необычайно длинные ноги, розовато-алые крылья.
Непрерывный птичий базар неумолчно кружился над приморьем, – он то слегка стихал, то вновь усиливался, заглушая нарастающий рев моряны.
Птица продолжала передвигаться по пригоркам, и когда опускалась она к болотцам, ветер сгонял с пригорков белый пух, кружил его, забивал в низины, в талый снег.
К холму, на котором сидел Буркин, спешила из поселка женщина; моряна трепала ее юбку, взбрасывала подол, оголяя смуглые колени. Женщина, махая руками будто крыльями, сбивала подол юбки книзу и под ударами ветра невиданно крупной птицей быстро неслась на вершину холма...
Она тихо окликнула ловца:
– Гриша, – и опустилась рядом с ним.
Буркин, не замечая жены, попрежнему тупо смотрел на птичьи стаи.
– Гришенька...
Рыбачка, сдернув с головы платок, поспешно окутала им руку ловца и двойным узлом прикрепила ее к груди; рука сразу перестала биться, – она только едва заметно вздрагивала, будто пойманная и оглушенная рыбина.
Ветер разметал черные густые волосы рыбачки, смоляные пряди тяжело скользили по ее овальному коричневому лицу.
– Гриша, пошли домой... – Собирая волосы жгутом, рыбачка обеспокоенно смотрела на мужа грустными синими глазами. – Гришенька, пойдем...
Она долго уговаривала мужа как малого ребенка. Рыбачка боялась, чтобы Григорий не ушел слоняться в камышовые крепи, где теперь шатался изголодавшийся за зиму щетинистый, клыкастый кабан.
– В море, Наталья, пойдем, – глухо сказал ловец. – На глубьевой лов...
– Что ж, и пойдешь, если надо, – неуверенно ответила рыбачка, опасливо поглядывая на мужа.
– На глубьевой, на морской пойдем лов, – едва слышно повторил Буркин. – Непременно пойдем...
– Пойдешь, пойдешь, – соглашалась рыбачка. – А сейчас домой, Гриша, надо.
Она поднялась, тяжко вздохнула.
Ловец тоже встал, выпрямился и пошел рядом с женой, глядя вдаль недвижными, словно стеклянными глазами.
– Теперь, Наталья, непременно в море пойдем...
– Ладно, ладно, – рыбачка скорбно кивала головой.
Она знала, что Григорий и Сенька вернулись с Каспия без оханов – шурган унес сети вместе со льдами в открытое море. Она знала, что теперь сбруи не хватит не только на глубьевой, морской лов, но и для речного лова большой недостаток. Все же рыбачка соглашалась с Григорием, горестно поддакивала ему, зная, что в штормы часто заговаривался муж, не находил себе места, – так же вот, как и сейчас, бродил он на задах Островка, пропадал в камышовых крепях. Наталья старалась увести его домой, на последние деньги покупала водки, наливала мужу стакан-другой, и он, выпив, крепко, надолго засыпал, пока не переставал бушевать ветер... После шторма Буркин снова становился исправным ловцом, больная рука его отходила и не билась; она лишь изредка вздрагивала, и Григорий, будто с ним ничего и не было, уходил на лов. Иной раз случалось и так, что еще задолго до окончания шторма он приходил в себя и тут же принимался за работу. А бывало, что и шторм не особенно влиял на него, – Григорий становился только молчаливым и жадно, без конца курил.
Наталья осторожно взглянула на мужа и шумно, закатисто вздохнула.
Наступала путина, приближалась одна из горячих весен – пора напряженного, просоленного морем и потом ловецкого труда. А у Натальи с Григорием был только кулас – утлая речная лодчонка да полтора десятка сеток.
– Непокорный уж очень! – невольно вырвалось у рыбачки. И, спохватившись, она в тревоге посмотрела на мужа: не услышал ли он ее горькие слова?
А Буркин, как и прежде, шел молча, беспамятно глядя вперед.
Рыбачка огорченно перебирала свои затаенные думы:
«У Краснощекова можно было бы взять под улов сбрую, чтобы исправно встретить весенние рыбные косяки. За это Захару Минаичу пошла бы только половина добытой рыбы... А у Дойкина, войдя к нему сухопайщиком, можно было бы получить все: и сети, и бударку, и хлеб, даже можно бы взять морскую реюшку, оханы. Ловцу-пайщику не надо беспокоиться ни о чем – он участвует в этом деле, выходит, сухим паем».
Не беда, что Алексею Фаддеичу пришлось бы отдать четыре пятых улова за их с Григорием сухой пай, зато им досталась бы вся пятая часть выловленной рыбы!..
Когда она на днях заговорила было об этом с мужем, Григорий решительно заявил:
– Красногвардеец никогда не пойдет на поклон к рыбнику!.. Понимаешь? Не пойдет!..
«И чего противится?» – Рыбачка снова в тревоге взглянула на мужа.
Он неотрывно, бездумно глядел вдаль.
«Эх, согласился бы Григорий на сухопай!» – Она готова была сама пойти с ним на лов. Запасли бы они хлеба, круп разных и всего-всего, а при хорошем, удачливом лове и приоделись бы по-настоящему.
И тоска по прочной, сытой жизни горечью окатила сердце Натальи.
Она сама начала бы разговоры с Дойкиным и наверняка напросилась бы у него в сухопайщину.
Но Григорий против!
«А что говорил он на холме? – вдруг мелькнуло у рыбачки. – Собирался ведь на глубьевой лов, в море. Уж не решился ли Григорий на сухопай? – Она ласково взглянула на мужа. – Но, может, Григорий говорил это так – не думая, заговариваясь?»
И рыбачка, чтобы выведать его мысли, громко спросила:
– Гриша, а когда же на лов?..
Буркин, словно просыпаясь, медленно провел левой, свободной рукой по лицу, пристально оглядел все вокруг и, сурово улыбнувшись жене, раздумчиво сказал:
– Скоро, Наташа... Скоро...
Он высвободил правую руку из платка, развязал узел и, вновь сурово улыбнувшись, бережно накинул платок на голову жене.
– А с кем и как, Гриша, пойдешь на лов? – пытливо спросила она, видя, как светлокарие глаза его загораются золотистыми огоньками.
– Артелью, Наташа, пойдем. Артелью! – Буркин быстро свернул цыгарку и закурил. – Андрей Палыч, говорят, уехал хлопотать в район. Надо и мне двинуть на помощь ему...
Рыбачка печально опустила голову. Сколько раз Григорий и Андрей Палыч говорили с ловцами об артели, сколько раз пытались они сойтись на совместный большой лов, но почему-то до сих пор не удавалось им осуществить задуманное.
Моряна шибко била под ноги. Наталья и Григорий, сгибаясь, с трудом преодолевали напористый ветер. Они входили в поселок.
Глава двенадцатая
Яков пришел домой, когда вся семья уже сидела за столом. Раздеваясь, он почувствовал, что недавно здесь была ссора, – выдавала ее прежде всего необычная для Турок тишина, выказывал недавнюю ссору и мрачный, грозный вид отца. А то, как жена Якова, круглолицая, с дугастыми черными бровями Татьяна, шикала на ребятишек и дергала их, принуждая быстрее есть, особенно подтверждало догадку Якова.
«Опять ругалась с Манькой или с мамашей», – сокрушаясь, подумал он о жене и прошел к столу.
Яков сел на скамью между Татьяной и сынишкой, рядом с которым высился громадный и широкогрудый Турка; по другую сторону жены сидела дочка, дальше – мать Якова, рядом с ней – Мария. Сидя между отцом и матерью и чувствуя себя в безопасности, она то и дело бросала вызывающие взгляды на Татьяну.
Из громадной сковороды, занимавшей чуть ли не полстола, Яков не спеша взял кусок жареной рыбы и поочередно оглядел всю семью.
Старый Турка, пряча в могучее подлобье узкие, с огоньками глаза, ел медленно и спокойно. Но по тому, как он хмурил пучкастые брови, прикрывая ими глаза, Яков понял, что отец взволнован жестоко.
– Ешь скорее! – неожиданно с отчаянием выкрикнула Татьяна, дернув за платье дочку. – А то вон дед чортом смотрит! – и она зло кивнула на сумрачного Турку.
– Будет тебе, Таня, – тихо сказал Яков.
– Опять я?! – визгливо закричала жена. —Опять я причиной всему? Опять я виновата?!
Она выскочила из-за стола.
– Заездили, замотали! Моченьки нету! Уеду к батяше! Все одно уеду! Не могу больше!
И, громко зарыдав, она побежала в переднюю. Дети заголосили и бросились за матерью.
– Не жизнь, а каторга! Помрешь безо времени!.. – неслись из передней причитания Татьяны. – Всё им не так да не эдак!
Мария, наскоро прожевав рыбу, требовательно обратилась к брату:
– И чего выдумала, – она сердито кивнула на переднюю. – Проверяем это мы с маманей мое приданое: ситцы там разные да полотно, а она твоя Та-а-ня, – и сестра, скривив лицо, передразнила брата, – лезет и лезет. Дай ей то да вот это. На штанишки отрежь Ваське, на платьице Нюрке да на кофту ей...
– Она тут, Яша, такой скандал затеяла, – жалобно подкрепила мать, – батюшки мои! Прямо беда с ней, сынок! Уйми ты ее!
– Брешете! – из передней с шумом выскочила Татьяна. – Брешете!..
Старый Турка молча поднялся и, пройдя к окну, закурил трубку.
– Яшка! – и Татьяна резко рванула за рукав мужа. – Собирай меня! Уезжаю к батяше!
– Давно бы пора, – пренебрежительно бросила Мария.
– Но-но! – не сдержавшись, крикнул Яков на сестру. – Смотри ты у меня!
– Нечего на меня нокать! – И Мария важно прошла к отцу. – На жену вон больше нокай, – дело лучше будет!
– Молчи, дура несчастная! – закричала Татьяна. – Я на тебя и твое приданое четыре года горб гнула. Ду-ура!
– От дуры слышу!..
Татьяна ринулась к Марии, но Яков преградил ей дорогу.
Турка молча курил, посматривая в окно.
Обхватив жену, Яков увел ее в переднюю. Татьяна вырывалась, кричала:
– Не могу больше! Собирай, говорю, меня к батяше!
– Погоди, погоди, Таня. – Усадив жену на кровать, Яков взял на руки плачущую дочку. – Скажи толком, чего тут у вас?
Уткнув голову в подушку, Татьяна сквозь всхлипывания запричитала:
– Метала я сети, а они, как барыни, перебирали приданое... Я и скажи: отрезали бы ребятишкам ситцу... Ведь несколько сот метров его у нас...
И без рассказа жены Якову было все понятно. Который уже день идет эта канитель в доме – с тех самых пор, как возвратились Турки с моря после поимки Коляки. Отец наотрез отказался выделить сына в скором времени. Яков сначала как будто и согласен был на отсрочку выдела, но Татьяна не хотела об этом и слушать. Она все эти дни искала повода к тому, чтобы схватиться с Марией или с матерью, даже вызывала на скандал самого Турку.
А поводов к этому хватало. Татьяна, как и Яков, работала неустанно с утра и до вечера: доила коров, топила печи, стряпала, мыла посуду, полы. Она даже находила время, чтобы сметать за день несколько метров сети. Мария же только и знала, что наряжалась и ходила к подружкам да приводила их к себе и, открыв сундук, хвасталась нарядами. Мать, больная желудком, сидела больше на печи, занималась с ребятишками. Татьяна, подоткнув с боков юбку, целые дни мыкалась по кухне, по двору. Мария редко помогала невестке, а когда та просила что-нибудь сделать, она, недовольно сморщив лицо, отвечала:
– Не видишь, новое платье на мне – попортить могу!..
А Татьяна и в будни и в праздники ходила в одной и той же серой кофтенке, в полинялой, замызганной юбке. И у Якова из одежды была только одна пара: суконные штаны да пиджак – носи хоть в праздник, хоть в будни!.. Пожалуй, ни у кого другого, кто мог бы сравняться в Островке по достатку с Турками, так бедно не одевались молодые, как у Трофима Игнатьевича его невестка и сын.
Но Яков терпел, все ожидая выдела. Он надеялся, что отец, помимо богатой ловецкой справы, поделит с ним и те запасы материи и прочей сохранности, которые Яков наживал вместе с ним. Он прочно верил в это. Потому и соглашался молчаливо, тайком от Татьяны, ждать выдела до осени. Она же, как только намекнул старый Турка на то, что придется, мол, прежде выдать замуж Марию, а потом уже, как поправятся дела, можно будет подумать и о выделе Якова, начала язвить, ко всему придираться... Никогда Яков не видел такой Татьяну и раньше даже не мог себе представить ее столь запальчивой и требовательной. Но скоро он и сам втянулся в эту потасовку, то защищая жену от нападок сестры, то обрывая мать за надоедливые жалобы на сноху. А третьего дня даже повздорил с отцом, который выругал Татьяну. И когда Яков грозно прикрикнул на отца: «Полегче, батяша, а то глотка лопнет!» – тот оторопел и заорал что есть силы: «Цыц, щенок! На кого рот разинул? А?» И, замахнувшись, двинулся на сына. Яков отступил, а отец, грохнув дверью, вышел из дому. И с этого раза сын почувствовал, как с каждым днем, с каждым часом нарастает у него неприязнь к отцу...
Уже третий день не разговаривают Турки – хмурятся, молча враждуют. Того и гляди, что схватятся за грудки.
И теперь Яков решил немедля требовать от отца выдел. Не просить, а именно требовать! Разве не он свыше десятка лет рвал жилы на то, чтобы сделать добротным их ловецкое хозяйство? И не с Татьяной разве они, вот уже четыре года, не покладая рук корпят в работе, надеясь, что вот-вот батька выделит их? А он все молчал, оттягивал и на днях вновь осторожно подал намек: осенью, дескать...
«Довольно! Натерпелись!» – твердил про себя Яков, но не знал, как и с чего начать разговор с отцом.
– ...И ребятишки голые, – продолжала всхлипывать Татьяна. – И сами ходим в шаболах. А в сундуках материя гниет. И подумать только, чья материя, как не наша!
Она вскочила с постели и снова раздраженно крикнула на Якова:
– Собирай, говорю, меня к батяше! Все равно уеду! Сегодня же уеду!
– Постой, Таня, – и Яков передал ей дочку.
Пройдя к двери, он нарочито громко сказал, чтобы слышали все:
– Погоди немного. Может, еще обоим придется нам ехать к твоему батьке.
Эти слова покоробили старого Турку.
– Скатертью дорога! – громыхнул он и, швырнув на подоконник трубку, поднялся с табурета.
– И уеду! – запальчиво выкрикнул Яков. И, радуясь, что наконец пришелся случай посчитаться с отцом, он стал громко выкрикивать в дверь: – Не подумай только, что пустой уеду! Потребую от тебя законного выдела! В сельсовет поеду с жалобой, а то и в самый район! Все возьму свое!..
Турка не ожидал такой прыти от сына. Он держал его, как и всю семью, в строгом повиновении. И теперешняя решимость Якова озадачила его.
А сын, стоя в дверях, вызывающе кричал:
– Давай делиться!.. Не хочу с тобой больше жить!.. Надоело мне лямку тянуть!..
От обиды у старого Турки сжалось горло, и он, побелев, затрясся.
– А-ах ты, щенок! – и ринулся к Якову.
Вся семья разом заголосила и бросилась кто к отцу, кто к сыну.
Туркам не дали схватиться.
Мать с Марией оттащили отца к окну, а Татьяна повисла на груди Якова.
– Выйди, Яша... Выйди, Яша, во двор, – упрашивала она мужа.
– Давай выдел сейчас же! – не отступал сын и порывался к отцу. – Начинай делить имущество!
– Я тебе дам! – хрипел Турка, пытаясь высвободиться из рук жены и дочери. – Ишь! На отца эдак! Я тебе!..
Татьяна увела Якова в переднюю и, сунув ему шапку, выпроводила за дверь.
Долго и гулко топал старый Турка по комнате, заложив руки за спину.
– Хорош сынок!.. Нечего сказать!..
Зло пыхтя трубкой, он без конца твердил одно и то же:
– Нечего сказать! Хорош сынок!..
А когда вернулся Яков, отец, не глядя на него, решительно заявил:
– Получай долю!
И, одеваясь, глухо продолжал:
– Бударку бери... Пять мен сетей разных... Полсотни перетяг снасти...
Дальше Яков не расслышал – отец вышел в сени.
– Иди, говорю, получай! – крикнул он оттуда сыну.
Яков осторожно шагнул в дверь. Отец был уже во дворе и открывал сарай.
Яков так же с опаской пошел к сараю, как и выходил на окрик отца в сени. Он боялся Турку – отец мог схватить его за загривок и задать ему «памятную», что он часто и проделывал с Яковом. Исподлобья поглядывая на отца, Яков долгое время стоял у косяка двери и не входил в сарай.
Перебирая на вешалах сети, Турка сквозь зубы процедил:
– Входи... Будем делиться...
Яков переступил порог и остановился неподалеку от бочки с солью.
– Получай мену вобельных, – и Турка полез в дальний угол, где висели вконец обветшалые сети, которыми не ловили уже несколько лет; чиненные да перечиненные, они, кроме того, настолько перетрухли, что от одного прикосновения к ним рвалась нитка.
Задрожав, Яков вцепился руками в края бочки.
– Принимай! – и Турка начал бросать на пол связки сетей. – Пять концов... Десять... Пятнадцать...
Он считал, а сын, казалось, и не слышал.
От обиды Яков дрожал, его подмывало крикнуть отцу что-либо злое, оскорбительное. Но он сдерживал себя, продолжая молчаливо оглядывать ворох трухлявых сетей и выжидая, чем же будет наделять его отец дальше.
– Проверяй, сынок! – вдруг язвительно прохрипел Турка. – А то, может, обжулил тебя батька.
Он перешел в другой конец сарая и снова начал отбирать сети. На передних шестах висели бело-серые, мягкие, шелковистые сети, но отец и не дотрагивался до них, он все лез дальше в угол, где была поношенная сбруя.
– Теперь селедочные принимай, сынок!
И когда Турка стал снимать с вешалов третьегодичные, перепрелые сети, у Якова хватко сжала злоба сердце.
– Не признаю такой доли! – вдруг исступленно закричал он и, отбросив концом сапога крайнюю сеть в угол, отпрянул к выходу.
– Не торопись, сынок! – продолжал ехидно Турка. – Не всё еще! Судачьи получишь, снасть, оханов дам... Да не забудь долг наш в шестьсот целковых: триста будут мои, а триста твоя доля платить. Раз делить – так все делить...
У Якова залязгали зубы, и он готов был броситься на отца, но в это время во двор вошел Сенька.
– Яшка! – крикнул ловец. – Пошли!
Переминаясь с ноги на ногу, Яков на секунду выглянул из сарая, махнул рукой Сеньке и внушительно окликнул отца:
– Слышь? Кончай дурить! Слышь, что ль?
Турка вопросительно посмотрел на сына. А тот неожиданно дерзко заявил: – Такую рвань не принимаю! Не сетка, а труха это! К вечеру чтоб было как обещал: пять справных мен. А не то – сельсовет!..
– У-у, ты! – взревел Турка и, схватив кол, рванулся к сыну.
Чуть не сшиб Яков с ног подошедшего Сеньку, когда выскочил из дверей сарая. А Турка, не догнав сына, пустил вслед ему кол. Яков нагнулся, и кол, просвистев над головой, бухнул о забор.
–К вечеру чтобы доля была сполна! – кричал отцу из калитки Яков. – И не ошметки чтобы, а справная сетка!
Старый Турка медленно, разбитой походкой шагал обратно в сарай.