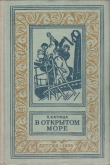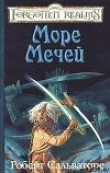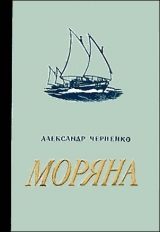
Текст книги "Моряна"
Автор книги: Александр Черненко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Глава третья
Лютый норд-вест бешено носился по Каспию; он тяжелой стеною гнал снегопад и, натыкаясь на бугры, грозно сотрясал их.
Василий и Дмитрий в испуге проснулись. Ветер срывал с бугра пласты льда, а лошадь металась во тьме и шумно фыркала.
– Шурган, кажется, – Василий вскочил и зажег спичку.
Лошадь продолжала фыркать и рваться.
Ловцы выскочили из коша. Ветер ударил снегом, ожег лица и чуть не сбил ловцов с ног; снег валил так густо, что слышно было, как он сухо, жестко и с присвистом шуршал.
– Экая кутерьма, – сказал Дмитрий хриплым голосом и сбросил с себя тулуп. Он тревожно задышал и беспокойно повел лицом, вслушиваясь и вглядываясь в занавешенный снегопадом предутренний полумрак.
Ветер нещадно хлестал колючими и острыми иглами снега.
– Не относ ли? – уже с тревогой спросил Дмитрий своего дружка.
Надвигая шапку на лоб, Василий удивленно шевельнул неимоверно длинными и пышными бровями.
– Ступай огляди, – дрогнувшим голосом сказал он Дмитрию и в смятении добавил: – Верно старые люди говорят: не море топит ловцов, а ветры...
И замолчал, когда Дмитрий скрылся в снегопаде.
Снег, казалось, плотной стеной соединил небо и море.
Василий вбежал в кош, сорвал со входа парус и стал поспешно бросать в сани одежду и сбрую. Лошадь в упряжь не шла; она рвалась, становилась на дыбы и косо зыркала кровавыми глазами по сторонам.
Вспомнив о кошме, ловец хотел было броситься за ней в ледяной шалаш, но внезапно с новым наскоком ветра ударил слева истошный голос Дмитрия:
– Ва-а-аськ!..
Сердито ударив лошадь по влажным, теплым губам, Сазан вогнал ее в оглобли и набросил дугу.
– Ва-а-а-аськ!..
Не затянув как следует хомут, он схватил лошадь под уздцы и погнал ее влево, на крик.
Сверху, не переставая, сыпал снег, ветер подхватывал его и кружил столбы белого смерча.
Лошадь противилась; ступая шагом, она все время косилась назад. Василий бил ее по голове, тыкал в брюхо ногой.
– Что такое? – взволнованно спрашивал он не то себя, не то лошадь. – Неужели относ?
И он снова вспомнил об оставленной кошме, намереваясь вернуться обратно в кош.
Вдруг с оборота донесся слабый, замирающий голос Дмитрия:
– Ва-а-а!..
Василий рванул лошадь назад. Она охотно подалась и, быстро сделав полукруг, помчалась в обратную сторону.
Он держал лошадь под уздцы, бежал наравне с нею и ошалело орал:
– Ми-ить! Я зде-есь! Митя-ай!
Снег забивал ему лицо, словно кто-то надевал тяжелую плотную маску.
Он бежал и думал, что оханы не выдраны из воды; пожалуй, и не все забрано из ледяного шалаша:
«Ясно, не все забрано, – кошма осталась, жарник остался... Во-от беда! Во-от незадача! Как бы не пришлось теперь оплачивать Дойкину брошенные оханы и прочую сбрую...»
Ему было трудно дышать. Ничего не видя и не слыша, он пытался кричать Дмитрию, но ветер разрывал слова, глушил голос.
Лошадь стала. Василий содрал с лица пласты тяжелого, теплого снега. Он едва различил лошадь: вся она была белая от снега и пены.
– Чего ты?
Она обессиленно шаркала ногою по льду. Ловец поспешно оглядел ее ногу: не было подковы.
– Что же делать? – и он растерянно посмотрел вокруг.
Снегопад непрерывно несся плотной стеною; он шуршал о лед, шлифовал его, делал скользким.
У Василия снова мелькнули мысли о брошенной сбруе, о кошме, о жарнике...
– Пшла-а! – в отчаянии закричал он на лошадь, и, пнув ее в брюхо ногой, опять схватил под уздцы.
Лошадь тронулась, прихрамывая на больную ногу.
Ловец гнал ее все сильней. Она часто поскальзывалась и падала на задние ноги. Сазан приподнимал ее и опять гнал. Пройдя несколько десятков метров, она шумно зафыркала и, обдавая ловца горячей пеной, вдруг разъяренно ринулась в галоп.
Снежные волны вскинулись перед Василием. И тут он вспомнил о том, что главное не взято из бугра: два с половиной десятка белорыбицы остались разложенными в ледяной пещере! Он попытался остановить лошадь, чтобы вернуться к кошу, но она неукротимо неслась вскачь, закинув голову. И ловец летел вместе с нею, не касаясь, казалось, льда... Неожиданно лошадь вздыбилась, попятилась назад, захрапела и шарахнулась в сторону.
Только сейчас заметил Василий, что снегопада уже ее было и норд-вест дул слабинкой, без напора. Василий взглянул вперед: в двух шагах от него зияла черная разводина – пропасть между льдинами; в разводине неслышно бились дымящиеся волны.
Он неистово заорал:
– Ми-ить! Мите-ок! Митя-ай!..
Оглядываясь по сторонам, он продолжал цепко держать лошадь под уздцы, – она исходила кипевшею пеной, и пена тянулась до самого льда.
– Ми-ить!..
Неожиданно лошадь вскинулась, отшвырнув ловца далеко на лед; из разводины в Василия ударил ливень воды, лошадь и сани рухнули в море...
...Дмитрий охрип от крика. Как он ни старался еще раз подать голос Василию, ничего не выходило: голос срывался, в глотке першило.
Ловец обежал все вокруг, но бугра не нашел, не нашел он и дружка.
«Куда делся Васька? Что с ним?..»
Стоя у разводины и вглядываясь в белую мглу снегопада, Дмитрий пытался определить ширину пропасти, но снег непрерывно валил, – видна была только эта кромка льда; о кромку бились небольшие волны с запушенными снегом гребнями.
«Может, я заблудился?» – И ловец хотел было опять бежать на поиски дружка, но с большой силой навалился ветер и чуть не опрокинул Дмитрия в разводину.
Ветер свистел и круто хлестал ловца: бил в него снегом, рвал одежду, толкал в пропасть.
Дмитрий старался удержаться на ногах, но напор ветра был настолько силен, что ловца вдруг сорвало и покатило, словно он был на коньках.
Тогда ловец бросился на лед и вцепился в него ногтями, потом на четвереньках отполз дальше от разводины.
Внезапно снеговая стена рухнула – снегопад, прошуршав, оборвался.
Поднимаясь, ловец взглянул вверх: совсем низко неслись плотные белые тучи.
Так же внезапно оборвался и ветер, но через секунду он еще раз взметнулся, взвихрил и, как бы стряхнув с туч остатки снега, где-то залег, притаясь; потом слегка, едва ощутимо подул.
Снег перестал.
Над Каспием качался белесый рассвет.
Дмитрий удивился: недалеко возвышался белый бугор, а он столько кружил и не мог отыскать его.
«Где же Васька?!» – Он взглянул на разводину: прибрежный лед был очень близко – всего каких-либо десяток метров.
А вдали чуть приметно светился огонек – может быть, это маяк?..
Ловец поспешно пробежал взглядом кромку льда, близ которой он стоял.
«Что такое?» – и он подался вперед.
Впереди что-то метнулось в разводину, ударил фонтаном столб воды.
Дмитрий напряг зрение.
«Да-да, лошадь!» – признал он.
Должно быть, Василий решился переплыть разводину со всей сбруей. Дмитрий громко закричал:
– Ва-а-аська! Ва-а!..
Он сбросил с себя валенки, фуфайку, шапку и, стоя полураздетым, долго глядел, как медленно плыла по разводине лошадь, за нею волочились сани. А Василия почему-то не видать. Дмитрий прищурил глаза. Может быть, он плывет рядом с лошадью, сбоку ее?
Должно быть, так. И Дмитрий почувствовал, как быстро стынет его тело, а ноги в шерстяных чулках словно примерзли ко льду.
Разводина заметно ширилась; льдину, на которой стоял ловец, относило от прибрежного льда.
Вздрогнув, Дмитрий бросился в разводину. Ледяная вода больно ожгла его, точно насквозь проткнула большими острыми иглами.
Он вынырнул, замотал головой и, отфыркиваясь, никак не мог открыть глаза.
Глаза будто смерзлись.
«Неужели конец?» – Захлебываясь, Дмитрий стал обеими руками протирать глаза; один глаз приоткрылся, и ловец увидел исчерна-зеленоватые, кипящие воды.
Широким взмахом рук он сильно двинул свое тело вперед. Плыл Дмитрий быстро и шумно, выплевывая горечь соленой морской воды.
Теперь хорошо было видно кромку противоположного, прибрежного льда.
– Выплыву, – радостно шептал Дмитрий. – Глушу увижу...
Однако ноги его затяжелели; теплые стеганые штаны настойчиво тянули ловца вглубь, словно большие грузные якори.
Дмитрий перевернулся на спину, но ноги не пластались по воде – их тащили ко дну набухшие ватные штаны. Ловец попробовал плыть боком, – так было легче; он широко разгребал руками воду, упорно продвигаясь вперед.
«Только бы добраться до льда, а там – лошадь, сани, Васька...»
Он лег иа воду грудью и, размеренно ударяя руками, взглянул вправо – вдоль разводины, где должна была плыть лошадь.
Лошади не было.
Ловец приподнял голову и прищурил глаза: лошадь карабкалась на кромку льда, но лед не выдерживал ее и рушился.
Одна нога у Дмитрия одеревенела, икру свело судорогой. Он перевернулся на спину и стал быстро растирать ногу. Потом снова лег на грудь и сильно забил руками по воде.
Лошадь была уже на льду, она только никак не могла вытащить из воды сани; оглобли поднимали на ней хомут, который, наверно, душил ее, и она высоко вскидывала голову, отчаянно мотала ею.
Но вот лошадь взбешенно рванулась и выбросила сани на лед.
«А где же Васька? – Дмитрий посмотрел вдоль разводины. Василия не было видно, не было его и на льду. – Может быть, он лежит в санях?..»
Исходя паром, лошадь беспокойно озиралась по сторонам; потом, вздернув голову и задрав хвост, понеслась к берегам, припадая на задние ноги.
– Ры-ы-жий! Ва-аськ! – хрипло закричал ловец. – Ва-аськ! Ры-ы-жий!
Он напряженно заработал ногами, крепко ударяя ладонями по воде.
«Надо догнать лошадь, – решил Дмитрий. – Непременно догнать!»...
Лед совсем близко.
Проклятые штаны! Они тянут и тянут ко дну, не дают как следует двинуть ногами.
И ловец еще сильнее забил руками по воде.
Вот и лед. Хватаясь за его края, Дмитрий приподнялся, но лед рухнул, и ловец с головой ушел в воду.
Остро кольнуло в груди:
«Неужели пропал?»
Он свирепо рвал руками воду, чтобы выплыть наружу и вдруг ударился головой о что-то твердое.
«Подо льдом! – внезапно ожгла его мысль. – Пропал!..»
В загоревшемся мозгу стремительно пронеслись отец, мать, Василий, Глуша.
«Эх, Глуша!.. – Сердце у него дрогнуло. – Пропал!.. Погиб!..»
Дмитрий исступленно метнулся и снова ударился головою о лед. Взбросив руки, он уцепился за шершавое подледье и, перебираясь по. нему, быстро двинулся в сторону.
Неожиданно подледье оборвалось, и Дмитрий выплыл на поверхность разводины.
Он рванулся к кромке и выбросился на лед.
Дмитрий жарко дышал. Все его тело корчилось в судорогах, и голова беспомощно никла ко льду.
Вдруг он вскочил и изо всех сил пустился бежать...
Ни о чем не думая, он несся напрямик и тяжело, громко дышал.
Вскоре ловец разглядел впереди лошадь.
«Может, это Рыжий, а в санях Васька?..» И, напрягая последние силы, он попытался нагнать лошадь.
Но она продолжала уходить вперед.
В мутном рассвете забрезжил огонь маяка.
«Добежать бы до Егорыча, – мелькнула у Дмитрия мысль о маячнике. – Эх, добежать бы!»
Огонь открывался все шире и шире.
Теперь маяк уже окатывал льды приметною, мутно-белой полосою света; льды слегка блестели, и по ним черной тенью, словно в тумане, металась лошадь.
Одежда ловца, обмерзая, казалось, срасталась с кожей; шерстяные чулки его стали точно деревяшки и громко стучали о лед.
На непокрытой голове Дмитрия болтались ледяные сосульки, они больно драли волосы.
Продолжая бежать, ловец широко размахивал руками, оттого оледенелая рубаха и штаны нестерпимо рвали его кожу.
Он ложился на лед и катался по нему, чтобы обмякла одежда и не обдирала тело.
Вскочив, он опять бросался бежать.
Маяк был уже близко, он поливал ловца тусклым, матовым светом. Заскорузлая одежда Дмитрия, словно панцырь, блестела ледяными иглами.
Глава четвертая
Глуша долго не могла уснуть; Дмитрий обещал еще вчера вернуться с моря, но прошел день, и наступила эта грозная шурганная ночь, а его все не было.
Ветер тревожно стучал в ставни, шуршал по ним снегом и заунывно гудел в трубе.
На столе мигала пригашенная лампа; в ее стекло то и дело выскакивал тонкий и длинный язычок огня, он на миг освещал низкую, в желтых обоях комнату.
Ветер настойчиво выдувал из дома тепло; поздно вечером Глуша жарко натопила камышом печку, в комнате сначала было душно, будто в бане, а теперь стало нестерпимо холодно.
Глуша дрожала и куталась в одеяло, натягивая его по самый подбородок.
Рядом с ней лежал рыхлый и неподвижный Мотя.
Он обычно с вечера сразу засыпал, оставляя ее одну в тоске и думах.
И Глуша, как и сейчас, долго не засыпая, лежала в постели, разглядывала выбеленный потолок и старалась найти в нем хоть какое-либо темное пятнышко, чтобы задержать свой взгляд и думать, думать без конца.
Семь годов мучается она с Мотей. Что только не предпринимала Глуша, чтобы сделать здоровым своего слабосильного мужа. Она поила его по наставлению бабки Анюты парным молоком – не помогло. Она в течение нескольких месяцев готовила ему всю пищу только на подсолнечном масле – тоже не помогло. Тогда Глуша, прослышав о некоем прозорливом казахе Сандже, поехала под Гурьев. Костлявый и бритый Санджа, сидя в темной кибитке на корточках и стукая палочкой о какую-то железину, велел ей поить Мотю тюленьим жиром – и это не помогло!..
Мотя не обращал внимания на заботы Глуши: он напролет просыпал не только целые ночи, но часто спал и после завтрака и после обеда.
А однажды, вскоре после их свадьбы, были они в гостях у соседей на крестинах. Сосед, Павло Тупонос, часто и до этого не давал прохода Глуше, а тут – как выпил, так и начал приставать к ней. Глуша пожаловалась Моте, а тот только рассмеялся.
Ловцы частенько намеренно приглашали в гости Мотю с Глушей. Споив его, они приставали к ней, пытались обнимать, но она вырывалась и убегала домой.
На ее жалобы Мотя спокойно отвечал:
– Ну и что же из того, коли помял он немного тебя, – не убудешь от этого.
– Да он, Мотя, хотел... – недоговаривала Глуша и заливалась слезами.
Иногда в ответ на эти слова Мотя необычно сердито кричал:
– Ты, должно быть, хотела, а не он!
– Нет, Мотя, – и Глуша нарочно рассказывала все подробности того, как приставали к ней ловцы, надеясь возбудить в муже ревность.
Но он, как и всегда, безразлично выслушав ее, говорил, шумно позевывая:
– Обедать, что ли, готовь, – и тут же засыпал.
Глуше завидно было глядеть на подружек, которые жили с мужьями в согласии и довольстве. Почти у всех подружек было уже по ребенку, а у некоторых по двое и даже по трое.
Она плакала, тосковала и, чтобы забыться, неустанно с утра до вечера работала: каждый день мыла полы, по нескольку раз чистила посуду, то и дело перетирала чашки и блюдца в горке, носила воду, подметала двор...
А Мотя ел, пил, спал, шлялся по берегу, говорил о пустяках с ловцами и изредка выезжал на лов.
«Батяша виноват», – горестно думала Глуша.
Максим Егорыч исправно каждый месяц приезжал к дочери и зятю.
Он жил на маяке, где по ночам калил ослепительную лампу, указывая ловцам обратный путь из Каспия. Один раз в месяц Максим Егорыч ездил в район получать деньги и продукты. По дороге из района на маяк он направлял свой утлый куласик в Островок, где и проводил целый день.
Из полученных продуктов он выделял половину дочери и, распив с зятем бутылку водки, отдавал ему и деньги.
Жил он на маяке один, и деньги ему не нужны были.
– Живите, детки, радуйтесь! – говорил Максим Егорыч, похлопывая зятя по плечу.
Выпив, отец быстро хмелел и подолгу тянул смешным баском свою любимую песню:
Эх ты, до-ля, моя до-ля...
Он плакал и безрадостно пел:
До-о-ля, до-олюшка мо-о-я.
Мотя, медленно раскачиваясь, гнусаво подтягивал тестю:
Э-зх, за-а-чем ты, зла-ая до-ля...
Всхлипывая, Максим Егорыч поднимался из-за стола, подходил к дочери, обнимал ее и безутешно плакал, смеялся.
– Живите, детки, – повторял он, – и радуйтесь...
Порой, когда засыпал Мотя, Максим Егорыч посылал Глушу за хромым, но всегда веселым Лешкой-Матросом, у которого была ладная саратовская гармонь с колокольчиками.
Распив с гостем новую бутылку, отец, совсем захмелевший, весело кричал ему:
– Жарь, Лексей, плясовую!
Тот, широко растягивая алые мехи гармоники, сразу ударял во все лады и колокольчики.
Лихо притопывая перед дочкой, отец долго, до изнеможения кружил по горнице и, споткнувшись, падал на пол и засыпал.
А Матрос, дерзко подмигивая Глуше, наигрывал задушевные волжские припевы и, должно быть намекая на то, что когда-то Максим Егорыч обещал выдать ее за него замуж, – тихонько и грустно подпевал:
Эх, вспомни, что было, —
Наверно, забыла...
К вечеру Максим Егорыч уезжал на маяк...
Глуша долго не говорила отцу о своей несчастной, постылой доле, но однажды, когда не было Моти дома, она заплакала и все выложила старику.
– Почему раньше не говорила? – строго спросил он ее.
– Совестно было... А сейчас будто все равно, – закрыв лицо передником, всхлипывала Глуша. – Все одно, батяша, утоплюсь или отравы какой приму.
– Шалишь, дочка! – сердито предупредил Максим Егорыч. – Я поговорю с ним сегодня. Проучу его, судака-дурака!
Когда заявился Мотя, отец заперся с ним в горнице и сурово спросил:
– Ты что же это, Матвей Никанорыч, мою дочь изводишь?
Затаив дыхание, Глуша слушала, как отец нещадно ругал зятя. Найдя в простенке щель, Глуша увидела: маленький ее отец суетливо бегал вокруг огромного Матвея, а тот спокойно сидел на табурете, отец тыкал его то в грудь, то в плечо, свирепо грозился, мотал головой и на какое-то возражение зятя вдруг визгливо вскричал:
– Дурак!
Выхватив из-под полы пиджака прут, он неожиданно жиганул Мотю по спине.
– Батяша! – взвизгнула Глуша.
Не обращая внимания на крик дочери, Максим Егорыч хлестнул зятя еще и еще раз.
– Батяша!
Зять упал в ноги тестю, а тот продолжал хлестать его по спине.
– Прости, Максим Егорыч! – взмолился Матвей. – Постараюсь! Постараюсь, Максим Егорыч!
Глуша бросилась к двери:
– Не надо, батяша! Не надо!
Отец, не пообедав, уехал к себе на маяк...
Через месяц, снова заглянув в Островок, он не пошел к зятю в дом, а вызвал Глушу на берег и спросил ее:
– Ну как, дочка?
Она, потупив глаза, печально ответила:
– Все так же, батяша...
Максим Егорыч поехал к свату, отцу Матвея, – жил он недалеко, в соседнем поселке.
Оба они, выпроводив Глушу из дома, долго говорили с Мотей и, должно быть, секли его, – он несколько дней после того и пил и ел стоя.
Опять через месяц приехал Максим Егорыч к Глуше:
– А теперь как, дочка?
– Все одно, батяша...
После этого не приезжал он в Островок полгода; только изредка передавал дочери приветы через ловцов.
Ловцы говорили Глуше:
– Батька кланяется тебе. Только что-то водку сильно хлещет. Гляди, не опился бы да не помер...
Она ездила на маяк и ни разу не заставала отца трезвым.
Был он всегда пьян, беззвучно плакал и, без конца целуя Глушу, приговаривал:
– Милая ты моя... Хорошая ты моя... Погубил я тебя, старый дурень. Нашел тихоню, Мотьку... Думал, что тихий парень, а стало быть, и жизнь тихая, ладная у вас будет. А вышло ни то ни се. И не штиль, и не штормяк у вас, а чорт-те что получилось!.. Эх, за что же тебе, дочка, такое наказание от господа-бога? Ты же не жила еще как следует и не успела грехов натворить. Это я, старый бес, много грехов имею. За что же тебе наказание такое?
Он поднимал глаза на икону и пьяно, безалаберно кричал:
– За что, господи, такое наказание моей Глушке?!
Шатаясь, он шел к иконе, пытался сорвать ее, но как только приближался к ней, смиренно опускал голову, что-то беззвучно шептал и снова принимался за водку.
Глуша прятала от него бутылки с водкой и к вечеру увозила их с собою...
Но ловцы опять и опять напоминали ей об отце, об его пьянстве. Она все реже и реже ездила к нему на маяк. Эти поездки тяготили ее: отец не мог сказать ей ни одного путного слова, он все так же плакал и только усиливал Глушино горе.
Мотя, избалованный раньше помощью тестя, хотя и ощущал теперь недостаток и в хлебе, и в деньгах, и во многом другом, продолжал, однако, все так же нерадиво относиться к своему хозяйству и не часто выезжал на лов.
Глуша еще больше ушла в заботу по домашности. Она даже, чтобы найти хоть в чем-либо утешение, выполняла мужскую работу: смолила бударку, перекрывала камышом крышу, поправляла забор, сбивала рассохшиеся ставни...
Часто ощущая во многом нехватки, она принуждена была, не дожидаясь, пока надумает Мотя, сама выбивать сети, чтобы иметь рыбу на варево. Но это нисколько не тяготило ее; она эту работу, как и все другое, выполняла охотно, даже ревностно, зная, что это займет у ней время, натрудит ее, – возможно, скорее будут смыкаться ночью веки ее глаз, она быстрее будет засыпать.
Когда бывало она проходила по поселку – высокая и стройная, качая крутыми бедрами, – парни и женатые ловцы завистливо поглядывали на нее.
– Хороша стерлядка! – говорили они. – Да скоро портиться начнет...
Глуше недавно исполнилось двадцать семь лет. Круто изменился характер ее за последние годы: становилась она злой и сварливой, на приставанья ловцов отвечала дерзко. Мотю она колотила, часто сбрасывала ночью с постели на пол, а особо назойливых ловцов изводила неисполняемыми обещаниями: они напрасно и подолгу ожидали ее в прибрежных камышах или под бугром. Иной раз, условившись с надоедливым ловцом о встрече, она шла к его жене и, рассказав об этом, посылала ее вместо себя. Нередко, разговаривая на улице о чем-либо с парнем или женатым ловцом, она нарочно задерживала его, стараясь, чтобы кто-нибудь увидел их, и, зная, что ловца ожидает выговор от жены или невесты, она громко смеялась, развязно хлопала его по плечу...
И кто знает, до чего довела бы ее эта озорная игра, если бы не подоспел Дмитрий Казак.
Парни уже собирались отомстить Глуше за ее проделки, несколько женатых ловцов тоже обещали ее встряхнуть, а некоторые рыбачки, которые подозревали о связи своих мужей с Глушей, хотели особенно крепко разделаться с ней.
В это время и появился Дмитрий.
Однажды по протоку, где были выбиты Глушины сети, мчался он на бударке под парусом.
Глуша сидела на вдвинутой в камыш лодке и задумчиво глядела на тихие, светлые воды камышевой заводи, мысленно разговаривая сама с собою о несносной, никчемной своей доле.
Неожиданно над протоком вскинулась чья-то песня:
Не ходите, девки, замуж,
Не губите свою жисть.
Эх ты, горе, бабье горе, —
Хоть живою в гроб ложись.
Вздрогнув, Глуша раздвинула камыш и увидела Дмитрия; он полулежал на корме, раскинув ноги по бортам лодки.
Если муж тебе не пара
И не балует тебя...
Не докончив припева, он вскочил на ноги и отпустил шкот; парус начало хлестать, и лодка замедлила ход. Схватив шест, Дмитрий стал поспешно водить им под рулем.
Очнувшись, Глуша поняла, что лодка Дмитрия наскочила на ее сети и, должно быть, порвала одну из них. Она быстро выдвинула свою бударку из камышей и грозно закричала на ловца:
– Слепой, что ли! Куда заехал!..
– Но-но! – оборвал ее Дмитрий. – Чего орешь? На Мотьку, что ли? Не ори, я тебе не муж!
– Выкладывай новую сетку или деньги плати! – не унималась Глуша. – А то вот веслом как дам!
Дмитрий, сдвинув на затылок картуз, громко рассмеялся.
Лодки их столкнулись.
– Я тебе посмеюсь! – и Глуша угрожающе подняла весло. – Давай новую сетку!
Опустив парус, Дмитрий набросил цепь своей лодки на уключину Глушиной бударки и сам перемахнул в нее.
– Ты что ругаешься? – спросил он Глушу, вплотную подходя к ней.
– А тебе здесь чего надо? – она обеспокоенно, часто задышала.
Сощурив глаза, Дмитрий сдержанно усмехался.
– Чего, спрашиваю, надо тебе здесь? – и Глуша отступила.
У Дмитрия лихорадочно блестели глаза. Вырвав из рук Глуши весло, он рывком вогнал лодку в камыши.
Все усмехаясь, Дмитрий вплотную подошел к Глуше и ласково толкнул ее...
Глуша крепко привязалась к Дмитрию.
Не обращая больше внимания на равнодушного Мотю, она опять стала тихой и молчаливой; с ловцами она тоже не была теперь злобной и дерзкой – шутила, смеялась с ними.
И в неизбывной радости Глуша стала еще пышнее расцветать.
Рассказывая своей подружке Насте Сазанихе о связи с Дмитрием, она признавалась душевно:
– Знаешь, Настенька, будто сызнова я на свет народилась...
Подружка, охая, предупредительно говорила:
– Смотри, Глушенька... Как бы чего не случилось...
Глуша закрывала глаза, закидывала руки за голову и, потягиваясь, беспечно произносила:
– Ну и пусть! А сейчас мне хорошо... Будто сызнова я жить начинаю...
Отец, прослышав о связи Глуши с Дмитрием, приехал в Островок.
– Брось, дочка, баловать! – строго пригрозил он ей. – Ей-ей, побью, ежели еще раз услышу.
– Батяша! – в отчаянии воскликнула Глуша. – Или ты сам не знаешь!..
– Ничего не знаю! – Максим Егорыч сердито топнул ногой. – А баловать брось!
Он стал меньше пить и теперь почти каждую неделю приезжал к дочери.
Сначала маячник все грозил выпороть ее при всем народе, а потом стал запугивать:
– Бросит он тебя. Попомнишь мое слово, бросит. Он – парень! Ему для жизни девка нужна. А баба – так, только для потехи...
Об этом же говорили ей и Настя и другие рыбачки...
Однажды Максим Егорыч сумрачно сказал ей:
– Куда ни шло! Раз не люб тебе Мотька, бросай его и выходи за Лексея-Матроса... А Митрия забудь: не пара он тебе! Попомни мое слово: бросит он тебя. А Алексей – суженый тебе. Помнишь?..
О Лешке-Матросе, с которым гуляла Глуша еще в девках, она не хотела теперь и слышать: с гражданской вернулся он поздно, без ноги и частенько изрядно выпивал.
– Митрий – парень, а ты – не девка! – твердил Максим Егорыч. – Известно, для чего ты ему нужна... Бросит он тебя!
Это начинало волновать Глушу, и она, отрадно отвечая на ласки Дмитрия, стала понемногу задумываться над тем, а что же будет дальше...
Один раз она прямо спросила об этом Дмитрия.
– Окрепну с хозяйством, – решительно заявил он, – тогда и жить вместе будем. Повенчаемся в загсе, и перейдешь ты ко мне в мазанку.
Глуша верила Дмитрию и ждала; она терпеливо переносила угрозы отца, безропотно выслушивала сомнения подружек, упреки досужих рыбачек.
«Скоро конец мученьям, – думала Глуша, лежа в постели и слушая, как во дворе бесновался шурган, громко ударяя снегом в стены дома. – Удачливо ловят белорыбку Митя и Васька. В эту весну непременно они самостоятельными ловцами будут!»
И она улыбалась, чувствуя, как в радости закатывается ее сердце...
Но рядом, раскинув руки, шумно храпел Мотя.
Она закрыла глаза и повернулась к нему спиной, снова пытаясь заснуть, но сон не шел – шурган бушевал, хотя уже и тише, все же продолжал настойчиво напоминать ей об опасностях, которые подстерегают ловцов на море.
Ворочаясь и вздыхая, Глуша с сожалением подумала о том, что напрасно погорячился Дмитрий и не взял с собой в море купленную ею у бабки Анюты спасительную, волшебную грамотку «богородицын сон».
«Капризный, чертяка», – ласково выругала она Дмитрия, припоминая, как швырнул он грамотку в помойное ведро и, нахмурясь, сердито сказал: «Меня в Красной Армии другим делам обучали!»
Слушая, как стучит в ставни ветер, Глуша все думала о Дмитрии. Ей то мерещилось, что его и Василия заваливает в коше этот шурган, то отрывает льдину и уносит с ловцами в относ, то Митя с Василием, возвращаясь домой, сбиваются в снежной буре с дороги...
Опять открыла она глаза и опять долго разглядывала потолок... Потолок, казалось, заволакивался туманом, незаметно переходя в картины ледяного, пустынного Каспия. Над морем беспрерывно кружила метель, сквозь нее пробирались Митя с Василием в Островок.
И вдруг из этого снежного бурного вихря, кажется, вырвался басовый в отчаянии голос:
– Глуш-а-а!..
Она вздрогнула, сбросила одеяло, пржгоднялась на локте.
Потрескивал фитиль в жестяной лампе, да осторожно за печкой скребла мышь.
Глуша долго вслушивалась в это мирное, ладное затишье.
«Шурган кончился, – решила она. – Должно, светать скоро будет».
И, вспомнив, что Настя, жена Василия Сазана, которая была на сносях, просила пораньше утром проведать ее, Глуша соскочила с кровати и в одной рубашке подбежала к столу.
Она прибавила свет в лампе, посмотрела в висевшее над столом зеркало – оттуда глянуло розовое, полное лицо с черными и круглыми глазами.
Глуша тихо улыбнулась своему отражению, и оно тоже ответило улыбкой, молчаливой и согласной.
«Может, из ловцов кто приехал, – подумала Глуша, – и Насте что-либо передали о наших. А может, и сами прикатили».
Она быстро оделась и выбежала во двор. Кругом были навалены огромные сугробы снега. Тускло светилась, густая белизна.
На улице властвовало безмолвие, курился синевою снег.
Проваливаясь в мягкие сыпучие сугробы, Глуша пробиралась к противоположному порядку домов; почти во всех домах уже были огни.
– Шурган поднял, – тихо сказала она, озираясь по сторонам.
Обходя высоченный бугор, подумала:
«А не сбегать ли к бабке Анюте погадать о Мите?» – и направилась было в проулок, но тут же замедлила шаги.
Бабка жила на самом краю Островка, у относной могилы.
Про этот курган с черным, из мачты, крестом говорили много страшного. Ходили слухи, что замерзшие когда-то в относе девять ловцов в шурганные ночи встают из этой могилы и бродят по поселку. Передавали также, что не раз видели, как мертвецы выходили группой прямо на Каспий и, прикидываясь добрыми людьми, заманивали к себе ловцов.
Глуша переборола страх и бегом пустилась к бабке. Где-то громко залаяла собака...
Запыхавшись и не глядя в сторону относной могилы, Глуша торопливо постучала в окно.
– Кого леший принес? – сердито прошамкала бабка, выходя в сени.
– Я, бабуся... Глуша...
– Чего спозаранок надо?
Бабка слегка приоткрыла дверь и высунула белую, седую голову; у нее был узкий, маленький лоб и впалые, ямками, виски, синеватые и чуть прикрытые редкими волосами.
– Погадай, бабуся, – и Глуша потянулась к ней, жадно вдыхая шедшие из сеней медовые запахи засушенных трав.
– Знаешь сама, – бабка недовольно взмахнула руками, —до солнца не ворожу. Взойдет, тогда и прибегай, – и захлопнула дверь.
– Бабуся!
– Ступай, дочка, ступай домой!..
Постояв немного, Глуша взглянула на относную могилу, сверкавшую белым снежным саваном, и опрометью побежала к Насте.
Навстречу из-за угла выкатила подвода, рядом с нею шагал человек. Глуша признала Антона.
– Хапун чортов! – недружелюбно зашептала она. – Жадюга ненасытный.
Антон последние годы работал от Дойкина. Он копил деньги на полную ловецкую справу, надеясь быть сам себе хозяином... Антон занимался обловом запретных рыбных ям, возил от Дойкина на государственные тони водку, где казахи тянули невода, и тайно обменивал ее на красную рыбу.
Жена Антона, худая и высокая Елена – подружка юности Глуши, – вот уже больше года чахла от какой-то болезни. А он, этот сквалыга, дрожа над каждой копейкой, не лечил жену, морил голодом и все копил, копил деньги на сбрую.
– Чортов алтынник! – онова зашептала Глуша. – И сам подохнешь скоро. Вон как согнулся!..
Грузная, когда-то статно-дерзкая фигура Антона была теперь искривлена ревматизмом: ходил он не спеша, вразвалку, сгорбившись.
В девках Глуша засматривалась на Антона. Но это было давно – семь-восемь лет назад.