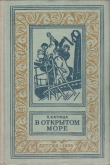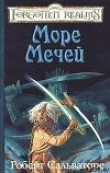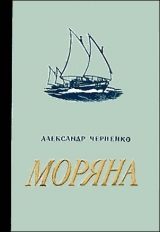
Текст книги "Моряна"
Автор книги: Александр Черненко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Лешка медленно опустился на порог и, обхватив голову руками, слезно сказал, словно пропел:
Голова ты, моя головушка,
Удалая моя голова...
Древний дед похлопал Матроса по плечу:
– Слезу лей, да дело, голубь сизокрылый, разумей. На час ума не хватит – навек дураком прослывешь.
– Разумею, дедуша! – и Лешка снова вскочил на ноги. – Знаю, все знаю!
– О чем же тогда горюешь, милай?
– О чем? – и Матрос зло усмехнулся. – Дойкиных да Коржаков взнуздать надо! На кукан посадить! Вот о чем речь...
Согласно кивая головой, дед тихо, раздумчиво сказал:
– Так, милай. Верно берешь! Оно известно: кто в море бывал, тот лужи не боится.
– Точно! – и Лешка поцеловал деда в голый желтый череп. – Я, дедуша, завсегда так говорил.
– Сядь, милай, – ловец за рукав потянул Матроса к себе.
– На кукан их надо! На кукан!.. – грозился Лешка – Ты слышал, дедуша, как их в городе?
– Слышал, милай, слышал, – древний дед устало вытянул ноги. – Известно, голубь сизокрылый: щука – рыбка увертливая, обжористая. Сколь веков вот ее ловим, а на убыль, нечистая, туго идет, и все пожирает, пожирает ладную рыбу. – Так и тут, с этими рыбниками, – беда с ними!.. Но рыбники – вникай, милай, – не в море живут, а с нами заодно. Стало быть, легче и разделаться с ними. Главных-то, милай, щук давно уж повывели. Сам же ты в городе в крепости был и по разным фронтам бился. Где всякие там миллионщики – Беззубиковы, Сапожниковы? А Лбовы где, Агабабовы, Кононовы? Царство им, проклятым, небесное! Должно, и сам ты спроваживал их туда... Вот, голубь сизокрылый, остались теперь уже не щуки, а только щучки, мальки, что поверх воды шныряют. По этим только хлопни веслом – и брюхо кверху. Не так ли, милай?
– Правильно! – радостно подхватил Лешка. – Правильно, седая душа!
– Постой, постой! Я вот к чему все это говорю: не надо, милай, тужить, не надо кручиниться. Партейный народ-то знает, что делает. Раз в городе взялись они за щучек – стало быть, и тут этой рыбешке, голубь сизокрылый, не жить.
– Да терпежу нету, дедушка! В городе то уже давно начали, а тут что? Штиль, что ни на есть, полный!
– А чего же не шумишь? Ты ведь партейный человек!
– Я не шумлю? Шумлю, дедок! Андрей Палыч даже в район покатил от моего шума.
– Хорошо! Оно известно: ежели скорей мальков-щучек изничтожить, лучше будет – щука не вырастет.
– И я так говорю, дедуша! – Матрос прижался к слепому ловцу и, теребя его за пуговицы ватника, жарко задышал. – Знаешь, седая душа, какое я дело удумал? Хочу в район ехать, на помощь Андрей Палычу, а ежели ничего там не выйдет, то в город махну, а не то и в Москву!
Отодвигаясь от наседавшего Матроса, дед недоуменно спросил:
– А зачем в Москву?
– Зачем, зачем! – гневно повторил Лешка. – В прошлом году, помнишь, я Коржака за движимое-недвижимое крепко отчитал?.. А район чего? Осудил меня, да чуть не посадили.
– Ну, тогда в город толкнись.
– И в город сигналил, дедок, да вот пока – ни слуху ни духу.
– Да-а, – вздохнул древний дед и снова попытался отодвинуться от Матроса. – Всякие бывают люди, милай. В море ведь иной раз глубины, а в людях правды не изведаешь. Или то взять: в одном осетре есть икра, а другой – и с виду он как будто подобротней, но пустой.
– То-то вот и оно! – и Лешка, наседая на деда, продолжал трясти его за пуговицы ватника и горячо, взволнованно говорить. – Самим надо приниматься за дело! Самим браться за ум, дедок!
– Оно, вестимо, милай: на ветер надеяться – без посудины быть.
– Самим, самим, дедок...
Лешка замолчал; припомнив, на чем остановил его слепой ловец, он вновь заговорил:
– Заявлюсь это я в Москву – и к самому Клименту Ефремычу!
– А кто он такой? – спросил дед.
Матрос вскочил, подтянулся, взял под козырек и, словно рапортуя, отчеканил:
– Товарищ Ворошилов – Народный комиссар по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета!
– А-а-а... – Слепой ловец закивал головой. – Знаю, слыхал.
Лешка, не слушая деда, уже светился своей всегдашней лучистой улыбкой и, прислонясь к косяку двери, чуть слышно, мечтательно говорил:
– Заявлюсь это я к нему и скажу: «Здравствуйте, Климент Ефремыч! Помните красного моряка Лешку Зубова, который под Царицыном на катере ходил, приказы товарища Сталина и ваши выполнял?.. Помните?..» Вспомнит он, дедуша, меня. Ой, вспомнит!.. А я дальше ему: «Выручайте, Климент Ефремыч, от беды! За подмогой к вам явился. Житья от дойкиных и коржаков нету. Выручайте, Климент Ефремыч!..» И поверь, дедуша, – выручит, даст подмогу. Вместе же всяких Красновых да мамонтовых изничтожали... Помнишь, дедок, как он меня с ногой выручил? А помнишь, как тогда целый воз книг прислал?..
Все знали: каждый раз, когда обращался Лешка с какой-либо просьбой-письмом к Ворошилову, он всегда откликался. Касалось ли это ноги-протеза для Лешки, или пополнения библиотеки Островка, или организации стрелкового тира в поселке, – нарком неизменно оказывал помощь.
– Помнит он своих бойцов, – продолжал Матрос. – Хорошо помнит!.. Климент-то Ефремыч, дедуша, бо-ольшой герой!
Лешка долго рассказывал слепому ловцу про Ворошилова и про то, как он, Лешка, выполняя его приказ, однажды заехал по Волге далеко в тыл белых и, высадившись с отрядом матросов, атаковал большой обоз, который перевозил на вражеские позиции ящики с патронами. Согнав обоз на берег и перегрузив ящики на забуксиренный дощаник, Лешка повел катер под другой берег Волги и без помехи проскользнул к своим.
Рассказывая о расправе над белым офицером, что сопровождал обоз и пытался подпалить ящики с патронами, Матрос привскочил и, хватая воздух рукой, сказал:
– Я его, г-гада, черк за жабры! – и он до хруста в пальцах сжал увесистый кулак. – А когда отъехали мы от берега, вывел я его на корму и командую: «Становись, г-гад, лицом к Волге – к Волге-матушке-реке...» Стал он и молчит. Тут я и прочитал ему приказ: «Именем советской-ловецкой власти сматывайся, г-гадюка, на тот свет!. »
Матрос наклонился к слепому ловцу и спросил:
– Ты слышишь, седая душа?
– Слышу... – сквозь дрему еле внятно протянул тот.
– Э-эх, дедуша, дедуша! – Лешка печально покачал головой. – А как мы ворвались в Царицын, когда там Врангель был... Это– уж после случилось... У-ух, мать честная, что было!.. В Царицыне штаб белых находился, войска не счесть, а мы, сотня-другая какая матросов, подкатили к заводу, что под самым городом стоит, и десантом на берег. Оттуда – на город! А белые: «Что такое? Не фронт ли красные прорвали?..». Паника пошла. А мы свое – швыряем гранаты, рвемся к центру города. Белые генералы уж собирались тикать.
Матрос замолчал, нахмурился.
– Не добрались мы тогда в самый центр города, седая душа... В кольцо нас взяли. И что тут было, дедуша! Сколь дружков полегло!.. До останней гранаты, до останнего патрона бились мы. А многие дружки-та останний патрон в себя пускали. Не хотели белого плена... Прорвались все-таки мы, оставшиеся, на берег – и прямо в Волгу. Выноси, родимая!.. И пошли по волнам: кто вплавь, кто на бревне, кто на чем. А пули по нас, как дождь проливной...
Дед слушал и дремал.
А Лешка уже снова рассказывал про Ворошилова, про его необыкновенную храбрость и смелые, остроумные планы, – рассказывал про то, как Ворошилов, желая выручить окруженный в Мартыновке трехтысячный отряд Красной Армии, сам двинулся во главе конницы, вместе с Буденным скрытно пробрался в тыл противника и лихим, внезапным ударом разорвал кольцо, вывел отряд из окружения.
– Климент Ефремыч, дедуша, завсегда быстро решал задачу. Один раз, когда белые прорвались между Бекетовкой и Отрадным и были уже на окраине Царицына, он – раз им навстречу запасную бригаду! Белые – назад, врассыпную. И опять город в безопасности...
Дед поднялся и, что-то сонно пробормотав, ушел в мазанку.
Лешка молча и долго стоял у двери, затем не спеша зашагал по берегу.
Крутая темь, будто смела, залила весь поселок. Изредка приглушенно гукал рыхлый лед, словно где-то далеко разрывались снаряды. В ответ так же глухо плыло по взморью эхо, напоминая топотавшую вдалеке конницу. Совсем низко над поселком пролетела-запоздалая партия гусей; вожак громко, будто гудок катера, окликал отстающих.
Лешка остановился, откинул на затылок бескозырку и устало провел рукой по лицу.
Слышно было, как тревожно скрежетали, передвигаясь по протоку, льды.
Вдруг кто-то тихонько, вполголоса затянул молитву:
– Кре-сту твоему по-кло-ня-емся-а, вла-адыыко...
Взглянув вдоль берега, Лешка, заметил: невдалеке то и дело вспыхивал слабый огонек.
«Дойкинская святоша, – подумал он о Польке-богомолке, – уже у Николы-чудотворца орудует».
– ...И святое воскресение твое поем и слаа-авим, – протяжно пела Полька.
Перед каждой путиной она все ночи проводила у столба с крышей-гробиком.
Полька не давала угаснуть огоньку, что зыбко колыхался в малиновой лампадке перед, ликом, Николы-чудотворца.
Проходя мимо, Лешка, разглядел черную, в длинной ряске, богомолку – она, низко кланяясь иконе, шептала и пела молитвы.
Заслышав ловца, Полька взвизгнула и, схватив обеими руками большой крест, что висел у ней на якорной цепке, быстро, замахала им:
– Свят, свят, свят!..
Лешка всердцах подумал:
«Чего ее так чертяка разбирает!»
А она ошалело, на весь поселок, вновь затянула молитву:
– Да воскреснет бог, и расточатся врази его!.. – и еще быстрее замахала крестом, отчего громко залязгала цепка.
Махнув рукой, Лешка зашагал дальше.
В ловецких домах огней уже не было – давно все спали. Лишь изредка гавкали собаки, да дойкинский Шайтан неумолкаемо громыхал проволокой.
Не доходя нескольких шагов до дома Василия Сазана, Лешка остановился, прислушался. Переговариваясь, из Васькиного двора выходили люди.
«Что тут за крестины-именины Настя устраивает? – подумал Матрос о Сазанихе, что недавно чуть ли не на льду родила ребенка. – Васька в относе, а она...»
Люди, будто слепые, двигались прямо на Лешку – должно быть, только вышли от Сазанихи и не успели ещё приглядеться во тьме.
Едва не столкнувшись с Матросом, мимо прошел Дойкин, за ним старый Турка. Подавшись от них в сторону, Лешка не успел опознать двух других, что шагали немного поодаль от Алексея Фаддеича.
– В другой раз, – чуть слышно сказал Дойкин, – надо Захара Минаича позвать.
– Ноги со страху отнимутся! – сердито откликнулся Турка.
– Потише... – предупредил Дойкин. – Непременно надо позвать... Сам понимаешь – такое дело!..
Дальше Лешка не расслышал, – люди, должно быть, свернули в проулок.
«Вот оно что?! – задрожав, подумал, он. – Собираются, значит, г-гады!..» – и осторожно повернул в тот же проулок, прижимаясь к камышовому забору.
Глава восьмая
А на маяке шла своя жизнь. Да, пожалуй, она и не шла, а, скорее, кружилась на одном месте или стояла мутной заводью, отрезанная от главного русла, которое по-всегдашнему суетливо двигалось вперед... На маяке, забытые в хлопотливых сборах на путину островскими соседями, сидели и молчали, поглядывая друг за другом, отец и дочь.
Навряд ли кто бывает разговорчив под замком, да еще у родного отца. Этакое учудил блажной Максим Егорыч со своей Глушей то ли потому, чтобы лишний раз показать отцовский норов, то ли просто с похмелья.
В тот раз, когда гулял маячник с Лешкой-Матросом, это и произошло.
Егорыч с Лешкой чокался, пил, плясал под гармонь, пел песни и обнимался, а потом обернулся к Глуше с речью о суженом. Побледнев, она выслушать не выслушала, рванулась из сторожки, намереваясь убежать в Островок. Батька кинулся за ней. И тут, в суматохе, старик споткнулся в сенцах и, качнувшись, ударился головой о притолоку... После перебранки с Лешкой Глуша ласково вытолкала улыбчивого гостя за дверь, а сама, все посмеиваясь, прикрывала глаза, точно и впрямь ей резала глаза эта яркая улыбка Матроса... Уложив хмельного батьку на койку, она сгоряча и сама хотела уйти в Островок, но старик сразу заснул, и Глуша побоялась, как бы не проспал он время запала лампы на маяке.
«А может, уйти мне? Ну его!.. – Но недолго колебалась она. – А если и всамделе захворает батяша? Вон как грохнулся-то головой!»
Тревожно поглядывая на старика, Глуша осталась ждать, пока он очнется. А когда проспался Максим Егорыч и опамятовался, то, как и раньше, хотел было прикинуться, будто он ничего не помнит и ничего не случилось, – хитровато, одним глазом обшарил сторожку, заметил прибранный стол, чистое стекло на лампе и мирно сидевшую у стола за шитьем дочку.
Как будто и в самом деле ничего не произошло, но Егорыч не вытерпел:
– А Лексей где же?
Глуша только этого и ждала:
– Выгнала!
– Как?! – Старик вскочил с койки.
– Ну, проводила. В поселок... И мне пора домой, батяша.
Маячник молча оделся, повязал голову полотенцем, застонал, то и дело трогая затылок:
– Пропала головушка моя, пропала! Кровью, видно, изойду...
Глуша удивилась: еще когда спал старик, она, беспокоясь и ухаживая за ним, не только не заметила крови на его затылке, но даже не нащупала и припухлости.
– Чего ты, батяша?
– Эх, дочка, дочка! – Егорыч, обхватив голову, шагал из угла в угол, исподлобья поглядывал на Глушу. – Все тебе не так да не эдак!
– И чего ты всамделе, батяша? – Глуша резко отбросила шитье на стол.
– Пропала головушка!..
Старик заметил, что дочь, недовольно взглянув на него, отвернулась к окну. Тогда он в гневе сорвал с головы полотенце, накинул на плечи полушубок, снял с разноцветного сундучка замок, подскочил к столу и топнул:
– Арестую!
С тех пор и не разговаривает Егорыч с дочерью.
Не в обычаях стариков сознаваться перед детьми в своих оплошностях и проступках. Давай им волю, детям-то! Отцы больше знают!.. Держи в ежовых, особенно дочек.
Не с этакими ли думками выходил сейчас Максим Егорыч из сторожки, вешая на двери замок, что снят был с окованного разноцветной жестью сундучка? Нет, если бы с этакими, то не шептал бы он о том, что «а вдруг убежит, шалая».
Так и шло на маяке изо дня в день... Оставляя Глушу в сторожке, замкнув дверь на замок и старательно проверив, надежно ли привязан ключ к пояску, старик запахивал полушубок и направлялся в амбар порыться в инструменте, постоять, покурить, подумать.
«А ежели окошко высадит да выскочит?» – Маячник суетливо обегал сторожку, прикидываясь озабоченным работой, а сам искоса поглядывал на окно. Затем он взбирался на вышку маяка, трогал стропила – не шатаются ли – и гулко стучал молотком по скрепам.
Привычным взглядом обегал маячник мутный горизонт Каспия. С вышки море всегда казалось и шире и ближе. Вот оно, совсем под ногами, дышит просторной грудью, недавно сбросив ледяной панцырь. Море бежит на берег и возвращается обратно... Волны, словно подгоняемые лучами солнца, идут то цепью, то врассыпную, и кажется, не волны это, а неохватный, потревоженный косяк рыбы засверкал, заиграл медно-красной чешуей... А вон там, на самой глуби, в синеве морского простора, прошлась тонкая черная кайма.
Маячник сразу признал в ней дымок парохода и отрадно усмехнулся:
«Первач, должно...»
Попыхивая цыгаркой, он взглянул вправо: над всем приморьем уже который день катились шарами прозрачные белесые пары, отлетая от хрупких, подтаявших льдов.
А почти под самым маяком в ледяной броне, кое-где уже покоробленной, лежал банок, – словно громаднейшее чудовище распласталось среди необозримых камышовых зарослей, уткнув голову в поселок, а хвост опустив в море. Так оно и есть: с одной стороны раздвоенного хвоста возвышались эти зыбкие, обглоданные ветрами стропила маяка, по другую сторону – пески, а посреди – устье банка, взбудораженное еще с осени подвижкой льда; здесь взгромоздились одна на другую могучие ледяные глыбы, образуя чуть ли не с маяк высотой ледяной навал.
«Все одно ухнет, – определил маячник. – Не помешает... Скоро начнут пробиваться в море первые посудины. Придется ловцам покрошить топорами и пешнями ледку. И все-таки пробьют лазейку, вырвутся на Каспий».
Егорыч снова посмотрел на банок, на дальние ерики и протоки, которые вот-вот отряхнутся от ледяного нароста и, грохоча, понесут его в море.
«Надо бы съездить за жалованьем и припасами, – продолжал размышлять маячник. – Старшой говорил насчет прибавки. Хорошо бы!.. Сетки вот вобельной я не заготовил. И соли маловато...»
Но и здесь, на вышке, он не находил себе покоя, снова и снова одолевали его мысли о Глуше, о том, кто ей ровня – Дмитрий или Лешка.
Наконец, все на вышке осмотрено, все облажено, пора спускаться. Но Егорычу нерадостно попадаться на глаза Глуше, и, сойдя с вышки, он опять забирался в амбар, опять курил, качал головой, решая один и тот же вопрос:
«Как же быть-то? И не удумаешь!.. Ежели на Митрия согласье дать, пиши пропала дочка. А Лешку, видно, никак не хочет, беспутная. У парня, известно, полторы ноги. В жизни далеко не ускачешь!.. А Митрий по виду человек-человеком. Вся беда, что парню дальше Дойкина податься некуда. Не зря Лешка сказывал – классу в нем нету... Что ж делать-то? Фу ты! Голова аж трещит! – Он хватался за голову и до изнеможения кружил по амбару. – Задала задачку, доченька!.. А что, ежели самому попытать заговорить? Ох, стыд! Засмеёт старого!..»
Крадучись, он быстро-быстро обошел сторожку и исподлобья метнул взгляд в окно. Не заметив там Глуши, остановился, кашлянул и вразвалку, будто усталый, подошел ближе; откинув шапку на затылок, он дробно забарабанил пальцами по стеклу:
– Дочка, а дочка!
В черноватой раме окна показалась сумрачная Глуша.
– Готовь на стол! Не видишь, устал, заработался батька!
Его тревожила мысль о ключах, которые велел он Матвею Беспалому передать в собственные руки Дмитрию Казаку, а когда загулял с Лешкой-Матросом, то приказал и этому отобрать ключи у Дмитрия.
«Ух, и молодчага парень Лешка!» – вспомнил Егорыч выпивку с Матросом и бесшабашное катанье с ним на санях по Островку, но тут же спохватился, догадываясь, что Глуша предпочитает Дмитрия.
Для старика было ясно: он, именно он виноват перед дочерью за то, что выискал ей такого мужа, как Матвей Беспалый. И должен он, отец, поправить ее судьбу, сделать удачливой – такою, чтобы зажила Глуша, как ни одна рыбачка не живет в Островке.
«А может, обойдется? – утешал он себя, все чего-то выжидая. – А может, что другое выйдет?»
Ни в ту, ни в иную сторону ему не хотелось сразу решать, не хотелось сразу давать согласия, хотя и видел, как томится Глуша взаперти.
«Горе-горюшко по свету шлялося и на нас невзначай набрело... Это ж про нас, дураков, сказано! – И маячник безотрадно оглядывался на золотистую россыпь моря. – Людям-то я дорогу указываю с маяка круглый год, а вот дочке не могу простой пути-дороженьки выбрать!»
И тут же начинал ругать себя:
– Кончать надо, кончать!.. Сколь дён мудруешь над дочкой, старый бес! Гляди, сотворит еще чего недоброе... Не зря же говорится: «От горя хоть в море, от беды в воду». Только не убегла бы, шалая!
А Глуша и не думала убегать... Как только Дмитрий ушел с маяка в Островок, она, уверенная, что батька согласился на ее совместную жизнь с Дмитрием, принялась убирать сторожку: побелила печку, сняла в углах паутину, вытерла пыль на посуднике, на сундучке, на подоконнике, вычистила посуду и вымела целую кучу мусора; потом вымыла горячей водой полы и, разрезав мешок, постелила его дорожкой от двери к столу.
На другой день Глуша стирала батькино белье, на третий шила, латала. Входившему в сторожку Егорычу она каждый раз напоминала, чтобы хорошенько вытирал он ноги. Маячник послушно пятился в сенцы, добродушно ворчал, называя ее выдумщицей и барыней.
А сейчас она встретила отца настойчивым вопросом, не подняв даже головы от иголки:
– Когда же домой, батяша?
– Завтра, дочка.
– Опять завтра! – и она сердито отложила шерстяные носки в сторону.
– Маячная лампа что-то у меня не ладится, дочка.
– У тебя все не ладится! – не вытерпела Глуша.
– Как ты говоришь? – прикинулся недослышивающим маячник и, хитро прищурив глаз, добавил: – До завтра, думаю, управлюсь с лампой. – Он насупился и отошел к окну.
– Ах, управишься? – зло спросила Глуша.
– Беда! Не ладится маячная лампа. Что с ней такое?! – И старик выскочил из сторожки, заперев ее снова на замок.
А лампа исправно горела.
В этом уверилась Глуша сама, заметив из окна, как упала с вышки ослепительно белая полоса света и, скользя по волнам, пошла на глубьевые, морские пространства.
К подошве маяка непрерывно катились рассеченные лентой света волны, – взбегая на песок, они беспокойно шипели в темноте.
«Ну вот, людям светим, а сами пути не видим. Все: и батяша, и я, и Митя».
А Лешка?
Лешку не могла Глуша вспоминать без улыбки, как ни тяжело ей было сидеть взаперти у старика.
«А все из-за него! – незлобиво упрекала она Матроса. – И чего привязался?»
Осерчав на Лешку, она все же порой жалела одинокого ловца; в нем привлекало ее то, что он хоть и неудачлив в жизни, зато радостен, и среди шуток и смеха в нем горели большие желания, – они и отталкивали и привлекали к нему людей.
Однако Глуша избегала дум о Матросе, хотя восторженная улыбка его часто сверкала перед ее глазами; Глуша думала только о Дмитрии, только его считала себе под стать.
И теперь, глядя из окна на море, где лениво роились волны, перехваченные с маяка яркой холстиной света, Глуша впервые сравнила Дмитрия с Лешкой. Тут ей припомнились слова отца, которые говорил он Дмитрию, о том, чтобы бросал тот Дойкина. Да и Лешка не один раз с неприязнью упоминал о Дмитрии, говоря, что классу в нем нету. Что это такое?.. Припомнились Глуше и другие слова батяши о Матросе: «Хорош парень. Крепок!» И в самом деле, без ноги – ведь не без сердца...
Но почему же так влечет ее к Дмитрию? И правы ли старик и Лешка, осуждая его?
Стоя у окна, Глуша заметила, как вдали неожиданно, сверкнув, зарябили воды.
Полосой налетел ветер. Море глухо зарокотало, покатив к берегу косматые, пенистые валы; волна набегала на волну, взметая кипучие белые гребни. Ветер тревожно завыл в стропилах маяка.
Глуша подошла к зеркалу и отшатнулась – она не узнала себя! – на нее глянуло исхудавшее лицо, под глазами лежала печальная синева.
«Извелась, совсем извелась! Что-то Митя скажет?..» – И жгучая тоска, предчувствие какой-то беды нахлынули на нее. Кутаясь в шаль, она повернулась к окну, присела на подоконник и долго слушала, как тяжело бились под маяком волны. А когда пристальней вгляделась в белую полоску света, что уходила далеко-далеко в море, в тревоге вскочила и простонала:
– Ой! Не Митя ли?..
От берега стремительно понеслась на глубь Каспия посудина под парусами, словно большая белокрылая птица.
Глуша, шатаясь, прошла к койке и уткнулась в подушку. Все думая о Дмитрии, она то засыпала, то вдруг вздрагивала и поднималась, – сердце громко, стучало, хотелось кричать о помощи.
Она опять шла к окну и, глядя на однообразно бегущие на маяк волны, прислушивалась, не спускается ли с вышки батяша.
– Замучил меня! – шептала Глуша. – Замучил вконец!..
Егорыч не приходил до полуночи, отсиживаясь на вышке и выжидая, пока уснет дочь.
Но не всю же ночь топтаться на мостках!..
И как только он, крадучись, заявился в сторожку, Глуша набросилась на него:
– Долго будешь мудровать? Утопить хочешь?..
В гневе она рванула его за рукав.
– Что ты, что ты, дочка? – опешил Егорыч. – Чего ты, родная?
– Родна-ая! – передразнила она. – Была б родная, не измывался бы!
– Постой, постой! – Маячник, отступая, попробовал отшутиться: – Мы ведь, Глушок, с тобой как рыбка с водой!
– Довольно! Наслушалась прибауток!
– Да чего ты, доченька?..
– Не могу! Не могу больше! – продолжала наступать Глуша на старика. – Садись! Говори!
И, подведя отца за руку к столу, она опустилась на табурет:
– Говори, говори! Кому обещал меня?.. Лешке?!
Громко зарыдав, она ударилась головой о стол.
– Ой, дочка! – Старик, обхватив голову Глуши, стал целовать ее, приговаривая: – Чего ты, родная! Да разве я?.. Глуша! Сама выбирай! Известно: рыба ищет где глубже, а человек где лучше... Вот и выбирай, родная ты моя!
Не поднимая головы, Глуша сквозь всхлипывания, с упреком сказала:
– А чего молчал?
– Да чего ты, право! – изворачивался старик. – Потому и молчал, все терпел, пока сама обмозгуешь. Сама должна выбирать себе человека. Сама, дочка!
– Сама-а... – Глуша отвернулась, вытерла слезы.
– Знамо дело, дочка, сама.
– А когда домой поедем? – строго спросила она.
Маячник удивленно подумал:
«А спрашивает как начальник, как старшой!»
– Когда в Островок, говорю, поедем? – еще настойчивее повторила Глуша.
– А хоть завтра, дочка. Прямо с зорькой, – заторопился Егорыч. – Проглеи-то вон как раздались, да и лампа теперь у меня в исправности... – Он хитровато прищурил глаз. – Еле справился с этой проклятущей лампой! Чайку попьем – и тронемся на куласе.
Не раздеваясь, Глуша упала на койку.
– С зорькой, дочка, и тронемся.
Он готов был ехать хоть сейчас – так напугала его столь неожиданная перемена в поведении Глуши.
Никогда не кричала она на отца, никогда не противилась его воле, всегда терпеливо выжидая мучительно долгие отцовские решения.
«Ишь, чего наделал, старый пень! – ругал себя маячник. – Плюнет на тебя – и уйдет. Ну и настряпал делов, старый хрыч!»
Присев у изголовья койки, Егорыч долго глядел на дочь, удивляясь, откуда взялась у нее такая непокорность.
– Не спишь, дочка?
Глуша молчала.
«Дурень! Чертяка старый! – продолжал корить себя Егорыч. – Из ума выжил! Вконец замудровал дочку!..»
В раздумье просидел он до рассвета подле Глуши и все качал головой:
«Эх ты, жизнь!.. А может, еще и обойдется? Обойдется, может?.. Эх, как бы повернулось все по-хорошему!»
...Рано утром, как только вынырнул из-за края моря багряный полукруг солнца, Егорыч погасил лампу на вышке, покурил, посмотрел на розовую зыбь Каспия и недовольно взглянул вправо, в сторону Островка, где кружило белое марево туманов. Закатисто вздохнув, старик медленно спустился в сторожку, чтобы разбудить Глушу.
А дочь уже сама поднялась и хлопотливо приготавливала стол. Они молча пили чай. Старик пытался украдкой заглянуть дочери в глаза, желая дознаться, чего она хочет.
– Налей батьке еще чашечку. Может, и наливаешь-то в последний раз. Эх, дочка, дочка!..
Глуша не ответила.
И, чтобы разжалобить ее, чтобы тронуть внезапно зачерствевшее дочернее сердце, он унылым голосом опять просил, передавая ей свою чашку:
– Налей, Глушок, налей... Может, больше и просить не придется, дорогая ты моя.
И, как раньше сам упрямо молчал, так же упрямо не отвечала ему теперь Глуша, пока сама же не нарушила мучительного молчания:
– Значит, поедем, батяша?
– Сейчас и поедем! – обрадованно откликнулся он и торопливо подул на блюдце.
В ответ старику Глуша. в первый раз за эти дни ласково улыбнулась. У Егорыча радостно зачастило сердце.
«Отошла, – подумал он. – Утихомирилась».
Бросив пить чай, она стала быстро собираться.
Видя, что дочь становится прежней, послушной, маячник осторожно заговорил:
– Так вот... того, дочка...
– Чего ты? – Глуша насторожилась. – Опять начинаешь?
– Как говоришь? – и старик приставил к уху сложенную трубочкой ладонь, но взглянув на посуровевшую дочь, испуганно проронил: – Гляди, говорю, сама... Сама – как лучше, чтоб не каялась.
Высоко держа голову, она ходила по сторожке как никогда горделивой походкой и, должно, чувствовала себя полной хозяйкой, чего с ней никогда не было. Маячник впервые видел дочь такой решительной.
«Будто кто подменил ее», – с тревогой подумал он.
– Поскорей, батяша! – требовательно заторопила Глуша.
«И говорит-то как не с батькой, – все удивляясь, думал старик. – И чего с ней стряслось?»
Он опасался, как бы она опять не стала кричать на него.. Наливая в блюдце чай, старик продолжал исподлобья следить за пей.
– Довольно тебе! – необычно строго сказала Глуша и с шумом сорвала со стены полушубок.
От испуга маячник даже чашку выронил.
– Дома напьешься! Поехали!
Она выжидательно остановилась у двери. Старик устало прикрыл глаза и тяжко вздохнул – вот и ускользает, уходит его власть над дочерью!
– Ну? – и Глуша строго свела брови.
Егорыч медленно встал, подтянул шаровары и негромко сказал напоследок:
– Ладно, дочка. Пошли на кулас... Так и быть... Да... Ладно... И помни отцовы слова: подумай обо всем, погляди вокруг как следует... Кто милей, кто лучше тебе, – помозгуй: Митрий или Лешка... Лешка, а может, Митрий... Помозгуй – тебе жить, не мне...
Намекая на Дмитрия, он тихо добавил:
– У ловца весло – одно ремесло, да и то поломано!
И, подойдя ближе к Глуше, жалостливо попросил:
– Подумай, дочка. А то ведь – чем сатана не шутит! – и так может получиться, как в штормы: и к одному берегу не пристанешь и к другому, милая, не прибьешся... И понесет тебя, понесет!.. Да-да, часто бывает так. Глядишь – и по рукам пошла. Пропала тогда, дорогая!.. Помни, дочка: и быстрой и широкой реке слава ведь только до моря.
Глуша решительно открыла дверь и вышла из сторожки.
Егорыч смахнул внезапно брызнувшие слезы и, быстро напялив телогрейку, направился следом за дочерью...
Отталкиваясь с кормы шестом, он молча гнал кулас по широко раздавшимся за ночь проглеям. За всю дорогу, вплоть до Островка, маячник не проронил ни слова.
А Глуше было радостно, хорошо. Вот скоро берег, Островок – и встреча... Она улыбчиво следила за чайками-хохотушками, что стремительно носились над приморьем.
Радовало Глушу и это домовито теплое солнце – оно уже подбирало последние мутные сугробы в по-низях и, казалось, вот-вот должно дотла растопить взбухшие льды протоков и ериков.
Над камышами приветливо курился прозрачный синеватый туман.