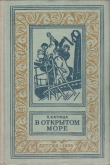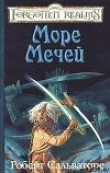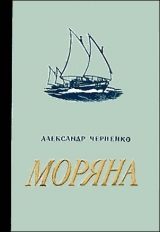
Текст книги "Моряна"
Автор книги: Александр Черненко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)

Часть вторая
Глава первая
Целую неделю нещадно била моряна, всю неделю стоголосая стихия неукротимо ревела, шало кружась по приморью, а потом разом оборвалась, канула в камыши...
И когда вышел на берег народ взглянуть на притихший и оттого радостный мир, то у своей посудины уже сидел раньше других дедушка Ваня.
Дедушка, должно быть, чуял, как моряна покоробила ледяной проток и как в разводьях промеж льдов заблестели чернистые воды.
Слышал дедушка и далекие всхлипы перелетной птицы, да только не видел он, как птица эта, исчертив сизое поднебесье, черными вереницами плавно шла на норд, на места гнездовья и размножения, а по ее следу на заштилевшее взморье опускались, покачиваясь, белые пушинки...
Небо, раздвинувшись, отложило в море и в степи грозные лохмотья туч, и вдруг из этой бирюзовой прорвы ударил горячий, ослепительный ливень солнечных лучей; взлохмаченные края туч и в надморье и в надстепье вспыхнули ярким, невиданным пожарищем.
Над Сазаньим протоком качались густые лиловые дымы.
Добрая половина глубьевых морских ловцов была уже в полной готовности к выходу на Каспий: многие еще несколько дней тому назад спустили по каткам на воды жирно засмоленные посудины, перебросили в них на тележках и тачках сети, паруса, продукты. И, собираясь семьями, ловцы поджидали, когда пошире раздадутся проглеи между льдов и потянет береговой попутный ветерок, чтобы вольней вздернуть паруса и удариться от берегов прочь – на глубьевые каспийские пространства – встречать миллионные косяки рыбы.
Но проглеи для прохода морских посудин все еще были узки. От берега на середину ледяного протока уходило только несколько извилистых полосок воды, соединяясь там с другими проглеями, – и все они, казалось, невиданно крупными миногами надолго залегли во льдах. В проглеях ходили волны, и чудилось, что эти гиганты-миноги шевелились, а когда происходила подвижка льда, они тоже двигались, ползли, извивались... По этим ледяным тропинкам ловцы на шестах, осторожно, чтобы не срезать посудины, пробивались к морю, на выкате в Каспий ставили паруса и неслись навстречу рыбным косякам. Но зато, когда вдруг спадал ветер или наотмашь хлестал штормяк, ловцы истово кляли все воды с их обитателями, вплоть до самого морского дна; переругиваясь, они долгое время мотались у берегов.
Так и теперь – ветры не удались: над приморьем властвовал золотистый, застойный штиль. Да и проглеи не раздавались по-настоящему. А по ночам все чаще и чаще сковывал проглеи тонкой коркой льда мороз. Морские ловцы, боясь, чтобы не порезал лед суда, вытаскивали их обратно на берег... И только речные ловцы, да и то особенно рьяные и смелые, шмыгая на махоньких куласах по узким межльдиньям – того и гляди, что срежут свои лодчонки об острые, ребристые ледовые окромки, – поспешно разворачивали лов; одни выбивали сети, другие поднимали улов, а третьи уже гнали переполненные рыбой посудины на приемный пункт...
Дедушка Ваня, невесть когда вступивший во второй век жизни, быстро мчался с Волокушьего протока на утлом, узкогрудом куласе; на корме его лодчонки сидела сгорбленная женщина.
Кулас был налит по самые борта рыбой, и с берега казалось, будто в черную свою посудину дедушка начерпал груду серебра.
Слепой ловец размашисто работал шестом, словно идучи с посохом из дальнего странствия по знакомой тропе; ему, незрячему, все одно – по широкой ли дороге, по широкой ли волне...
Вот он подвел кулас к берегу и, тяжело отдуваясь, сказал сидевшей на корме женщине:
– Ну, Ильинишна, вылазь – тороплюсь на приемку!
Он снял черную лохматую шапку и отер ею лицо; у древнего деда большой, изрезанный толстыми, в палец, складками лоб и точно обмытый маслом желтый череп.
Вслед за дедовым куласом невдалеке двигалась бударка; она часто останавливалась, задевая то бортом, то носом о края льда; видно было, что лодку гонит человек неопытный. Он бестолково скакал с кормы на нос и опять на корму, неуклюже отталкиваясь багром, и лодка неизменно натыкалась на льды, а то становилась бортом поперек проглеи.
Дед повернулся к протоку и, будто видя, как маялся человек с бударкой, пробираясь по проглеям к Островку, ухмыльнулся, а потом опять сурово сказал:
– Вылазь, вылазь, Ильинишна!
К дедову куласу спешили ловцы; в женщине они признали мать Василия Сазана, – она возвращалась с поисков сына.
Не дожидаясь ловецкого чуда, когда унесенную льдину с Василием, возможно, прибьет к берегам, рыбачка уехала за помощью в район и в город.
Первым подошел Сенька; искоса взглянув на Ильиничну и не зная, с чего начать разговор, он неторопливо взял из дедова куласа живую рыбину.
Жирная, с темнофиолетовым отливом, вобла жадно ловила воздух, то и дело открывая влажные красные жабры.
– Хороша воблуха, дедуша, – пробуя на руке вес рыбы, сказал Сенька и снова искоса посмотрел на Ильиничну.
В переполненном куласе шевелилось скользкое вобельное месиво. Сотни рыбин, стараясь выползти друг из-под друга, рвали хвостами воздух, распахивали жабры, таращили серо-голубые глаза, а некоторые, вскидываясь, вымахивали за борт и, недвижно пролежав на воде брюхом вверх секунду-другую, вдруг расправляли плавники и, перевернувшись, мигом скрывались подо льдом.
В руках Сеньки рыбина пружинисто изгибалась, хлестала его махалкой по локтю.
– Воблуха редкостная! – сказал он.
Дед еще раз отер шапкой запотевшее лицо, нахлобучил ее на голый череп и, взяв шест, недовольно сказал, будто видел, что парень держал в руке его добычу:
– Ложи в кулас! – и только тогда оттолкнулся от берега, когда ловец бросил воблу обратно в лодку.
Посудина шумно зашуршала днищем о крошево льда.
Из куласа деда то и дело сигали в проток рыбины, а вот одна стрельнула даже на лед; подпрыгнув несколько раз, она успокоилась и, изогнувшись, застыла.
– Спасибочко, дедушка Ваня!
Ильинична, одернув юбку, нагнулась было за узелком, но ее предупредил Костя Бушлак, – он поднял узелок и подал рыбачке.
– Что слышно, маманя?
Она пристально посмотрела на бурое, заштормованное лицо Кости и тихо, нараспев ответила:
– Была и в городе, была и в районе, сынок... – Ильинична не спеша тыкала то в одну, то в другую сторону жиденьким ивовым посошком. – Дали по чужим берегам клич, чтобы смотрели на относные льдины. А клич-то по этому самому радио пустили, по своей – городской, стало быть, волне. Вот и все, сынок...
Помолчав, рыбачка скорбно добавила:
– А так ничего и не слышно о Васятке.
Собираясь уходигь, она вдруг заговорила быстрее, взволнованно:
– Сказывают, будто под Долгими островами тюленщики сняли четверых относных ловцов. И в городе и в районе про то слышно... – Ильинична подумала, потом тихо сказала: —А про Васятку не чуют, не ведают.
У рыбачки стремительно хлынули слезы. Костя нетерпеливо переступил с ноги на ногу.
– Не надо, маманя, – попытался успокоить он Ильиничну. – Рыбачке горевать – только море гневить.
Смахивая полушалком слезы, Ильинична согласно закивала головой:
– Правда, сынок. И то правда... Знамо дело, кто в море не бывал, тот и горя не видал.
Одни ловцы молча отходили в сторону, другие, крякнув, переводили затуманенные взгляды на переполненный рыбой дедушкин кулас, что под солнцем ослепительно блестел серебряною чешуей.
Древний дед, как по изведанным тропкам, гнал кулас по проглеям на рыбоприемный пункт, – лодка шла в самый раз по черным межльдиньям. Уж не в самом ли деле дедушка Ваня видел все, как говаривали ловцы, внутренним оком, душою?..
К берегу приближалась бударка, что все время натыкалась на льды; человек с багром в руках продолжал бестолково метаться по посудине.
– Эка дурень! – не вытерпел Макар-Контрик, пристально следивший за неведомым человеком.
Когда бударка вошла в узенькую проглею, извилистой дорожкой бегущую к берегу, и крепко ударилась бортом о края льда, Макар даже подпрыгнул и, сложив ладони рупором, что есть силы крикнул:
– С кормы надо пихаться! С кормы!.. Слышь?!. С кормы, говорю!.. Посуду срежешь, дурья твоя голова! С кормы пихайся!
Ловцы, с любопытством наблюдавшие за незнакомцем, двинулись по берегу дальше, оставив Ильиничну с Костей и Сенькой.
Впереди всех шел Макар; опасаясь, как бы не срезал человек посудину во льдах, он без умолку повторял:
– С кормы пихайся! С кормы!
Ловцы, неторопливо, вразвалку шагая, громко переговаривались:
– Что за гость?
– Откуда такой фертик?
– Не нашинский, видать.
– Городской!..
– А багор-то держит, будто трость!..
Посмотрев в сторону ловцов, Ильинична двинулась домой.
– Маманя, – остановил ее Костя Бушлак. – А может, среди этих-то четверых, что тюленщики под Долгими сняли, и Василий как раз? Слух тут такой есть.
Горько улыбаясь, рыбачка остановилась и попрежнему запричитала:
– А может, а может... И бабка Анюта тогда гадала: чудо выходило... Район-то вот запрос сделал, а ответа все нету и нету.
Она жалостно посмотрела на молодого и крепко сложенного Костю, точно хотела ему сказать: «Вот и сам ты собираешься в море, а кто знает, вернешься ли?..»
Будто чуя думу рыбачки, Костя шумно вздохнул, отвел глаза в сторону и негромко сказал:
– Скоро, маманя, дойкинские посуды уйдут под Долгие. Глядишь, и разузнают про Ваську. А там и мы выбежим в море. Тоже узнаем что-нибудь.
– Спасибочко, сынок, за доброе слово... – Ильинична благодарно кивнула головой и снова двинулась в поселок; она тяжело опиралась на ивовый посошок, который чуть ли не наполовину уходил в зернистые пески.
На пригорке, увязая в песках, стояли исчерна-серые, захлестанные штормами ловецкие дома; крыши их были в густой зеленой плесени от бесчисленных морян и частых сырых туманов.
Ильинична остановилась и, помахав узелком, позвала Бушлака:
– Поди-ка сюда, сынок! Совсем забыла...
К рыбачке вслед за Костей зашагал и Сенька.
Развязав узелок, Ильинична вынула из него конверт и, передавая Косте, попросила:
– Сходи, сынок, к Маланье Федоровне. Почитай ей. От Катюши это... Устала я очень. Скажи, вечером зайду и все выложу ей про дочку.
– От Катерины Егоровны письмо? – Костя в удивлении вертел в руках конверт.
Рыбачка заулыбалась, любовно оглядывая ловца.
– Тут и тебе и Маланье Федоровне – заодно... Катюша-то на заводе – сама хозяйка! Это она все устроила: и радио пустили по городской волне на Каспий, и в район бумажку повезли о помощи... Все она, все Катюша. – Ильинична пристально посмотрела на ловца. – Про тебя, может, не раз и не два спрашивала. Вот как!..
Взглянув на Сеньку, Костя сунул конверт в карман и бережно взял Ильиничну под локоть:
– Пойдем, маманя, провожу тебя.
Сенька повернул к ловцам, которые собрались у бударки незнакомца, уже приставшей к берегу.
Неведомый человек, спрыгнув с лодки и озорно посмеиваясь, громко спросил:
– Где тут Василий Сазан живет?
– А ты кто будешь? – полюбопытствовал Макар.
– Тебя это не касается! – развязно ответил человек. – Где Василий живет, спрашиваю?
– В относе он... – начал было Макар.
– Дом где его? – резко оборвал ловца приезжий. – Живет где он?
– Да в относе же, говорю, Василий...
– Ну и бестолочь! Дом, спрашиваю, его где?
Ловцы удивленно переглянулись, а Макар, нахмурясь, молча отошел в сторону.
Незнакомец глубже надвинул на лоб серую с длинным козырьком кепку, из-под которой торчали большие острые уши; заметив подходившего Сеньку, он пошел ему навстречу и, ухарски подмигнув, спросил:
– В котором тут доме Василий Сазан живет?
Кивнув на проулок, Сенька растерянно пробормотал:
– Направо от угла, третий... Желтый, два окна.
Приезжий быстро подался в поселок; Сенька успел только заметить его вертлявые зеленоватые глаза.
Ловцы заговорили разом: – Что это за птица?
– А сапожки-то, сапожки! Эх ты, маманя родная!
– И галифе по бокам, ровно бочонки, прилажены.
– Из района какой-нибудь!
– Нет, городской!
– И зачем ему спонадобился Васька?
Долго еще говорили ловцы, высказывая разные предположения о том, кем являлся приезжий и зачем прикатил в Островок...
Ильинична и Костя шли медленно, – пески в поселке глубокие, рыбачка круто опиралась на руку ловца.
– Спасибочко, сынок, спасибочко! Замучилась я с этой поездкой. Во-от спасибочко!.. – И ни с того ни с сего стала жаловаться на Василия: – Говорила ему, ка-ак говорила: возьми, возьми с собой, сынок, ладанку! Не гнушайся стародавнего дедовского свычая. Подвесь ладанку на грудь ко кресту, а на нем сам Христос распят... Сбережет тебя ладанка ото всех напастей, ото всяких бед... Еще дед наш с ней в море ходил и сам батька... Надежная ладанка!
Рыбачка остановилась и, расстегнув фуфайку, вынула из-за пазухи на шнурке крохотный розовый мешочек.
– Видал? – рыбачка, перекрестившись, осторожно приложилась к нему губами. – Велела я Васятке надеть эту пречистую, палестинскую... Как упрашивала захватить ладанку в море. А он – куда там! Насмехаться стал. Не взял, дурень, ладанку – вот и беда! А как говорила, как упрашивала! И старый мой тогда в останний раз выбег в море без нее, без пречистой. Вот и сгиб безо времени...
– Ладанкой не утихомиришь, маманя, море, – невесело заметил Костя.
Ильинична задумчиво посмотрела на ловца.
– Да-а, – огорченно протянула она, – оно такое, наше море...
Поддерживая под руку рыбачку, Костя все дожидался, что она снова заговорит о Катюше.
Но Ильинична молчала, продолжая с трудом передвигать разбитые ревматизмом ноги.
Костя наконец сам решил заговорить о своей землячке, однако начал издалека:
– А не видала ты случаем, маманя, в районе Андрей Палыча?
– Ой, как же! Совсем запамятовала... Видала, видала, сынок! Велел передать, что скоро воротится.
– А еще ничего не говорил?
– Нет, ничего, – Ильинична, еле переводя дух, остановилась. – Хватит, сынок. Я этим вот закоулком пройду. Спасибочко.
И только Костя решил спросить старую рыбачку о Катюше, как вдруг из соседнего двора ее громко позвал Цыган:
– Ильинишна!
Цыган подошел к камышовому забору и, слегка приподняв шапку, спросил:
– Узнала что про Ваську?
– Ох, нет...
– Так вот слушай. Я встретил под Маковом человека... – Цыган шагнул к калитке и предложил Ильиничне: – Да ты зайди к нам на минутку.
Впустив рыбачку во двор, он так же громко, словно в рупор, продолжал:
– Верно, слышала про четверых относных, что гурьевские тюленщики сняли? Так вот этот человек и говорит, – один, слышь, вашинский, из Островка. А кому, как не Ваське быть, я думаю...
Дальше Костя не слышал – Цыган с Ильиничной уже входили в сени.
Бушлак постоял у забора и, досадуя, что не успел подробнее расспросить рыбачку про Андрея Палыча, неторопливо зашагал дальше.
С той поры, как уехал Андрей Палыч в район, Костя не находил себе места; он спозаранок бродил по поселку и везде натыкался на предпутинную горячку. И стар и млад готовились к выходу на лов: чинили старые сети, метали новые, садили их на хребтины, дубили, конопатили и смолили посудины, латали паруса.
Повсюду висели сети: и во дворах, и в проулках, и на берегу, – казалось, весь Островок опутан тонкою паутиной.
Пахло прелью сетей и старой пряжи, жирно несло смолой.
Предпутинная спешка была в полном разгаре. А Костя все ожидал Андрея Палыча, – прошло уже много дней, как тот уехал в район.
Лешка-Матрос на уговоры Кости начать как-то самим подготовку, чтобы не пропустить начало путины, больше отмалчивался или мрачно, отрывисто отвечал:
– Подождем Андрей Палыча...
После гулянки с маячником он целые дни сидел один, запершись в своей мазанке, или же бродил где-то на задах Островка, возвращаясь домой только поздней ночью.
Свернув в проулок, Костя встретил шагавшего на берег угрюмого Лешку.
– Куда, Лексей?
Матрос остановился, о чем-то думая.
– Чего ж будем делать, а? – спросил его Костя.
Лешка сердито махнул рукой и снова зашагал на берег. Выйдя к протоку, он сумрачно посмотрел в сторону маяка, тяжко вздохнул... В самом деле, какая это глупая история с Максимом Егорычем! Лешка даже был там, на маяке, снова гулял со стариком, потом поскандалил с Дмитрием. Весь поселок говорил об этом.
«Нескладно получилось, – думал он, – и с гулянкой и с Митрием. Нехорошо, совсем нехорошо!..»
Он жестоко корил себя, раскаивался. На душе у него было очень тяжело. А тут еще Андрей Палыч не возвращался из района – уехал и как в воду канул!
– Эх-эх!.. – Лешка в отчаянии покачал головой и зашагал дальше, вдоль берега, заложив руки за спину, согнувшись.
«И что сталось с дядькой? – вновь и вновь думал Костя об Андрее Палыче, направляясь к Маланье Федоровне с письмом от Катюши. – Чего не едет? Дали ему кредит или только посулили? И с артелью ничего неизвестно. Чего торчит там?.. И лошадь прислал обратно. Тут путина, а он... Ведь море не ждет!»
Он приостановился и безотрадно посмотрел на берег. Там вразнобой шумели ловцы, перекликаясь с посудин, что стояли уже на приколе в проглеях; на посудинах вздергивали на проверку паруса, гремели шестами, баграми... В нескольких местах дымились топки под огромными черными котлами; в котлах дубили сети. Из топок валил коричневый дым и, поднимаясь вверх, стоял прямо, будто дюжие мачты морских судов.
А дальше – в лиловом от распаления льдов чаду – по протоку, едва сдерживаемому пухлым, ноздреватым льдом, продолжали проворно сновать на куласах речные ловцы...
Поровнявшись с домом Маланьи Федоровны, Костя постучал в кривое, с двумя только стеклышками оконце и, не дожидаясь ответа, направился к крыльцу.
В сенях никого не было. Костя осторожно стукнул в дверь горницы.
– Тетка Малаша!.. – Он приоткрыл дверь и еще громче позвал: – А, тетка Малаша!
Костя вошел в горницу.
В горнице была полутемь. Из трех окон два были наглухо заколочены, и в редкие щели их пробивались полоски света, словно кто-то натянул тонкие серые хребтины для посадки сетей. Третье окно у переднего угла имело шесть створок в раме, четыре из которых забиты дощечками, картоном и заткнуты тряпками, и только две створки – в мутных стеклышках. Через них вливался в горницу полусвет, выделяя бревенчатый угол, где, вместо икон, висели фотографии, ниже стоял маленький, с круглой покрышкой столик.
Костя разглядел в противоположном углу лежавшую на кровати старую рыбачку.
– Тетка Малаша!
Осторожно ступая по скрипучим половицам, будто по мелким льдинам, что уходили под ногами, ловец подошел к кровати. Тетка Малаша дремала; ее закрытые веки слегка приподнимались, глаза сверкали фосфорическим блеском.
– Тетя! – Костя тронул ее за плечо.
– Кто тут? Кто?..
Через минуту рыбачка стояла согнувшись и никак не могла поднять голову, чтобы рассмотреть ловца.
Годы скрючили тетку Малашу вдвое, словно надломили в пояснице: голова ее свисала почти до колен, а руки болтались у самого пола.
– Кто тут? – опять зашептала она, стараясь разогнуть спину.
– Да я – Костя...
Упираясь руками в бедра, тетка кряхтела и, выпрямляясь, надвигалась на ловца. У старой рыбачки – сизые, мутные глаза и большой, горбылем, нос; голова ее – белая, седая – тряслась. Долго и пристально смотрела тетка на Бушлака: она быстро, жадно дышала, как пойманная рыба.
– А взаправду, кажись, Костя, – зачмокала тетка маленьким беззубым ртом.
Все упираясь руками в бедра, она вразвалку, точно подшибленная гусыня, прошла к изголовью кровати, и когда начала шарить под подушкой, верхняя часть ее туловища беспомощно свисла.
Вытащив очки и нацепив их на нос, тетка, кряхтя, снова долго выпрямлялась, словно на спину ей взвалили тяжелую кладь. Потом она опять подошла вплотную к ловцу и, пристально оглядев его, удовлетворенно прошептала:
– Костя и есть... – и бережно погладила Бушлака по плечу. – Ну, пойдем в мой родной уголок. Там и посидим, поговорим.
Грузно переваливаясь с боку на бок, тетка зашаркала в передний угол. Вслед за ней Костя прошел к маленькому круглому столику и опустился на табурет.
– Чего скажешь, родненький? – она уселась против ловца.
Уже много лет говорила рыбачка шепотом, сухим и звучным.
– Письмо тебе из города, от Катерины Егоровны.
– Неужели правда? – обрадованно воскликнула тетка.
– Ага! – и ловец протянул старой рыбачке конверт.
Она поспешно замахала руками:
– Читай давай! Читай!
Костя разорвал с краю конверт, вынул из него пачку бумажек и бережно развернул их; несколько страничек было сложено вчетверо, с жирной надписью: «Для К. И. Бушлака».
«Ага! – радостно подумал Костя. – Это мне».
– А это – пять червонцев, – сказал он. – Держи, тетя, подарок от дочки!
Рыбачка снова заторопила ловца, сердито бросая хрустящие бумажки на столик:
– Читай, тебе говорю! – и, отложив за ухо платок, приготовилась слушать.
«Дорогая моя мамашенька Маланья Федоровна!
Была у меня в гостях Ильинична. Рассказала она мне, что ты совсем постарела, часто прихварываешь, и разболелось у меня сердце, и потянуло в родной Островок.
Собираюсь я, дорогая моя, скоро приехать к тебе. Да и случай подходящий, кажется, подвертывается, а то ведь все завод и завод...
Не была я в Островке уже четыре года и тебя ее видала давно – с двадцать восьмого не приезжаешь ты ко мне! Да и по могилкам батяши да Васи соскучилась.
Купила я еще стекла для рамок под портреты, но с Ильиничной не передала, побоялась, как бы она не разбила их».
Костя посмотрел поверх письма на тетку, – глаза ее были недвижно устремлены на фотографии.
На стене в один ряд висели четыре слегка порыжелых портрета в черных незастекленных рамках. На снимках отчетливо выделялись крупные, мужественные фигуры ловцов: одни – снятые по пояс, другие – во весь рост; все они составляли погибшую в гражданской войне семью тетки: муж, два сына и зять.
Напротив, на другой стене угла, висели один над другим еще два портрета – в светлых, из ракушек, рамках, – они представляли остатки семьи тетки: верхний снимок изображал круглолицую, статную дочь Катюшу, а нижний – невестку, жену старшего сына, худенькую и остроносую Клаву.
Бушлак снова посмотрел на оцепеневшую тетку, громко кашлянул, но она продолжала молча глядеть на фотографии. Костя догадался: тетка впала в глубокое забытье и, должно быть, сейчас, как это часто с ней бывает, созерцала видения погибшей своей семьи.
Она беспамятно беседовала с мужем, повешенным белыми, с убитым под Самарой сыном Алешей, зарубленным казаками зятем Васей, расстрелянным уральцами сыном Колей.
Тетка до точности воспроизводила картины их гибели: одни – виденные ею самой, а другие – восстановленные по рассказам очевидцев.
Быть может, для тетки Малаши ловцы на этих порыжелых снимках оживали. Быть может, стена дома, на которой висели портреты, неслышно отступала, а за нею вдали развертывались чадные от суховея степные фронты или плыли протоки и ерики с партизанскими заставами ловцов... Из тех туманов, должно, являлась черная посудина, мачту которой белые приспособили под виселицу; она медленно плыла с повешенными от поселка к поселку... Неожиданно из ильменей выбегал партизанский баркас с грозным названием «Моряна», он, как шалый зюйд-ост, метался по протокам, обстреливал отряды белых казаков, поднимал на промыслах суматоху, забирал с собою ловцов...
В жутком оцепенении старая рыбачка просиживала в своем родном уголке по целым дням.
Бережно положив на столик письмо, Костя тихонько поднялся и на носках прошел к двери.
Вдруг тетка торопливо, жарко зашептала:
– А ты, Вася, не противься, не гордись... Послушай старую, родной...
Она поднялась с табурета и, согнутая почти до пола, медленно зашагала к печке; она шла и рукою хватала воздух, будто кого-то теребила за одежду.
– Не противься, Вася! – горячо повторяла рыбачка. – Не гордись, родной!
Сердце у Кости – прочное, охлестанное жгучими каспийскими штормами – дрогнуло, и он отшатнулся к стене.
«Да-да, так и было!» – подумал он.
Так же, как и сейчас, шла тетка в восемнадцатом году за своим зятем Василием, мужем Катюши, – его вели из этого же дома на берег наскочившие на Островок казаки; она шла позади зятя и, теребя его за рубаху, шептала:
– Не противься, Вася... Скажи, что ты не знаешь, и отпустят. Не гордись, родной...
А Катюша в это время сидела в рыбном выходе, ее запрятали туда от казаков, как и всех других молодых рыбачек; у Катюши и Василия только что состоялась свадьба.
Казаки, что вели Василия, забегали во дворы и кричали, чтобы несли на берег муку, сахар, хлеб; хохоча, они шашками рубили кур, индюшек, уток.
Костя это хорошо помнит – тогда ему шел семнадцатый год. Василий только утром прикатил на куласе в Островок за продуктами для ловецкого партизанского отряда. Партизаны скрывались в ильменях, ожидая с часу на час оружия из города, – там еще с памятной зимы, когда ловцы ездили на помощь осажденным в крепости, власть была рабочая...
– Не гордись, родной, – шептала тетка, шагая за Василием и осторожно озираясь по сторонам.
На берегу шумно галдел отряд чубатых казаков.
Завидев пленника, с баркаса спрыгнул офицер и, подскочив к ловцу, остервенело закричал:
– Говори! Где шатия? Говори!!
Василий остановился и чуть внятно сказал:
– Не ори... Ничего не знаю...
Офицер нетерпеливо завертелся на каблуках.
– Что ты сказал? А? Что сказал?! – Он выхватил из ножен шашку, взмахнул ею перед глазами Василия. – Все знаю! Утром приехал ты за продовольствием. Говори, говори, где шатия?!
Было ясно: кто-то выдал зятя Маланьи Федоровны...
Василий стоял молча.
Обежав вокруг ловца, офицер пнул его в живот и снова заорал:
– Скажешь? Нет? Ну?! – и высоко вскинул шашку. – Ну?!
Василий попрежнему глухо ответил:
– Не знаю... Не ори...
– Врешь! – Неожиданно офицер, подпрыгнув, полоснул шашкой по ловцу, точно обдал огнем.
Голова Василия, сорвавшись, покатилась по песку, оставляя густой багровый след.
Тело его, недвижно простояв несколько секунд, вдруг замахало руками и двинулось на офицера; тот оторопел, выронил шашку и пригнулся, защищая лицо руками, в это время тело Василия покачнулось и упало на офицера.
Дико завыв, тетка Малаша повалилась на обезглавленного Василия...
Костя заспешил к двери и, распахнув ее, посмотрел назад: Маланья Федоровна билась на полу и глухо стонала. Костя выскочил во двор и только здесь, глотнув острого морского воздуха, сообразил, что надо сбегать домой и послать мать отхаживать тетку Малашу. Быстро свернув в проулок, он подошел к выкрашенному охрой домику и постучал в окно:
– Маманя, маманя!
Показалась скуластая, с узкими щелками глаз, Татьяна Яковлевна.
– Сходи к тетке Малаше! Опять ей плохо!
Мать согласно кивнула головой и приветливо заулыбалась:
– Сынок! Зина у нас. Заходи в горницу!..
Костя медленно зашагал обратно на берег, и только теперь смог прочесть письмо, присланное ему дочерью Маланьи Федоровны:
«Многоуважаемый Константин Иваныч!
Письмо ваше о плохом здоровье моей мамашеньки Ильинична мне передала.
Очень благодарю за хлопоты. Гостившая у меня Ильинична рассказала, как вы с Татьяной Яковлевной каждодневно заботитесь о моей дорогой. Я, вероятно, скоро буду в ваших краях. Вот и свидимся, значит, и поговорим. А еще хочется мне отблагодарить вас с Татьяной Яковлевной за хлопоты, но как и чем – не приложу ума...
Рассказала мне Ильинична и о том, что у вас в Островке до сих пор все по-старому – и артели нет, и верховодят рыбники – дойкины да краснощековы. Как же это так получается, Константин Иваныч? Разве вы не знаете, что творится в городе и по всей стране?! Хотя Зубов ваш – Алексей Захарыч – молодец! Крепко написал он. Очень крепко! Но одного этого мало. Надо биться за новую жизнь, Константин Иванович. Бороться за нее надо! Помните, как боролись тогда – в самом начале...»
Костя взволнованно перебирал в руках странички Катюшиного письма, и перед ним, словно из тумана, всплывали картины прошлого.
Тогда, после расправы офицера над Василием, казаки бросились грабить ловецкие дома... К вечеру, набив с верхом баркас одеждой, мукой, швейными машинами, казаки покинули Островок.
В этот же вечер Катюша, прихватив с собой Костю, покатила на бударке искать партизан, чтобы передать им приготовленные погибшим мужем продукты.
Долго петляли они по непролазным ильменям – бесконечным приморским озерам, забитым вековой камышовой крепью. А сколько избороздили они ериков, протоков! Только под утро напали они на след партизан. Передав им продукты, Катюша и Костя решили пробираться обратно в Островок, но командир оставил их в отряде. Вместе с партизанами они чуть ли не все лето провели в набегах на казаков, перехватывая их баркасы, уничтожая заставы, пока не прибыл из города на помощь батальон Красной Армии, сообща с которым был быстро очищен от белых весь ловецкий район. Партизаны вернулись домой, приступили к добыче рыбы. А Катюша уехала работать реэалкой на дальний промысел. Нелегко было Косте расставаться с нею. За время совместной борьбы в партизанском отряде, когда они с Катюшей под видом мирных ловцов ездили в разведку, возили донесения в город, добывали продукты, подвергаясь опасностям, выручая друг друга, он крепко привязался к ней... Через полгода Катюша вернулась в поселок. Костя радостно встретил ее. Но вскоре она уехала работать в город. Костя затосковал. Он не знал тогда, испытывала ли то же самое Катюша. Не знал он этого и позже, не знал истинного отношения к нему Катюши и теперь, хотя виделись они много раз. Катюша иногда приезжала в поселок к матери, бывал и Костя в городе, заходил к землячке. Она всегда была рада встрече с ним. Они подолгу беседовали. Катюша рассказывала о работе консервного завода, он – о жизни поселка. И странное дело, ни разу не обмолвился он хотя бы единым словом про свои сокровенные, сердечные дела; раньше не обмолвился, вероятно, потому, что, будучи еще совсем пареньком, стеснялся и боялся, как бы не обиделась Катюша, позже – потому, что она, тоскуя, часто вспоминала своего погибшего Василия, а в последние годы – он и сам не знал, почему молчит, испытывая тягостную душевную муку. Да и Катюша, казалось, не давала ему повода к тому, чтобы решиться на признания, хотя и была с Костей всегда ласкова и предупредительна. Они несколько раз были в театре, в кино, ходили в музей. А когда долго не виделись, писали друг другу письма, но неизменной темой их было состояние здоровья Маланьи Федоровны. Костя иной раз, наедине с собой, припоминая до мельчайших подробностей встречи с Катюшей, догадывался, что вся беда заключается в его нерешительности. Он вспоминал теплый, ласкающий взгляд ее иссиня-черных глаз, вспоминал мягкий, певучий Катюшин голос, вспоминал и то, как она сдержанно-радостно встречала его, как наряжалась в лучшие платья, заботилась о нем. А когда он собирался уезжать в поселок, она, вдруг слегка огорчившись, быстро пожимала ему руку и спешила на завод. Последний раз Костя видел Катюшу в позапрошлом году. Она попрежнему жила одиноко...
– И чего я не расспросил Ильиничну как следует про Катюшу! – взволнованно сказал Костя, когда опомнился и увидел в руке странички Катюшиного письма.