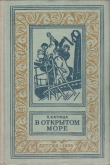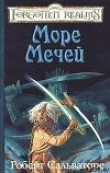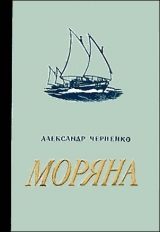
Текст книги "Моряна"
Автор книги: Александр Черненко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Александр Черненко
Моряна
Каспийская повесть


Клименту Ефремовичу Ворошилову

Часть первая
Глава первая
Из морских неоглядных пространств, где в дымах тускло синел Каспий, хлестала сырая, терпкая моряна.
Пахло первыми днями приморских вёсен – солеными ветрами и острою рыбьей свежью.
Влажные каспийские ветры опадали тяжелым рассолом на прибрежный прозрачный лед, – они разъедали его, протачивали, лед набухал, становился ноздреватым.
Моряна врывалась в Волгу через просторные, с пологими берегами банки – по ним выходили ловецкие суда на Каспий. В устье восточного банка, на песках, одиноко торчал серый, ветхонький маяк, его подымали в сплошь затянутое тучами небо зыбкие, обглоданные морем стропила. От ветра стропила вздрагивали и глухо стонали... Ночью, когда ожесточенно била моряна, маяк, туго пошатываясь, неуверенно разрезал вязкую, гудящую темь: узкая полоска света, иссиня-матовая, робко чертила по косматым, студеным гребням Каспия. Волны с тяжелым шумом катили на маяк, над ними юркими чайками взлетала пушистая пена. А лед еще несколько дней тому назад, во время смежного шургана, с перекатным треском оторвался от берега и, грозно шурша, громоздкими островами медленно, незаметно уполз в необъятные просторы моря.
На таком ледяном острове попал в далекий и опасный относ Василий Сазан.
Этот остров, где ошалело метался одинокий ловец, встретила штормовая моряна и, раскачав его на волнах, переломила на несколько льдин; на одной из них Василия Сазана понесло дальше, в открытое море.
А вскоре на Каспий хлынуло горячими потоками весеннее солнце, и льдина, кутаясь в теплые, пухлые туманы, стала быстро таять...
Зимою, когда с утра лютовал жгучий мороз, ловцы на лошадях выезжали на море – в ледяную пустыню – на лов белорыбицы; они брали с собою паруса, кошмы, оханы – громадные сети с ячеею в изрядную ладонь.
Ловцы жили в буграх, которые с грохотом заламывались от подвижки льда: льдина на льдину, льдина на льдину – вот и бугор, а вокруг него образовывались обширные дворины; в буграх, между глыб льда, ловцы устраивали коши – ледяные шалаши. Коши выстилались сначала камышом, сеном, рогожами, потом кошмами и парусами.
По ночам в ледяных шалашах было тепло: огонь разводили прямо в кошах.
А днем в белом, накаленном морозом надморье лучисто рассыпалось холодное солнце. Ловцы наслушивали, проверяли оханы: не попалась ли беленькая...
Дубленые сети были опущены подо льды через майны на глуби заглохшего, обледенелого Каспия. И ловцы, кутаясь в тулупы, по целым дням разъезжали на лошадях по сетевым ставам; они изредка выкидывали на лед небольших платиновых белорыбиц, – крупночешуйчатая, с жирной и вкусной спинкой, рыба тут же намертво застывала.
Когда ловцы производили мену сетей, выдирая оханы из-подо льда, вода сбегала в рукава, обжигала тело.
При выбивке оханов на новых местах надсадно дробили пешнею льды – ломом с деревянной рукояткой прорубали десятки майн; из прорубей со свистом вырывалась столбами вода, окатывая знобящим дождем.
Счалив концы шестов, ловцы просовывали прогон через майну под лед; за прогоном тянулась хребтина, и по ней спускались подо льды сети на многие и многие сотни метров.
Жгучая вода сводила судорогой руки; ловцы яростно хлестали себя помороженными руками по тулупам и снова принимались выбивать оханы.
Густая, словно ртуть, вода не вся скатывалась с одеревенелых рук, остатки ее намерзали тоненькой серебряной чешуей...
Ветер несносно палил ловцов, а трескучий, обжигающий мороз захватывал дыхание.
Ловцы под конец уставали, от них клубами валил сизый жаркий пар. Но ветер все крепчал и бил сильней, леденил затылки, знобил, пронизывал до костей. Ловцы шумно гнали лошадей вскачь и, чтобы не закоченеть, долго бежали позади саней: разгоряченные, они бросались в них, зарывались в сено, кутались в тулупы.
К концу дня, когда на западе лежало в пунцовом чаду солнце, ловцы возвращались к буграм. Широкий, багряный полукруг солнца, погружаясь во льды, скоро исчезал, и на месте его полыхал невиданно яркий костер, но и он быстро пропадал, растворяясь в наступавших сумерках.
Зацветали звезды – ядреные, огнистые; от них до самого льда струились тонкие нити света.
Ловцы, прикатив к ледяным шалашам, бывали похожи на сказочных витязей: бороды, усы и брови их густо обрастали инеем; лошади тоже индевели, шерсть у них становилась белой и пышной, а с губ свисали ледяные иглы.
С вечера ловцы долго калили в коше жарник, отогревая красные, ошпаренные стужей лица и руки.
Черный жарник местами светился огненными, багровыми пятнами, около них ловцы держали сведенные морозом пальцы. Багровые пятна в одних местах затухали, в других вновь проступали; когда пальцы отходили и уже шевелились – медленно и неуверенно, точно плавники у рыбы после необычно долгой стоянки, – ловцы, весело подмигнув друг другу, свертывали цыгарки, долго и молча дымили, а потом, хватив залпом по кружке водки, начинали чаевничать...
Василий Сазан, разомлев от жарника и несчетных кружек чаю, распахнул фуфайку; сидел он на кошме, подобрав под себя ноги: на широком колене кружка чаю, на другом – бугорок из кусочков сахару.
– Кто, может, не знает хромого Лешку-Матроса, а я-то знаю, – говорил Сазан своему товарищу Дмитрию Казаку, который лежал на тулупе немного поодаль жарника. – Он, Митек, такой человек: раз – и в дамках!.. Напрямки всегда идет. А если зацепишь его – сам не возрадуешься. В запрошлом году вместе в районе были, заявки наши ловецкая кредитка разбирала. Ну, мне, конечно, отказали, потому как я прежний долг в сотню целковых не вернул, а Лешке просто говорит Коржак: «Для тебя бумаги на кредиты еще не подшиты...» Слыхал? Это что значит? А то значит, что обеспечения этого самого кредита у него не с чего взять: ну, там, чтоб дом был свой или еще какое движимое-недвижимое... Услышал это Лешка, да в ответ ка-ак стукнет деревянной ногой, да ка-ак гаркнет на председателя Ивана Митрофановича: «Ах ты, гад недвижимый! Под домики только даешь? А под эти руки? А под эту ногу?» – и пошел его чистить, аж чешуя с Коржака полетела...
Василий захлебнулся в смехе, покачал головой:
– Ой, и бедовый же этот Лешка-Матрос!
Лицо его, в довольной тихой улыбке, лоснилось от пота.
Он был кряжистый и тучный ловец, будто перед икрометом сазан; у Василия такие же, как у сазана, глаза – круглые и красные.
Вдруг он поднял палец и зашептал:
– В восемнадцатом году, сказывают, Лешка ходил чуть ли не в помощниках у самого Сталина и Ворошилова. В Царицыне это было, когда белые генералы хотели захватить город...
Ловец еще выше поднял палец, разъеденный водою и солью:
– Каким-то командиром Лешка там был. И награду имеет, да вот почему-то не носит...
Дмитрий продолжал молча лежать на тулупе.
Василий, откинув край кошмы, глянул в вырубленное в ледяных глыбах углубление, где стояла лошадь: там, в полумраке, округло выделялся блестящий ее круп. Переступая ногами, лошадь звучно хрумкала сено.
Ловец неторопко обмял в ладонях опухшие пальцы.
– И вот как интересно, гляди, получается... Лешка суматошный, будто судак бешеный. А возьми ты Андрея Палыча – степенный, достойный ловец. И возьми Костю Бушлака: ни то ни се, как стерлядка – и в осетра не растет, и в севрюгу не выходит. А Григорий Иваныч Буркин – вроде и тихий и больной, а уж как навалится на какое дело, как попрет, будто сельдь весною. Ну, а Сенька – это малек еще, частиковый... Разная, видишь, порода, а сошлись же вот, – и в море вместе ходят, и дома заодно, будто семья с одного двора. И шельмовства никакого... И я с ними уже второй год ловлю. Да вот сманил ты меня сегодня на этот зимний лов. Ну, да ладно, думаю, что все хорошо обойдется...
Он вытер рукавом запотевшее лицо и хотел было пуститься в россказни, как они с Дмитрием заработают деньги, справят полную ловецкую сбрую и будут ловить сообща с Андреем Палычем и его товарищами, но взглянув в ледяное отверстие на лошадь, промолчал.
Лошадь, перестав жевать сено, тихонько пофыркивала и глухо скребла копытом лед.
– Ты чего это, Рыжий, а? – Василий снял с колена кружку и переложил на кошму кусочки сахару.
Лошадь, подняв голову от сена, беспокойно озиралась на ловца; уши стояли у нее торчмя, опасливо вздрагивая.
– Чего настремился, купецкий выкормок? Ну-ну! Лопай!
Рыжий снова зашаркал подковой о лед.
«Не беду ли какую чует?» – уже с тревогой подумал ловец.
Нередко на Каспий обрушивается норд-вест – ветер с северо-запада; заштормовав,он заваливает коши, тут и могила бывает ловцу, а чаще ветер внезапно отламывает льдину от побережья и с людьми угоняет ее в море, в страшный, порою безвозвратный относ.
Четыре года назад этот относ похоронил в море Васькиного родного брата, а прошлой зимой двое ловцов из соседнего поселка чуть ли не месяц плавали на льдине по Каспию. Харчи вышли, спички кончились, ловцы замерзали, но вскоре проходил мимо пароход и снял их с льдины; ловцы очутились по другую сторону Каспия, под самым фортом Александровским.
Василий посмотрел на Дмитрия – тот лежал по-прежнему, не шевелясь.
– Мить! – окликнул его Василий. – Что-то Рыжий тревожится.
Дмитрий не ответил.
Василий ничего не знал о думах товарища и потому, недовольно махнув рукою, нахлобучил шапку, набросил на плечи тулуп и, откинув над входом парус, вышел из коша.
Его ослепила искристая зеленая ночь.
Ловец зажмурил глаза.
Огромная яркая луна щедро поливала зеркальные отполированные ветрами льды, и они отсвечивали – над Каспием дрожало тончайшее изумрудное сияние.
Была тихая, стеклянная стынь.
В безоблачном назористом небе, расцвеченном звездами, пробегали сполохи; они сверкали зеленым светом, отражаясь во льдах.
Василий откинул воротник тулупа, сдвинул на затылок шапку, облегченно вздохнул:
– Погожая ночь... – и повернул к кошу, чувствуя, как стужа клейко схватывала усы и ресницы.
Шаги ловца звучно отдавались в стылом, морозном воздухе.
Перед ним двигалась его тень, густая и черная, словно политая лаком.
У входа в кош ловец снова посмотрел на отливавшую металлическим блеском, словно ярко начищенную, луну, – свет ее, озелененный отблеском льда, рассыпался над Каспием лучистым сиянием.
Кругом блестела ослепительно зеленая ночь.
Ловец двинулся к лошади. Она опять зашаркала подковой по льду.
«Овса хочет, – подумал Василий, – вот и шумит... Ночь-то погожая, никакой беды не приметно. Овса подбросить надо».
Рыжий не успокаивался, он всхрапывал и бил копытом о лед.
– Довольно баловать! – и ловец подсыпал лошади овса, но она отвернулась и скосила глаза; затем, облизнув руку Василия, снова забила копытом о лед. – Н-но1 – уже сердясь, крикнул на нее ловец и широко замахнулся. – Я тебе!..
Лошадь вздернула голову и тревожно заржала.
Василий вошел в кош и долго, тщательно закладывал у входа парус, чтобы не так быстро выдувало тепло.
Остановившись у жарника, ловец подбросил в него несколько чурок и, сняв тулуп, опустился на кошму. Из жарника высыпали искры, потом вырвались синие струйки пламени, огонь все разгорался, и скоро по темным сводам коша запорхали багровые отсветы.
Ловец уселся попрежнему, подобрав под себя ноги; налив в кружку чай, он поставил ее на широкое колено, на другое наложил бугорком кусочки сахару. Как и многие ловцы, Василий любил чаевничать, особенно любил он при этом разговаривать.
Рядом снова забил копытом Рыжий о лед и сдержанно проржал.
– Вот сатана! – выругался Василий и тут же вновь подумал о том, что лошади часто чуют опасности и несчастья.
Он отставил поднятую было кружку, но вспомнив зеленую тишь и расцвеченное звездами небо, махнул рукой и шумно выпил чай.
«Верно, поблизости кобыла прошла, – усмехнулся Василий. – Вот и беснуется Рыжий».
Не обращая больше внимания на лошадь, он начал медленно и внятно говорить, словно взвешивая каждое слово, тщательно вникая в его смысл:
– Значит, та-ак, Митя: у нас теперь с тобою две дюжинки белорыбок. Завтра еще раз наслушаем оханы, а потом выдерем их, и айда ко дворам! Передохнем денек-другой, заберем харч – и опять за беленькой... Море-то, как сказывают старые люди, по рыбе не тужит, это ловец о ней в беспокойстве. Во-от передохнем малость...
Дмитрий грузно перевалился на тулупе и уже готов был передразнить дружка:
«Передохне-ом!.. Тебе все только отдыхать да за Настину юбку держаться...»
Но почему за это надо передразнивать? Разве и сам он только что не цеплялся мыслями за берег? Разве не думал о теплой береговой жизни сейчас, когда сон тебя ее берет, а только туманит голову надсадная дрема? Ну, а дрема не потому ли, что мысли раскинулись и туда и сюда?.. Василий – за Настину юбку, а сам-то он о какой теплой домашности скучает, когда вот по сводам коша полыхают огневые отсветы жарника и будто выстилают кумачовыми полотнищами ледяное логово? О какой теплой домашности вздыхает он, когда дымчатым псом шмыгает по углам коша ветер?.. Там, на берегу, и ветер домовитее, какой-то свойский. В эту пору на берегу ни души. Покуривают, охают, ругаются ловцы и подсчитывают деньки до выхода на весенний лов. По числам-то легко отмерять: в календаре время держится, как море в берегах. А ни времени, ни морю – края не видно... По числам приходят, уходят дни – набираются годы. Только тех годов, что впереди, их не видно, а те, что позади, как дальний берег... Там, позади, веют огневые полотнища, а под ними светятся лица, музыка и шумят напутственные речи. Комиссар машет рукой: тише! Он, демобилизованный Дмитрий Казак, будет говорить. О чем же он будет говорить?.. Об окончании военной учебы, о проводах домой или просто скажет ловецкое спасибо шефам – рабочим завода? Но опять ударила, как штормовой ветер, музыка. У Дмитрия примолкло сердце... О чем же он будет говорить? Может, о том, что раньше, до Красной Армии, он много бездельничал, много гулял с парнями, хороводился с девчатами. А теперь он – взрослый, ему двадцать три года! И есть у него в кармане маленькая, но важная книжечка, которую дала ему армейская комсомолия – драгоценный билет... Или он повторит свое обещание не порывать связи с полком, обещание писать, как будут идти дела с организацией комсомольской ячейки в их глухом, всего только в полсотню дворов рыбацком поселке, что приник к морю на самом выкате Волги...
Вот если бы тогда знал он, то перво-наперво рассказал бы о том, что дома его подстерегает невзгода – отец занемог, и ему, Дмитрию, надо в два счета собраться на лов; должен же кто-нибудь мать, отца и сестренку кормить!..
Эх, теперь рассказать бы ребятам по роте, как после смерти отца Дмитрий сам взялся по-настоящему за устройство своей жизни. Сам хозяин!.. И рассказал бы еще, как отец корил его.
Батька помирал, но стоял на своем... А какой он был, нетрудно вспомнить: высокого роста, прочный, словно коренная мачта морской посудины; всегда нахмуренный и своенравный. Он лежал на дощатой кровати, а помирать места не хватило: под ноги были приставлены табуретки.
– Умру – тогда чего хошь делай. А сейчас не тревожь меня со своим комсомолом. Отцы и деды наши прожили без комсомола, и я век прожил... Не тревожь, Митрий, отца... Прошу тихой смерти... Умру – тогда чего хошь делай!
Пожаловаться о том армейским ребятам – покачали бы они головой и сказали бы о батьке: «Отсталый элемент!»
Четыре месяца отбивался батька от смерти; по нескольку дней лежал без памяти, а когда приходил в себя, снова натужно гудел:
– Вот и конец приходит...
Умирал он хозяйственно, словно собирался в дальний путь на лов:
– Терентьевна! Чайку!
Мать варила густой, на молоке, кирпичный чай. Он залпом выпивал полдесятка стаканов горячей жирной жижи и, шумно отдуваясь, говорил:
– Хорошо!.. О-ох!..
Приподнимаясь на локте, властно кричал жене:
– Терентьевна! Подложи под спину подушку!
Мать обкладывала его подушками, и он, недвижный и худой, похожий на гигантский скелет, продолжал настойчиво поучать:
– Понимаешь, Митрий?.. Трудиться человек должен в поте лица своего. А комсомол твой много разговоров разводит, собранья там разные, заседанья всякие.
Пожалуй, расскажи об этом на ротной ячейке – эх, и зашумят!..
А батька гнул свое:
– У стариков, Митрий, ума набирайся. Я У своего отца тоже уму-разуму учился... Вот я отойду, а ты примешь мое хозяйство – дом, сбрую... А мне от твоего деда пришлась одна рубаха латаная. А дед-то твой из беглых николаевских солдат был. При первом еще Николае царёву службу по двадцать пять годов служили – пойдут безусыми, а вернутся бородатыми стариками. Вот как!.. Ты вот в армии, в Красной-то, два года отгулял, книжки там листал, – чего не служить! А деду каково было! И не стерпел твой дед николаевской муки и убег сюда, на Каспий. Тогда народу тут было – кричи не докричишься...
Эх, батяша, хорошо рассуждать поживши, на скончинах-то!
Ну, что там – дед! Известно, капля за каплю – и дождь, а дождь реки поит, реками – море стоит. Известно! «А на чем мир стоит?» – спросил бы его комиссар наш. На труде весь мир стоит, а труд что дождь: по капле от каждого человека капает, а после собирается в море, в море труда, и он, труд, двигает всем миром. Вон их, рук-то, сколько провожало меня, и плеск от ладошек ходил волной, будто море шумит...
Дмитрий нетерпеливо завозился на тулупе.
«И чего это батя спать не дает?.. А все берег! Берег человека везде найдет. И что значит земля! Батька туда уходит, а за нее держится...»
Стыдно было бы рассказать комиссару, как терпеливо выслушивал Дмитрий отцовские заповеди и ни слова не возражал.
Зато поведал бы, как однажды вечером не стерпелось – жарко наговорил батяше, что не так он жизнь понимает, что комсомол хорошего хочет и следом за Коммунистической партией на лучшее путь держит. Для чего, спрашивается, и революцию делали? Для лучшей жизни, батяша! Вот! Но только мы хотим лучшей жизни добиваться не так, как вы – вразброд, каждый сам за себя. Нет! Мы хотим добиваться этого артелью, то есть это называется коллективно. И, конечно, без рыбников твоих, без дойкиных и краснощековых... Ты вот, батяша, заговорил о купцах-рыбниках этих – и смолк. А почему? Да потому, что грабили они тебя, обирали. Ведь за то, что ловил ты в водах Беззубикова и его сбруей, он принимал от тебя селедку, скажем, по пяти целковых за тыщу, а в городе ее сдать можно было по десяти целковых, а иной раз и дороже. Ты мог бы построить десяток таких домов, как наш, а то и больше!.. Чего ты хорошего в своей жизни видал? Вспомни: зимой чуть ли не босой ходил, по неделям щей мясных не хлебал... Разве жизнь, батяша, это? А еще цепляешься за старое!.. Нет, не скрою от тебя и в глаза скажу: комсомол в Островке непременно будет, и артель ловецкая будет...
И еще рассказал бы комиссару Дмитрий про то, как батяша жестоко оборвал его речь. А Дмитрий, не оглядываясь, ушел прочь, хотя батяша сердито закричал и громко ударил рукой о кровать: «Поди сюда!»
Неделю не приходил он домой, жил у товарищей, а потом явилась мать и сказала, что отец кончается и надо проститься. Ну, конечно, жалость проняла, пришел домой.
– Прости, батяша...
– Бог простит, сынок... И ты меня прости...
Тут Дмитрий такое сказал, что деваться некуда:
– Прощаю! – вместо обычного «бог простит».
Матушка, охнув, упала на скамью.
Отец открыл пустые, поблекшие глаза и скорбна взглянул на Дмитрия:
– Больно, сынок, мне... Ну, да ладно.
– Ладно, батяша! Все будет ладно!..
Отец поймал Дмитрия за руку и, словно клещами, стиснул ее, хоть кричи. Так и умер он, не сказав ни слова больше...
А дальше что бы еще можно было рассказать на полковых проводах?.. Ну, поделили они с сестрой наследство: сестре – дом, но с уговором, что в нем по смерть свою будет жить и мать, а Дмитрию всю сбрую и новую бударку, прочную ловецкую лодку.
И еще это море, ловецкое поле, в наследство батяша оставил ему – ищи, черпай что в нем есть; да найдется ли там фартовая доля?..
Наступала весенняя путина; круглые сутки готовился Дмитрий к лову, и некогда было подумать о комсомоле и артели.
До этого тоже забота была: то хоронил отца, то сестру выдавал замуж...
А путина безудержно наступала, вгоняя в обширную волжскую дельту неисчислимые косяки каспийской рыбы.
Дмитрий исправно вышел на лов. И в самом начале путины этого же двадцать восьмого года штормяк разбил его бударку и уволок тридцать концов новехоньких сетей. С тех пор Дмитрий и не может крепко стать на ноги. Все перепробовал он, чтобы скопить деньги на новую лодку и сбрую. Но, как ни вертелся, как ни бился, ничего не вышло... Несколько раз ездил в город, но по вкусу работы не нашел. Все лето по промыслам слонялся. Ходил он еще с некоторыми ловцами на совместный морской лов. Но осенняя путина выдалась на редкость неуловистой.
Крепко захлестнула Дмитрия нужда... Ну, и пошла трепать его жизнь, как посудину штормовое море: того и гляди, перевернет. Только и знал одно: отбиться от нужды, обзавестись хоть какой сбруёшкой, а после, думалось ему, само дело в гору пойдет.
Отчаялся Дмитрий от неудач и, взяв подряд у рыбника Дойкина, который и в советское время нашел лазейку для наживы, вышел теперь в море искать подледного счастья.
Вот обо всем этом бы порассказать ребятам в роте, погоревать с ними, посоветоваться, как легче отпихнуть от себя нужду, как быстрее стать на ноги.
Эх, ребятушки, дружки!..
Дмитрий повернулся, приподнял голову и дремотно посмотрел на Василия. А тот все сидел у жарника и о чем-то неустанно говорил.
Ему, Василию-то, что! У него и домишко свой, и на берегу женка, как следует быть. А тут – не жизнь, а канитель какая-то... Живет Дмитрий в своей глиняной кухне один, будто собачонка в конуре. И жена-то не своя, а чужая – Глуша.
Он беспокойно завозился на тулупе и недовольно подумал:
«Корил я Ваську – «передохнем». А чем плохо-то, когда есть где, когда есть с кем?..»
Прошлую осень он работал два месяца на Маковском промысле, и деньги были, а справы – хотя бы немного! – ну, там сетей или снасти, как это покойный отец делал, не сумел приобрести. Купил, дурень, ботинки желтые, штаны с пиджаком да сатиновую рубаху, чтобы приехать в поселок козырем и щегольнуть перед Глушей. А Глуша, видать, умнее Дмитрия – и ну его стыдить: «Непутевый ты человек, Митя! Заместо этого барахла, мог бы ты полную справу сетей иметь, а поработал бы еще – и бударку заимел».
Помнится, тогда навзрыд, отчаянно плакала Глуша...
Нет, ни слова не сказал бы Дмитрий ребятам в роте про Глушу, про ту самую Глушу, что мучается у Матвея Беспалого – своего хилого, немощного мужа.
Даже комиссару не сказал бы, разве только Шкваренке, секретарю армейского комсомола, с глазу на глаз признался бы, что Глуша ждет не дождется, когда Дмитрий хоть чуточку развернется в делах, чтобы было им обоим чем кормиться,. Тогда они сойдутся жить вместе... Правда, и Матвей Беспалый – не ахти какой ловец: у него тоже не стало теперь справной сбруи, и частенько ловит он от рыбника Дойкина; но Матвей все же дом деревянный имеет, корову и прочую живность. А у Дмитрия одна пустая глиняная конура!..
– И подведем это, Митя, мы с тобою счета, – вдруг пробудил его от дум довольный, сытый голос Василия Сазана.
Дмитрий, не совсем еще разобравшись, о чем идет речь, приподнял голову.
– И думается мне, – медленно, нараспев говорил Василий, – опять нам сотняга придется, а с прежними это составит, милый ты мой, триста целковых. Пожалуй, до ухода льдов еще раза два поспеем махнуть сюда, – глядишь, и на всю полтыщу целковых выловим!
Василий заулыбался и шевельнул длинными бровями; чуть помолчав, он расправил мокрые брови, снимая с них капельки пота, затем снова налил в кружку чай.
Деловито кидая кусочки сахару в рот и прихлебывая чай, Василий снова неторопливо заговорил, словно искушая:
– И получим мы эту полтыщу с Дойкина.. Сотняга у меня еще имеется, да у тебя тоже. И какую мы, Митек, справу заведем! И пойдем на общий, совместный лов с Андрей Палычем...
Дмитрий приходит в себя и. видит, как закатывает Василий глаза под лоб, словно батяша на прощаньях.
Помолчав, Сазан тихо, мечтательно повторил:
– И какую, Митек, справу-то заведем!
«Фу, леший! – завозился на тулупе Дмитрий. – Мертвый, и тот встанет».
А дружок, поставив кружку на колено, продолжал:
– Бударку новую купим.
– Ра-аз... – радостно откликнулся Дмитрий.
– Полсотню концов сетей.
– Два-а...
– Перетяг сорок снасти.
– Три-и...
Василий замолчал, поглядел на Дмитрия.
– А твоя сохранность в целости? – пытливо спросил он. – Сколько у тебя?
– Полторы сотни, – глухо сказал Дмитрий и повернулся со спины на бок.
Опустив голову, Сазан слегка покачивался из стороны в сторону и тихонько приговаривал:
– Ну и справу мы с Митяем заведем – что надо: бударку новую, сетку...
Усмехаясь, Дмитрий осторожно толкнул дружка ногой.
– Довольно тебе?
Сазан вздрогнул, и брови его взлетели на лоб.
– Чего ты? – испуганно спросил он.
– Ничего. Спать пора! – дружелюбно сказал Дмитрий и шумно зевнул.
– Постой, Митек... Надо нам по-серьеэному о делах поговорить, об артели подумать. Помнишь, мы толковали... – И, словно просыпаясь, освобождаясь от только что захватившей его мысли о ловецкой сбруе, Василий повторил громко и взволнованно: – Об артели надо подумать, Митяй! А то что-то очень много и долго о справе мы говорим. Как следует об артели надо подумать – вот оно что!
– А чего о ней зря много думать: справа будет – и артель будет!
– А мне сдается, не только так надо думать, – все больше оживляясь и волнуясь, говорил Василий.
– А как же еще? – и Дмитрий вновь слегка приподнял голову.
– Мы же толковали с тобой: перво-наперво артель нужна, а тогда все будет – и бударка, и сетка, и снасть... Я и с Лешкой-Матросом говорил об этом, и с Андрей Палычем, и с Буркиным Григорием Ивановичем.
– Знаю... Слышал... А чего ж вы до сих пор артель не организовали?
– Да вот видишь... говорим больше, нежели дело делаем. И с тобой тоже целый год уже толкуем... Нет, с весны непременно артелью пойдем на лов! Непременно! Вернемся в поселок – и я на попа поставлю этот вопрос. Пускай секретарь нашей комячейки Андрей Палыч шевелится... Да он, правда, и сам в прошлый раз толковал о том же: возвратятся, мол, вот коммунисты с моря – ну, и соберемся, решим... Артелью пойдем, Митек, на весенний лов! Артелью? – горячо повторил Василий. – Партия зовет нас к этому! – и вдруг, что-то припоминая, торопливо спросил: – А ты читал статью товарища Сталина «Год великого перелома»? Читал, как он говорит о наступлении на нэпмана и кулака? – И, не дожидаясь ответа, продолжал: – Сейчас я тебе почитаю. Вот послушай!.. – Василий ощупал один карман, другой! стараясь найти газету. – Э-эх, да я ведь ее Андрей Палычу вернул! – с сожалением сказал он и недовольно махнул рукой. Однако, подумав, снова горячо заговорил: – Постой-ка! Я же некоторые его слова о переломе крепко запомнил! Вот послушай, Митяй: «Перелом этот шел и продолжает идти под знаком решительного наступления социализма на капиталистические элементы города и деревни». Понял, что это значит? Да это, милый мой, значит, что и нашим волжским рыбникам-кулакам каюк скоро должен прийти. Понимаешь это дело?..
Глаза Василия блестели, щеки пылали румянцем, он привстал на колени, готовый страстно рассказывать дальше, – было видно, что статья сильно взволновала его.
– Ты понимаешь? – вновь спросил он Дмитрия.
– Понимаю... Только не хочу про вашего Лешку слышать. Со всеми вами согласен ловить, только не с ним. Потому и не шел к вам до сих пор на общий, совместный лов.
– Чего тебе дался Лешка?!
– Не хочу о нем слышать больше!
И только было Василий вновь заговорил, как неожиданно у входа шумно откинулся парус, и в кош, пригибаясь, вошли два человека.
– Здорово были, ловцы!
Василий схватил пешню, а Дмитрий только и успел приподняться на локте.
– Здорово, ежели добрые люди! – уклончиво ответил Василий.
Дмитрий нашарил под боком темляк – железный крюк, которым багрят крупную рыбу.
Пришедшие были в тулупах; шерсть на высоко поднятых воротниках заиндевела, лица обросли белым пушистым мхом. Откинув воротники и опускаясь на корточки к жарнику, нежданные гости стали отдирать от бород и усов сосульки, – только теперь, в полумраке коша, Василий и Дмитрий опознали своих односельчан: Трофима Игнатьевича Турку и его сына Якова.
Усмехнувшись, Дмитрий выпустил темляк и неторопливо заложил руки за голову.
Очистив бороды и усы от ледяшек, отец и сын распахнули тулупы.
– Как ловится белорыбка? – спросил старый Турка и, вынув из кармана трубку, насыпал в нее махорки.
– Да так, ловится, – неопределенно сказал Василий, придвигаясь к гостям.
– А у нас не ловится... У нас беда!.. – продолжал хрипло Турка. – Вор по сетям шастает, каждую ночь улов выбирает.
– Выследим – подо льдом прогоним! – угрожающе вставил Яков.
– Все одно нападем на след! – подтвердил старый Турка. – Третью ночь караулим.
Он беспрерывно и жадно тянул дым: то и дело вытаскивал щепотку махорки и, выбивая из трубки пепел, закладывал в нее новую порцию.
Яков держал руки у стенок жарника и недоверчиво глядел в сторону Дмитрия.
«Неужели заподозрили нас в оборе ихних оханов?» – с тревогой подумал Василий.
А Яков упорно косил глаза на Дмитрия; у молодого Турки большие и черные зрачки, словно налитые смолой.
«Будто и взаправду против нас что-то имеют», – и Сазан в упор глянул в блестящие глаза Якова.
Яков замигал и перевел взгляд на отца.
Василий посмотрел на Трофима Игнатьевича: у того все лицо было покрыто рыжими волосами, точно у старого дворового пса; из этой дикой заросли волос светились узкие, прищуренные глаза.
«Этот, пожалуй, в артель не скоро потянется», – мелькнуло у Василия о старом Турке.
– А по соседству с вами кто ловит? – вдруг требовательно спросил Трофим Игнатьевич; он продолжал беспрерывно курить, прижимая пепел в трубке указательным пальцем.
– На глуби – Костя Бушлак и Лешка-Матрос, – неохотно сказал Василий, – а ближе к черням – разинские, кажется.
– А больше никого не видали? – настойчиво допытывался Турка.
– Будто никого... – Василий приподнялся, обиженно заморгал кругло-красными глазами, недовольно подумал: «И чего пристали!»
Оба Турки тоже поднялись и пристально посмотрели на Дмитрия, а тот недвижно лежал на тулупе и глядел вверх.
– Ну, что же, Яшка, – сердито прохрипел старый Турка, – двинемся, стало быть, дальше.
Он выбил о ладонь пепел из трубки и, снова взглянув в сторону Дмитрия, сумрачно спросил еще раз:
– Как улов-то у вас?
Дмитрий молчал.
– Понемногу ловится, – ответил за него Василий и, пригибаясь, чтобы не задеть головой низкий ледяной потолок коша, прошел к дружку.
– Могу закупить весь ваш улов, – предложил Турка. – Заплачу дороже, чем Дойкин. И харчом снабжу сейчас же: не надо и в Островок будет ездить.