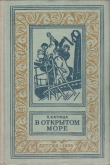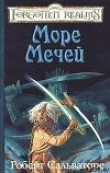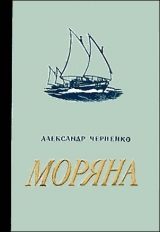
Текст книги "Моряна"
Автор книги: Александр Черненко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Дмитрий, слушая рассказы маячника, в полусне переживал вместе с этим добрым, говорливым старичком его трудную, тяжелую жизнь.
«А может, и у меня завертится такая канитель? – смутно шевельнулась у него тревога. – Что-то похоже на это. Все эти незадачи, прорехи в лове. И опять шурган с относом!..»
Ловец нетерпеливо повернулся на бок, откинул с груди тулуп, вытянулся на спине.
– Не может такого со мной случиться, – успокаивающе сказал он. – Времена другие!..
Егорыч недвижно сидел на табурете и, свесив руки между колен, казалось, не слышал Дмитрия и говорил про свое тихо и скорбно:
– У Глуши, как и у меня, никчемушная, негодная жизнь... И время ведь нынче другое, а вот, поди ж ты, не ладится и у ней жизнь...
– Верно, Максим Егорыч! – подхватил Дмитрий. – Не ладится у Глуши жизнь!
Старичок боязливо взглянул на икону:
– Господь-бог всё гневы разводит... Ну, я уж, ладно, виноват, скажем, – грехов много, а Глуша-то молодая еще и не успела нагрешить, а вот, видишь, какая ее жизнь.
Вдруг он схватил руку Дмитрия, качнул головой и не то с верой, не то с ехидством зашептал:
– А знаешь, малый, иной раз – и сейчас вот тоже – дьявол в душу залезет и сосет: а есть ли господь-бог на свете? И если он есть, то куда это он ладит такую никудышную жизнь, как у Глуши?
Маячник опять с тревогой скосил глаза на икону:
– Вот и возьмет тебя сомненье о господе-боге...
И снова шептал старичок про то, что он чуть ли не десять годов в церкви не был – с тех самых пор, как из Островка сюда, на маяк, перекочевал; и про то, что слышал он однажды лекцию, будто бога нет и все это – поповская брехня, и что вот раньше старый Бушлак, которого в революцию расстреляли белые, читал об этом книжку. Хорошая была книжка, запрещенная, с картинками. Тогда у Григория Фомича Кушланова жил грузчик Иван Самарин с парнишкой Сашкой. Грузчик из города был, с казаками он и с полицией там дрался. Была у него проломлена голова. Он и поправлялся у Кушланова. Там часто собирались ловцы, и грузчик правду рассказывал о жизни...
Старичок, еще ближе пригибаясь к ловцу, будто опасаясь, что вот-вот рухнет маяк и придавит избушку, перехваченным голосом шептал:
– И вспомнишь ее, никудышную, и согрешишь, и подумаешь: а есть ли, в самом деле, этот самый господь-бог?..
Дмитрий чувствовал, как пухлая рука Егорыча дергалась в его руке, будто пойманная маленькая рыбка.
Внезапно о крышу сторожки что-то с треском стукнуло.
Егорыч головою припал к груди ловца.
По крыше опять что-то громко скребнуло, покатилось и ударилось о стену.
«Верно, доску сорвало со стропил», – подумал Дмитрий.
Он приподнялся и, закрывая голую грудь полой тулупа, сел на кровати.
Старичок молчал, вскидывая робкие взгляды на икону.
Ловец наклонился к маячнику и тихо заговорил:
– Брось, Максим Егорыч, пустое это дело. Никаких богов нет... Я вот в Красной Армии был, и в городе там, в соборе, мощи были выставлены разные. Труха одна, опилки да вата...
У маячника часто вздрагивала бородка.
– Все знаю, Митрий, а подумать боязно... Я вот, видишь, на самом краю света живу, один.... Разыграется непогода, штормяк да молния, гром да дождь – ну, и господь-бог сейчас же на ум, а тут икона висит. Вот и молишься, один на один с погодой... И в море бывало так же: ударит, вскинется штормяк, страх возьмет, и полезешь в пазуху за крестом: тут ли спаситель?..
Искоса взглянув иа икону, маячник поднялся и выпил подряд две стопки водки. Он уже и до этого охмелел, и теперь, пошатываясь, прошел к сундучку; вытащив полотенце, сумрачно сказал:
– Не могу глядеть... Неловко как-то и боязно будто... И чую – ругаться сейчас начну с ним из-за Глушки. Э-эх!..
Он придвинул в угол табурет и, встав на него, прикрыл икону полотенцем.
– Легче так... – тихонько промолвил Егорыч и, спрыгнув с табурета, покачиваясь, подошел к ловцу. – А ты, Митрий, как выздоровеешь, вынеси мне икону из дома. У самого рука не поднимается. Один грех с ней, с иконой-то...
И, махнув рукой, он заспешил к печке.
– Эх, заболтались мы с тобой! И огонь прогорел, и чай остыл.
Дмитрий молчаливо следил за маячником.
«Чудной старикан!..» – думал он.
Егорыч снова растапливал печь.
Ветер затихал. За окном, вокруг маяка, навалило большие сугробы, а дальше желтели голые пески. Тучи неслись высоко и разрывались; небо светлело – вот-вот должно было показаться солнце.
Старичок долго стоял у окна, словно кого-то высматривая; постучав пальцами о подоконник, он повернулся и не спеша прошел к печке.
– Давай, Митрий, чай пить. И одежа твоя подсохла.
Он снял с веревки рубаху и передал ее ловцу; затем, пододвинув столик ближе к кровати, начал приготовлять чай.
– Я вот ругал тебя, Митрий, и еще ругать буду. Плохой ты ловец, ну никудышный, и еще много в Островке плохих ловцов... Зачем вы на рыбников ловите? Зачем на них работаете? Судаки-дураки!.. Поглядите на Григория Буркина. Вот он – человек! Ловец!.. Еще пара-тройка есть таких ловцов: Андрей Палыч, Костя Бушлак, Лешка-Матрос... А Григорий Буркин отменней всех! К рыбнику гнуть шею не идут. Вместе ловят! Живут пока небогато, зато сами ловят, сами на себя работают.
Дмитрий сердито кашлянул.
– Про других молчу, – глухо сказал он. – А ежели Лешку-Матроса взять – трепло, а не ловец!
– Потише, малый, – привскочил маячник, – а то весла поломаешь! Лешка – герой! Награда у него! Командиром в Красной Армии был и партизанил еще... Вот как! А ты чего болтаешь?..
И он, будто радуясь, что нашел в Дмитрии уязвимое место, стал с еще большей горячностью говорить о Матросе:
– Лешка, что и Григорий Буркин, верный своему партизанству. С живоглотами не знается, на них не работает... Это я понимаю – ловец! Человек!.. Знает ловецкую честь!..
Он долго корил ловца, потом, успокоившись, начал наливать в чашки чай.
– Одного, Митрий, не возьму я в толк. Сказывают, теперь будто в городе опять живоглотам плавники подрезали, – знайте, мол, власть советскую! А тут вот – в нашем краю-то – они живут себе, и вы работаете на них, судаки-дураки!.. Никак в толк я не возьму: ежели в городе и впрямь плавники им подрезали, почему они тут, у нас, свободно плавают? Как ты думаешь?..
Слушая маячника, Дмитрий вспомнил Василия, вспомнил его последние слова об артели, о наступлении на нэпмана и кулака.
«Правильно... И Егорыч об этом толкует... об этом же... о наших кулаках-рыбниках...»
Дмитрий утомился, его клонило ко сну. Обмякшее под тулупом тело, согретое водкой и чаем, требовало покоя.
Старичок же не унимался; выпив подряд три чашки чаю, он говорил уже про семейные, кровные дела:
– Такой же, как и ты, мой зятюшка, Тюха-Матюха этот! Пропадает с ним моя Глушенька...
Дмитрий приоткрыл глаза.
Егорыч вскочил и подбежал к сундучку; подняв свою смертную рубаху, он удрученно сказал:
– Вот она! Все, что оставил я себе от имущества. Сорок годов копил, на смерть в море ездил... Ежели не хватало сил или беда случалась, крал уловы у живоглотов, в тюрьму мог попасть, а все копил да копил... Думал: я плохо жил, пусть хоть дочка по-хорошему заживет. Мужа нашел ей, позарился на судака-дурака, на тихого парня!.. Забыл, старый дурень, дедовский ловецкий устав: от ловца чтобы ветром пахло, а от рыбачки дымом... Ну, как знаешь, передал я Беспалому дом свой, полную ловецкую справу, лошадь, корову, а сам перебрался сюда, на маяк. Пусть, думаю, молодые одни поживут, лучше им так будет... А что вышло?
Маячник сердито швырнул в угол смертное белье.
– Тюха-Матюха сбрую сгноил, а новую – не хватило сметки приобрести, лошадь заморил, дом у него скособочился... А он все дрыхнет. Я ему говорю: «Ну и соня ты, Мотя! Неужели у тебя на боках еще мозолей нет?..» Он молчит, ухмыляется. А как я учил его уму-разуму! Ка-ак учил!.. Да все без толку, – ума, видно, за морем не купишь, ежели его у тебя нет...
И вдруг он совсем тихо, шепотком, как бы самому себе, сказал:
– А я-то думал, на старости лет побалует меня зятек внучком... Эх, и понянчил бы я его... Веселись, стариковская душа, доживай в радости последние денечки... Вот и нанянчился, старый чертяка!
И он не спеша двинулся к окну.
– Замучилась с ним моя Глуша, плачет все. Сонливый уж очень муж!
– Да, плохо живет с Мотькой Глуша! – поспешно поддакнул Дмитрий.
– А? Что? – хотел было снова слукавить маячник, притворяясь оглохшим на одно ухо, но махнул рукой и подскочил к ловцу: – А ты думаешь, Глуша с тобой лучше жить будет?
– Лучше! – уверенно сказал Дмитрий и быстро поднялся.
Старичок присел, согнулся, – сейчас он был похож на запутавшегося в сетях ерша, который метался-метался, а потом, обессилев, угомонился.
Он молча глядел на ловца.
Дмитрий, босой и в тулупе, накинутом на плечи, вышел из-за стола. Пройдя к двери, он вдруг ухватился за косяк и тупо посмотрел на маячника.
– Что с тобой? – с тревогой спросил Егорыч.
Покачиваясь, Дмитрий осторожно двинулся к кровати.
– Плохо что-то, Максим Егорыч, – глухо сказал ловец. – Голову мутит...
Выставив руки вперед, он повалился на постель.
– Не надо вставать было, не надо! – строго прикрикнул Егорыч. – Говорил – пропотеть должен!
Он заботливо подоткнул под спину ловца тулуп и положил на ноги коротушку.
– Спи давай, а я обед сготовлю.
И опять маячник тянул водку; говорил он теперь тихо, не суетился:
– Как хотите, так и делайте сами с Глушей. Как хотите – сами... А я против этого...
Говорил он все тише и тише:
– Да, как хотите... И денег теперь у меня нет, и сил нет, чтобы имущество-хозяйство вам справить...
Дмитрий понимал, что лукавый Егорыч окончательно сдался, и хотел было сказать старику, что никакого его имущества-хозяйства им с Глушей не надо, но голова отяжелела и губы не разжимались.
Взяв бутылку, старичок молча, пошатываясь, прошел к окну.
Глянув на прибрежье, Егорыч вдруг быстро вытер рукавом стекло и припал к нему.
Повернувшись к Дмитрию, он хитро прищурил глаз и необычайно весело произнес:
– Думаешь, с горя пью? Я, может, с радости!..
– С какой же такой? – спросил ловец, предугадывая, что старичок что-то затевает.
Не отвечая, маячник напряженно глядел в окно; приподнимаясь на носках, он медленно поворачивал голову, будто за кем-то следил.
«И чего хитрит?» – подумал Дмитрий, и сам хотел приподняться, чтобы взглянуть в окно, но усталость словно приморозила его к постели.
Отставив бутылку и мурлыча себе что-то под нос, старичок, покачиваясь, поспешно зашагал к двери.
– Куда, Максим Егорыч?
Маячник задорно подмигнул и толкнул ногой дверь.
Вся белая, запушенная снегом, вступила в сторожку Глуша.
Не сказав отцу и слова, она сбросила с себя шаль, коротушку и быстро подошла к кровати.
– Живой ли, Митенька?
Ловец удивленно глядел то на Глушу, то на маячника.
– Живой ли ты? – трясла Дмитрия Глуша, чуть не плача.
Дмитрий приподнялся на локте.
– Живой... Спасибо Максиму Егорычу...
А старичок стоял в сторонке и молча наблюдал за дочерью.
Опускаясь на табурет, она обшлагом кофты вытирала глаза.
– Брось дурить! – вдруг сердито прикрикнул на нее маячник. – Что за слезы?.. Брось, говорю, дурить!
Всхлипывая, она посмотрела в глаза отцу; глаза его золотисто горели.
– Ой, спасибо, батяшенька, за Митю!.. Как хорошо-то мне!..
Искоса оглядывая дочь и ловца, Егорыч снял со стены полушубок и начал одеваться.
– Лошадь бросила! – забурчал он. – А лошадь чужая!
– Чего ты, батяша? – Глуша подняла голову.
– Лошадь, говорю, не распрягла! – и маячник сердито запахнул полушубок.
Пройдя к двери, он остановился и строго сказал:
– Ты особенно-то не расходись у меня, а то живо прикручу хвост... С Митрием шашни пора кончать. Для этого и вызвал тебя, а ты, верно, думала, благословлять свел вас. Шалишь, дочка!..
– Максим Егорыч! – жарко воскликнул Дмитрий. – Ты же только что супротив ничего не имел...
– А твое дело молчать! Не с тобой речь!.. Кончать надо! Про вас и так много брешут... Молва-то людская что зыбь морская – так и катит, так и катит...
Глуша поднялась и тихо зашагала к Егорычу.
– Батяша, – взволнованно сказала она, – не могу я больше с Мотькой. Сам знаешь!..
Маячник сердито кашлянул, притопнул ногой и опрокинул шапку глубже на глаза.
– Эх ты, дочка, дочка, – бесстыдница!..
Отшвырнув с порога окурок, он отворил дверь и, скрываясь в клубах пара, проворчал:
– Нет!.. И внучка от вас не приму...
Дмитрий – довольный, радостный – чуть слышно проронил:
– Ух, и хитер у тебя старик.
Глуша села рядом с Дмитрием и, склонив голову на его грудь, облегченно вздохнула:
– Видно, согласен батяша...
Глава девятая
Третий день живет Дмитрий у Максима Егорыча. Все это время, как только приехала Глуша, Егорыч, поругавшись с дочерью, упорно молчал.
Он непрерывно что-нибудь мастерил, пытаясь казаться очень занятым: то возился с починкой сетей, то сбивал новую табуретку, то вытаскивал из-под кровати ящичек с сапожным инструментом и начинал примерять заплаты к валенкам.
Будто озабоченный работой, старичок искоса следил за Глушей и Дмитрием; когда они разговаривали вполголоса, он слегка подавался всем туловищем в их сторону, стараясь не пропустить ни одного слова.
Если Глуша с Дмитрием говорили шепотом и маячник не мог слышать их, он нетерпеливо ерзал на табуретке и сердито кашлял.
Как ни старалась заговорить с отцом Глуша, он продолжал упорно молчать, нарочито кропотливо подшивая валенки.
Но Глуша не отставала.
Тогда он, насупясь, строго приказывал:
– Не мешай! Не видишь – занят батька!
Она ближе подходила к отцу и подкупающе спрашивала:
– Батяша, и чего это ты?..
Максим Егорыч бросал работу и, уходя на вышку маяка, недовольно бормотал:
– Чертяка вас принес до меня! От дела отрывают!
Но вскоре, возвращаясь в сторожку, он опять садился подшивать валенки, опять внимательно прислушивался к разговору дочери с ловцом.
Глуша заботливо ухаживала за Дмитрием: натирала его водкой с уксусом, поила горячим чаем, и ловец с каждым днем чувствовал, как возвращаются к нему прежние силы.
На четвертый день, проснувшись рано утром, Дмитрий осторожно поднялся с кровати Егорыча и начал собираться.
На полу спала Глуша. Рядом с дочерью примостился старичок; он недавно затушил маячную лампу и теперь, укрывшись ватником, беззаботно, громко сопел.
Из-под полушубка выбилась Глушина нога – тонкая, лоснилась коричневая кожа, как в чулке, с ямками под круглой чашечкой колена.
Дмитрий перешагнул через Глушину ногу и, сняв с печки теплые стеганые штаны, встряхнул их.
Шумно вздохнув, Глуша завозилась и отбросила полушубок, потянулась, с плеча сползла рубашка.
Дмитрий учтиво отвернулся, и когда хотел пройти к кровати, поднялся маячник и спросил шепотом:
– Ты куда?
– Домой собираюсь, Максим Егорыч.
Старичок замахал руками, быстро вскочил на ноги; подбегая на носках к ловцу, недовольно зашипел:
– Ложись обратно!.. Да ты что: окочуриться хочешь? Грели мы тебя с дочкой, грели, а ты – на, чего удумал: на волю!.. Теперь день-два остыть тебе следует, а тогда – на все четыре стороны!
Заметив оголенное плечо у дочери, он покосился на Дмитрия и прикрыл ее полушубком.
– Ложись в постель! – настойчиво шептал Егорыч. – Ложись!
Ловец растерянно стоял перед маячником.
– Да я, Максим Егорыч... Мне домой пора. Выхворался уж... И к путине готовиться. Я...
– Без разговора! Ложись!
Дмитрий прошел к кровати и нехотя присел. Егорыч опустился рядом на табуретку, свернул цыгарку и, передавая ловцу кисет с бумагой, тихо, участливо сказал:
– Теперь и ты можешь побаловаться табачиш-ком. – И, попыхивая дымом, строго спросил: – А какой у тебя расчет с твоим кормильцем?
– С Дойкиным?.. Триста целковых за ним у нас с Васькой.
– Как так?
Дмитрий жадно потянул цыгарку, закашлялся.
– Тише! – погрозился маячник. – Дай выспаться Глуше, а то всю ночь крутилась возле тебя. Ну, говори, какие же расчеты у вас с «народным кормильцем»?
– Триста целковых за ним значится. Ну, оханов мену относ угнал, – вычет, стало быть, за то. Потом: не знаю, все ли захватил из коша Васька, – оханы там, тулупы, жарник. Вот и надо подвести счета.
– Э-эх, судаки-дураки! – Егор покачал головой и раздосадованно, горячо зашептал: – После каждой сдачи улова надо было расчет делать и брать с живоглота целкаши! Понял? А теперь он тебя, как осетра, обделает: и икорку выпустит, и вязигу вытянет, и балычок сготовит. Э-эх, судаки-дураки, сами прямо в сетку лезут! Теперь он вам наскажет: и оханов-то лошадь не привезла, и тулупы-то оставлены в коше, и то, и это.
– Глуша ведь видала! – привскочил Дмитрий. – И оханы, и тулупы видала в санях. Она же говорила!
– Вида-ала! – раздраженно перебил его маячник. – А чего она видала? Считала она их? Было, скажем, два десятка оханов в санях, а он, кормилец, скажет: десяток только. Тулупы ежели привезла лошадь оба, он скажет: один привезла. Да-да! Еще хорошо, ежели эдак скажет... Тут и Глуша тебе не помога. А то, гляди, скажет: пустые прикатила сани лошадь с моря, – и все тут. Да-да, и так может сказать! На то он и живоглот: он не только рыбку глотает, но и ловца может сглотнуть. Эх, вы!.. Помнишь, как меня обделал мой живоглот?..
Дмитрий нетерпеливо елозил на постели; он часто поднимался, пытаясь шагнуть к двери, но Егорыч дергал его за рукав, шикал на него, указывая глазами на дочь:
– Тише! Ложись, говорю! Тише!..
Поглядывая на Глушу, ловец покорно опускался на кровать.
Они долго и молча курили. Изредка налетал на маяк ветер, и тогда слышно было, как обветшалые стропила тихонько поскрипывали. Егорыч, опершись локтями о колени и склонив голову, говорил задумчиво и душевно:
– Знаешь, Митрий, прикинул я в уме твои расчеты с Дойкиным, и думается мне: нет смысла тебе с ним подсчеты вести. Так и эдак, а все с тебя приходится. Он насчитает тебе такую кучу долгов, что ты ни одного целкаша с него не получишь, – знай, Митрий, работай на кормильца!.. По-моему, махни ты на эти подсчеты да бросай Дойкина. Становись исправным ловцом, хозяином... Я вот что хотел тебе сказать. Ежели хочешь, бери мой кулас, кое-какие сетчонки у меня имеются, да у тебя, поди, тоже что-нибудь сохранилось от покойного батьки. Прикупить еще можно будет немного. И вали, дорогой мой, встречай путину полным хозяином!
Егорыч заулыбался, покачал головой, облегченно вздохнул:
– Бери, Митрий, мой кулас. Я обойдусь и так. Харчи там или керосин и прочую надобность я доставлю себе и без куласа, сумею с попутными ловцами договориться. Бери кулас – становись хозяином!.. Глядишь, в весну счастье привалит, а оно, дорогой мой, в воде завсегда есть, только ищи его, не ленись!.. Умей гоняться за косяками – они от тебя, а ты за ними. Тут их нет, ты на другое место подавайся. Выбьешь сети там, да выбьешь здесь, глядишь – и улов добрый есть! Вот оно что! И заживете вы...
Старичок замолчал и, взглянув на спящую Глушу, обеспокоенно поправился:
– И заживешь ты, Митрий, по-хорошему.
Пристально и с опаской посмотрел ловец на маячника. А тот поспешно вскочил с табуретки и метнулся в передний угол, где хранилась бутылка с водкой.
– Не надо, Максим Егорыч, – предупредил Дмитрий и поднялся с постели.
Маячник погрозился пухлым кулачком и, запрокинув голову, начал глотать прямо из бутылки. Отпив третью часть, он причмокнул и, вытерев губы рукавом, сказал:
– От радости, Митрий, пью я!
– Какая же радость, Максим Егорыч, у тебя? – притворился непонимающим Дмитрий.
– Радость-то какая? – старичок пристально поглядел на ловца прищуренным глазом. – Бо-ольшая, дорогой мой!.. Тебя вот, неплохого парня, на путь истинный направляю – раз! Дочка после долгой разлуки рядом со мной – два!
И он снова запрокинул голову. Проснулась Глуша. Она недоуменно посмотрела на Дмитрия, на отца – и вдруг вскочила:
– Брось, батяша!..
Глуша вырвала у него бутылку и укоризненно сказала:
– Нехорошо, батяша! Опять начинаешь!..
Егорыч поскреб щеку, заросшую редкой щетиной, и возмущенно топнул на дочь:
– Прикройся чем-нибудь! Чего выпялилась перед парнем?!
Он ловко и быстро вошел в свою прежнюю роль ворчливого, недовольного старика:
– Ишь, распустилась! Смотри у меня!.. Я с тобой разговора еще не имел. Погоди, я тебе задам, я тебе все припомню!..
Глуша послушно опустилась на пол; накинув на плечи полушубок, она, улыбаясь, взглянула на Дмитрия.
Вытащив ящик с сапожным инструментом, Егорыч начал подколачивать свои домашние чибрики.
И опять он упрямо молчал, стараясь казаться поглощенным работой, но продолжал так же настойчиво следить за всем, что делали Дмитрий и Глуша, и по-прежнему прислушивался к их разговору.
Перед обедом он вышел из сторожки.
Крутое, янтарное солнце заливало все вокруг теплыми, ослепительными лучами; над морем и протоками лениво ползли редкие, дымчатые туманы.
Маячник перевалил шапку на затылок, потер лоб; сумрачно усмехнувшись, он подумал о Дмитрии и Глуше:
«Спаровались, видно, крепко...» – Глянув на небо из-под ладони, приложенной козырьком ко лбу, маячник сощурился и заулыбался.
Шел медлительный небесный ледоход – по бело-голубым мирным просторам неба, точно по заштилевшим водам, плыли небольшие белые облачка, которые быстро таяли, как последние запоздавшие льдины во время волжского солнечного ледохода.
Все улыбаясь, Егорыч подошел к амбару, где стояла краснощековская лошадь.
– Да-а, крепко спаровались!.. – уж вслух и раздумчиво сказал маячник.
Откинув железную скобу с двери, он неторопливо вошел в амбар. Лошадь обеспокоенно затопала ногами и ткнулась мордой в грудь старичку.
– Стой!..
Уже четвертый день Егорыч кормил лошадь болтушкой, израсходовав на это все запасы муки: ни овса, ни сена у него не было.
– Пожалуй, придется отвести в Островок, – сказал он громко самому себе. – Кормов нет, да и перед Захар Минаичем неудобство. Митрий пролежит еще дня два-три, а Глуша без него с маяка не уйдет.
Он отстранил лошадь и, выйдя из амбара, с добродушной грубостью выругал дочь:
– Э-эх, такая-сякая! Нет покоя старику!..
Посмотрев на. солнце и решив, что к вечеру он успеет возвратиться из Островка на маяк, Егорыч принялся запрягать лошадь.
Часто озираясь на окна сторожки, он шепотом понукал лошадь, стараясь уехать с маяка незамеченным... Маячник направился в объезд накатанной дороги, чтобы не увидели его в окно сторожки ни Глуша, ни Дмитрий. Сани глубоко проваливались в мягких, разбухших от солнца сугробах. Егорыч вылезал и с трудом пробирался через снежные завалы.
Отъехав несколько километров и взглянув на маяк и на сторожку под ним, которая была затянута тонкой пеленой ползучих туманов, Егорыч только тогда свернул на накатанную ловцами дорогу.
Крепко стегнув кнутом лошадь, он широко развалился в санях и, пригретый солнцем, невнятно замурлыкал песенку...
У Егорыча все еще был хитро прищурен глаз, что говорило о какой-то новой его затее. И действительно: ехал он в Островок не для того только, чтобы передать лошадь Захару Минаичу.
Любил Максим Егорыч играть сам с собою в прятки: часто обманывал себя, делал не то, что решил сделать, подолгу спорил с воображаемым ловцом...
Иной раз, громко сказав себе, что пора вскипятить чай, он, прищурив глаз, озорно улыбался и начинал втихомолку готовить обед или, решив сходить на вышку маяка, долго и блаженно потягивался и вдруг заваливался спать. А заспорив о чем-либо с воображаемым ловцом, чаще всего с Матвеем Беспалым, он входил в такой азарт, что кричал на всю сторожку, стучал по столу кулаком, даже выбегал на волю, точно кого-то преследуя, и свирепо грозился – то в сторону степей, то в сторону моря... Зная, что у него осталась только одна бутылка водки и что в ближайшие дни он не сможет достать себе пополнения, Максим Егорыч начинал хитрую игру, которая должна была растянуть водку на несколько дней. Отпив из бутылки чашечку, он разбавлял водку водой и приговаривал: «Было сорок градусов, а сейчас будет тридцать семь». Спустя час другой снова выпивал и опять подливал в бутылку воды: «Теперь тридцать пять градусов». Так он доходил до десяти, до пяти градусов и, глотая из бутылки почти уже чистую воду, слегка пахнущую спиртом, серьезно морщился, сплевывал, вытирал рукавом губы и сердито крякал: «Ух, и горькая, как рыбья желчь!..»
Эта игра разнообразила его скучную, отшельническую жизнь на маяке, сокращая одинокие, серые дни, месяцы, годы.
За многие годы жизни на маяке Егорыч так сжился со своей игрой в прятки, что, встречаясь с людьми, беспричинно хитрил с ними, пытаясь запутать разговор, делал не то, что обещал, без всякого повода ругался...
Так было и сейчас: обманывая самого себя, маячник воспользовался лошадью для поездки в Островок только как поводом – у него были совсем другие намерения.
Решив, что теперь Глушу с Дмитрием и водой не разольешь, Егорыч спешил рассчитаться со своим зятем, Матвеем Беспалым.
Приближаясь к поселку, он погнал лошадь быстрее, то и дело настегивая ее кнутом.
Подъехав к краснощековскому дому и не желая встречаться с Захаром Минаичем, маячник передал лошадь его сыну Илье и задами прошел к своей хатенке.
Войдя в горницу и застав Матвея спящим, он разбудил его и, стал сердито кричать, беспокойно бегая по комнате:
– Спишь, Тюха-Матюха! Дом проспал, соня, – гляди, как покривилась хата! Бударку проспал, сбрую проспал!.. И жену под конец проспал!
Матвей, спросонья глядя на тестя, недоуменно спросил:
– О чем толкуешь, Максим Егорыч?
– Как о чем? – закричал старичок. – Глушка от тебя сбежала! Вот о чем толкую!
– К кому же она сбежала? – раздумчиво задал вопрос Матвей, обращаясь не то к себе, не то к тестю.
Протирая глаза, он поднялся с постели и смущенно огляделся вокруг.
– Ой-ей-ей-ё-ой! – покачал головой старичок, неприязненно смотря на заспанного, медлительного зятя. – Ну и соня же ты, Матвей! Ну и Тюха-Матюха!
Егорыч подскочил к зятю и, тыча его кулаком в грудь, стал гневно выкрикивать:
– Не хочу с тобой много говорить! Хватит!.. Сколь годов говорил! Балабон пустой! Вот тебе последнее мое слово: выметайся из моего дома за два дня. Понял? Дом-то мой? А?
– Твой, Максим Егорыч, – еле внятно ответил Матвей, отступая перед маячником в кухню.
– Заруби себе на носу: через два дня чтобы духу твоего в моем доме не было... А ежели противиться вздумаешь – убью! Возьму темляк и хрясну по твоей дурацкой голове. И виноват не буду! Потому как ты мой дом сгубил, всю справу сгубил, Глушу сгубил...
Подойдя к двери, он взялся за скобу и переспросил зятя:
– Понял?
– Понял, Максим Егорыч.
Старичок уже примиряюще добавил:
– День или два еще можешь поспать, а потом освобождай... Ключи от дома передашь Митрию Степановичу, к этому дню он будет в Островке.
– Какому это Митрию Степановичу? – очнувшись, живее обычного спросил Матвей.
– Митрию Казаку, вот какому! – раздраженно крикнул Егорыч.
– Почему же Казаку? – уже тверже и требовательней спросил Беспалый.
– Ай, Тюха-Матюха! – старичок безнадежно махнул рукой. – Хотела б и рыбка песенку спеть, да голоса нету...
Он ухмыльнулся и опять сердито прикрикнул на зятя:
– Хватит балабонить! Освобождай дом – и кончено! Да гляди у меня, не вздумай тронуть Глушины вещи! Свое барахло можешь себе забрать, а Глушины вещи – не тронь! Не то – все равно, убью!
Рванув дверь, маячник скрылся в вихрастых клубах пара.
Свернув в проулок, он быстро зашагал в сторону сельпо, где хотел купить несколько бутылок водки. Оттуда Егорыч намечал двинуться через Сазаний проток к Буграм, – там часто можно было встретить попутного ловца и подъехать с ним к маяку.
Глядя под ноги, он что-то бормотал, качал головой, грозился пальцем, – должно быть, все еще продолжал разговор с Беспалым.
– 3-э! Максим Егорыч!
Маячник вскинул голову.
– Максиму Егорычу! Мое почтенье!
Навстречу шагал Лешка-Матрос, широко и светло улыбаясь.
Уменьшив шаг, Егорыч забеспокоился, не зная, как ему держаться с ловцом. А Лешка, сияя доброй, приветливой улыбкой, уже тряс его руку и приговаривал:
– Как живешь-можешь, Максим Егорыч? В гости пожаловал в Островок? Чего нового у тебя?..
Старичок, откашлявшись и шныряя глазами по сторонам, чуть слышно ответил:
– У ловца одного тут был.
– У какого, Максим Егорыч? – обходительно спросил Лешка.
– Да который из ловецкого кармана деньгу удит.
Матрос громко рассмеялся:
– Кто ж это такой, Максим Егорыч?
– Есть такие!
И, глядя на блещущего смехом Лешку, маячник тоже заулыбался. Потом, стараясь быть серьезным, сухо добавил:
– У Захара Минаича был, дело там одно.
Ласково хлопнув Егорыча по плечу, Матрос засуетился:
– Что ж это я дорогого гостя речами угощаю? Ах, ты!..
Он подхватил маячника под руку.
– Пошли, пошли, Максим Егорыч, ко мне. Выпьем по стаканчику божьей водицы. Посидим, поговорим...
– Нет! – упирался маячник. – Никак не могу. Благодарствую, Лексей. Не могу никак! На маяк надо.
– Успеешь, Максим Егорыч. Гляди, солнце-то еще высоко. Я тебя сам переправлю на маяк.
Лешка тихонько, плечом подталкивая старичка:
– Обижусь, Максим Егорыч, ежели не зайдешь.
Взглянув на солнце, маячник махнул рукой:
– Ну, да так и быть: глотну стаканчик...
Когда они вошли в холодную холостяцкую горницу Матроса, Егорыч никак не мог найти места, где можно было бы присесть.
В горнице была всего только железная кровать, да и та без ножек, лежала прямо на полу, около нее стояла вверх дном небольшая бочка, – она заменяла, должно быть, и стол, и стул. Егорыч примостился на край бочки.
Из темного и, казалось, пустого угла Лешка выдвинул ящичек с самодельным запором: из проволоки были свиты кольца и прибиты гвоздями, на кольцах висел большой и грузный, чуть ли не в четверть ящичка, замок.
– Садись, Максим Егорыч!
Оглядывая убогую обстановку комнаты, маячник еле слышно проронил:
– Плоховато живешь, Лексей.
Искоса взглянув на старичка, ловец грустно ответил:
– Хозяйки нет, Максим Егорыч.
Старичок заерзал на ящике, недоволыно кашлянул, отвернулся, глядя на распахнутую дверь в длинную пустую залу, приспособленную Лешкой под стрелковый тир Осоавиахима. Дверь в залу была перегорожена доской-стойкой, на которой лежало два небольших пневматических ружья и коробка с дробинками. Лешка обучал молодых ловцов стрельбе, готовил будущих «ворошиловских стрелков». В глубине залы были расположены мишени из картона, изображавшие разных рыб, птиц, животных. В центре мишеней выделялся толстый, заплывший жиром паук-капиталист с запрятанными за спину руками; когда стрелявший попадал в голову паука-капиталиста, руки его угрожающе вскидывались, обнажая огромный топор... По бокам двери, ведущей в зал-тир, висели зеленые санитарные сумки с красными крестами. Молодые рыбачки частенько собирались у Лешки, который обучал их санитарному делу – как оказать первую помощь раненому или повредившему ногу, порезавшему руку. Санитарный кружок посещала и Глуша...
Маячник громко вздохнул, повернулся к Лешке.
А тот, уже поставив на бочку бутылку с водкой и желтоватый стакан, принес из угла чалку воблы и кусок черного хлеба. Хлопнув о ладонь донышком бутылки, из которой со свистом вылетела пробка, он налил в стакан водки.