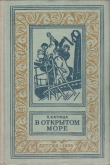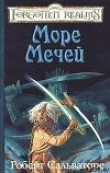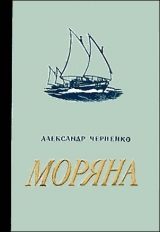
Текст книги "Моряна"
Автор книги: Александр Черненко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Андрей Палыч взглянул на Лешку, – тот, задумавшись, попрежнему смотрел в окно, за которым лежали высокие навалы снега, ослепительно поблескивая на солнце.
Кто-то зашумел в сенях.
«Верно, Костя с маманей идут, – подумал Андрей Палыч. – Поговорим сейчас, обмозгуем, что к чему. Газеты ему еще как следует почитать надо».
В дверях показалась Глуша.
– Я за вашим письмом для сельсовета забежала, Андрей Палыч.
– Вот оно... – Ловец взял с подоконника конверт и, передавая его рыбачке, спросил: – Значит, дал Дойкин лошадь?
– Нет, не дал.
– А на чем же ты едешь?
– Захар Минаич дал жеребчика.
Андрей Палыч нахмурился, недовольно сказал:
– Ну, ладно... Я поговорю с этим Дойкиным! – Он сердито махнул рукой, прошел к окну.
Глуша шагнула к Андрею Палычу, взяла у него письмо для сельсовета и тихо спросила:
– А Лешка не был у вас?
– Тут он, – глухо отозвался Андрей Палыч и показал в конец горницы, где за горкой, у окна, сидел задумавшийся Матрос.
Глуша быстро подошла к нему.
– Я к тебе, Леша. Не подшутил ты надо мною? Верно, что на маяк мне ехать надо?
Матрос молчал, сосредоточенно о чем-то думая.
– Леш...
Он повернул голову, посмотрел на Глушу.
– Не подшутил ты надо мною, Леша? – вновь спросила она.
– Батька наказывал... – едва слышно сказал Матрос и, словно просыпаясь, медленно поднялся со стула. – Какие тут шутки!
– А я все Илью Краснощекова искала. Захар Минаич аелел запрячь мне жеребчика... Да с Настей Сазанихой еще вот пропуталась, – беда там.
– А что с ней? – Евдоша отложила нож и подошла к Глуше.
– Да как же, родила она с перепугу прямо на берегу. Бабка Анюта еле подоспела принять ребеночка...
– Да-а, – Евдоша покачала головой и снова, подойдя к столу, начала резать хлеб.
Чуть заметно кивнув Лешке, Глуша направилась к двери.
– Прощайте. Побегу я, а то Илья пошел запрягать, – и она снова кивнула Матросу.
Он пошел следом за ней.
В сенях, дергая ловца за пуговицы телогрейки, Глуша тревожно выспрашивала его о Дмитрии:
– Как он попал к батяше? Что с ним? Живой ли? Расскажи, Леша...
Переступая с ноги на ногу, Матрос светился доверчивой улыбкой.
– Батька твой с маяка встретил нас с Костей, – начал рассказывать он, пристально заглядывая в ее черные, округлые глаза. – Встретил и сказал: «Пусть Глуша ко мне приезжает». А потом, старый чертяка, на ухо Косте шепнул: Митька, слышь, больной у него лежит...
– Больной? – взволнованно переспросила Глуша.
– Больной, говорит. Костя мне об этом рассказал... – И Лешка вплотную подошел к рыбачке...
Она легонько отстранила его.
Лешка отступил, обиженно опуская голову.
– Э-эх, ты... – горько сказал он. – Не хочешь пожалеть меня. Я ли не суженый тебе?.. Не ездила бы ты лучше на маяк. Охота поговорить мне с тобой напрямик, с глазу на глаз. Довольно тебе мучиться с Мотькой, и Митрия бросить надо... Э-эх, пожалела бы ты меня! И зажили бы мы с тобою по-законному. Да и дела в поселке должны вот-вот развернуться жаркие. Сейчас с Андрей Палычем говорили, газету читали.
Глуша пожала плечами, направляясь к дверям.
Матрос, всегда веселый и речистый, сразу опечалился и затих.
Выбежав во двор, Глуша громко сказала ему:
– Приеду с маяка, тогда и поговорим, – и, посмеиваясь, она прищурила глаза.
Лешка встрепенулся.
– Ладно... – он снова нахмурился, огорченный и тоскующий.
Распахнув калитку, Глуша спросила его:
– А про Ваську батяша ничего не говорил?
– Нет... – притихший Лешка стоял в дверях, расслабленно прислонясь к косяку.
Махнув ему рукой, Глуша быстро скрылась за калиткой.
Ловец долго стоял у косяка, жмурясь от яркого, с огоньками, снега. Ему припомнилось, как года полтора тому назад – еще до связи Глуши с Дмитрием – она однажды пожалела его и целый вечер провела с ним... И Лешка после этого стал особенно настойчиво добиваться перед маячником своего суженого, обещанного счастья. Глуша как будто тоже против ничего не имела. Но тут заявился из Красной Армии Дмитрий Казак и перевернул все вверх дном.
Матрос встревоженно, жарко дышал...
Как он вошел в горницу и когда заявился Костя со своей матерью, Лешка не помнил.
Очнулся он только теперь, сидя за столом и жадно глотая пельмени.
Андрей Палыч ел по-обычному молча, медленно.
Евдоша то и дело подкладывала гостям горячие пельмени, подливала бульон.
– Ешьте, ешьте, – приговаривала она. – Ешьте, милые.
Окончательно придя в себя, Лешка чему-то хмуро усмехнулся и, взяв бутылку, налил в стопки водку.
– Выпьемте, что ль! – И он высоко поднял стопку.
– Не могу больше, – скуластая, с узкими щелками глаз, Татьяна Яковлевна отодвинула стопку на середину стола.
– А вы пейте, на нас не смотрите, – и Евдоша снова принялась подкладывать гостям пельмени.
Лешка чокнулся с Андреем Палычем и Костей, рядом с которым сидела Зинаида, и они втроем разом запрокинули головы. На чисто выбритой шее Кости, когда он пил водку, выпирал большой кадык.
– А вы чего не пьете? – обратился Лешка к рыбачкам.
– С нас и того довольно, что выпили, – Татьяна Яковлевна подсела ближе к Евдоше.
Когда Костя заговорил шепотом о чем-то с Зинаидой, рыбачки многозначительно переглянулись и, улыбаясь, потупили взоры.
Евдоша опять и опять потчевала гостей пельменями:
– Кушайте, милые... Кушайте на здоровье... еще подложу...
Первым вышел из-за стола Андрей Палыч. Остановившись у окна, он негромко заговорил:
– Плохи наши дела... Что будем делать дальше, и не знаю... А из беды выкручиваться как-то надо...
Лешка молча свертывал цыгарку. Задумчиво глядя в окно, Андрей Палыч все говорил:
– Беда, большая беда накрыла нас... Выход искать надо...
Ему хотелось сказать очень многое, но речь, как и всегда, у него не ладилась, нужные слова во-время не приходили, – поэтому Андрей Палыч говорил неторопливо, с перерывами.
– Беда... – И он стал медленно прохаживаться по горнице. – Выход искать надо... Выход!..
Рыбачки, поглядывая в сторону Кости и Зинаиды, едва слышно разговаривали.
– А Коляка-то ожил, – шептала Евдоша. – Сказывают, не относ его попортил и не шурган, а вроде Турки подо льдом протащили...
– Слышала, слышала я, – кивала головой Татьяна Яковлевна. Щуря узкие, слегка раскосые глаза, она вдруг тяжело, печально вздохнула: – Где-то теперь наш Вася Сазан... Не дай бог, ежели в открытом море...
И рыбачки, глядя в угол, где висела икона Николы-чудотворца, которого почитали за покровителя ловецкого племени, неторопливо перекрестились.
Андрей Палыч, заложив руки за спину, не спеша двигался по горнице.
– Выкручиваться как-то надо. Что-то делать надо!..
Костя просматривал газеты, которые передал ему Андрей Палыч; газеты были старые, они приходили в Островок раз-два в месяц целыми пачками. Рядом с Костей сидела Зинаида, она задумчиво вышивала кисет.
– Читай, Костя, читай, – говорил Андрей Палыч. – И думай, что к чему.
Лешка непрерывно тянул цыгарку, выпуская густые сизые клубы дыма.
Андрей Палыч стоял у окна и попрежнему задумчиво повторял:
– Выход нам надо искать.. Беда...
– Есть выход! – неожиданно заявил Лешка.
Он отстегнул ворот рубахи, из-под которой была видна его расцвеченная темной синью татуировки белая грудь.
– Есть выход! – повторил он, поднимаясь из-за стола. – Да, есть! Кончал их базар!
Матрос взмахнул рукой и возмущенно выкрикнул:
– За жабры надо тряхнуть Краонощекова и Дойкина – и баста! Жить мешают!.. И партия о наступлении на них говорит, – читали же мы сейчас статью Сталина «Год великого перелома»! Тряхнуть Краснощекова и Дойкина!
Лицо Матроса стало неузнаваемо: оно было искривлено ненавистью, потемнело, губы тряслись, а глаза, большие и зеленые, угрожающе поблескивали.
– За жабры их, как в городе! Вот и выход!..
– Будет тебе, Алексей! – остановила его Евдоша.
– Что значит будет?! – И Лешка направился к Андрею Палычу. – Тряхнуть!.. За жабры!..
– Ну и человек! – Евдоша безнадежно покачала головой; туже затянув на шее платок, она обратилась к Костиной матери: – И чего говорит! В городе тряхнули тузов-рыбников, а тут другое дело...
Остановив у стола Андрея Палыча, Лешка не переставал кричать:
– Возьмем за жабры! Тряхнем!.. А?.. Что скажешь?!
– Постой, Алексей! – ловец задумался. – Не шуми!
– Почему не шуми? За жабры их!..
Андрей Палыч снова медленно зашагал по горнице. Матрос опустился на стул и дрожащими пальцами стал свертывать новую цыгарку.
Рыбачки едва слышно говорили о Насте Сазанихе, о Коляке, а потом заговорили о Глуше, осторожно поглядывая в сторону Зинаиды и Кости.
– Не знаю, и чего спуталась она с Митрием, – недовольно сказала Татьяна Яковлевна.
– И то правда, – согласилась Евдоша. – Он парень, а она баба, да еще в годах. Ей уже, верно, под тридцать... – и она беспокойно посмотрела на мужа.
Андрей Палыч продолжал все ходить, повторяя одни и те же слова:
– Выход из беды искать надо... Непременно надо...
Костя внимательно просматривал газеты.
– Выход нужен!.. Выход! – Андрей Палыч остановился перед Лешкой и, глядя мимо него, в окно, долго молчал; потом вдруг, круто повернувшись, решительно сказал: – Значит, так, товарищи, – решаем: артель, колхоз создаем! Жалко только нету Василия, Григория Иваныча, Сеньки... – И громко, уверенно повторил, стараясь, чтобы слышали все: – Артель, колхоз создаем!.. Но нам нужна помощь, поддержка. Я в район еду. И вообще в район съездить пора. Давно уже не были! Узнать там, что к чему и что от чего. Вон ведь какие дела кругом творятся!
Он энергично шагнул к печке и, сняв с нее валенки, настал переобуваться.
Так обычно с ним всегда случалось. Молчаливый и задумчивый, он, по обыкновению, неторопливо обдумывал свои решения. Говорил он всегда мало и тихо, больше работал и молчал. К решениям же своим лржхюдил через мучительные искания, сомнения, колебания...
Но раз решив, Андрей Палыч уже не отходил от намеченного, шел напролом, всячески добнвался его осуществления.
– Костя, на всякий случай пиши в кредитку заявку о кредитах для артели! – Переобувшись в валенки, он поднялся. – Евдоша, давай теплую рубаху!
Костя хотел возразить, что из этого ничего не выйдет, – они ведь не вернули еще прежние кредиты, а новых кредитов не дадут, раз старые не погашены!
– Пиши, Костя, заявку о кредитах для артели, – настойчиво повторил Андрей Палыч и строго посмотрел на жену.
Костя попытался остановить его:
– Андрей Палыч...
Но тут поднялся посуровевший Матрос и, зло пыхтя дымом, жестко сказал:
– А ты, Костя, слушай, что тебе говорят!
– Пиши, пиши давай! – Андрей Палыч быстро снял валенки и поверх штанов надел еще теплые, стеганые шаровары. – Что? Думаешь, откажут? А газеты зачем?! С собой возьму! И ту – со статьей товарища Сталина, и другую – с его речью... В районный партийный комитет пойду. И скажу, как сейчас говорил: решили артель, колхоз создать. Давайте помогайте нам, товарищи. Пора! По всей стране артели создаются. И у нас на Волге создаются... Алексей! – окликнул он Матроса. – Запрягай коня!
– Есть запрягать коня! – и Лешка, схватив шапку, заспешил на двор.
Андрей Палыч снова обул валенки и прикрикнул на жену:
– Чего стоишь? Давай, говорю, теплую рубаху!
– Что уж это, – обиженно залепетала Евдоша, – будто на пожар бежит... Шебутной, ну и шебутной! Послушал бы, что Костя хочет сказать. Посоветовались бы все... Да и солнце вон уже на заходе. Завтра и поехал бы, ежели решили...
Но Андрей Палыч не такой ловец, чтобы поддаться уговорам. Деловитый и спокойный, он вдруг – будто на него налетал шквал – начинал спешитъ, решительно распоряжаться н быстро действовать.
Скоро снарядившись в путь, Андрей Палыч вскочил в сани и погнал лошадь к Сазаньему протоку.
Его обступили снега. Алый закат солнца окрасил их в розовый свет, и эта картина напомнила Андрею Палычу один из тех далеких вечеров восемнадцатого года, когда розовое сияние снегов было таким же волнующим и тревожным и когда Андрей Палыч вот так же мчался в санях по Сазаньему протоку навстречу бурным и грозным событиям...
...В семнадцатом году рабочие и солдаты сбросили в столице царя, а ловцы здесь, в приморье, перебили рыбных стражников, разогнали промысловых хозяйчиков и пошли ловить рыбу где попало: в купеческих, монастырских и даже казенных водах.
Запаслись в тот год ловцы – и мукой, и крупой, и сахаром, и маслом – на многие, многие месяцы. А кто пожаднее в лове был, тот запасся всем и на год и даже больше.
У Андрея Палыча с Евдошей впервые за всю жизнь запасы продовольствия были на полгода.
И вот, следом за осенней путиной, в январскую стужу восемнадцатого года, заявился ночью из города в Островок старый Бушлак, отец этого Кости, который только что, склонившись над столом, строчил заявку в кредитное товарищество ловцов.
Заявился ночью Бушлак в Островок, разжег посреди улицы костер и ударил в набат у пожарного сарая.
Сразу поднялся весь поселок; загавкали собаки, заржали кони, выскочили в чем попало из домов перепуганные ловцы, рыбачки, дети.
А Бушлак, стоя на пожарной бочке, гремел могучим голосом:
– Ловцы-ы! Беда-а в городе! Белые казаки на рабочих напали!
Костя, тогда еще шестнадцатилетний паренек, таскал из дома дрова и палил костер.
– Ловцы-ы! – продолжал призывать Бушлак. – Рабочие царя прогнали, нам помогли разогнать рыбную стражу, баров разных, купцов промысловых...
Он наклонялся в сторону Кости и кричал ему:
– Пали, сынок, огонь вовсю! Пали!..
Костер на морозе трещал, взвивался ярким, большим полымем.
– Ловцы-ы! Рабочие в крепости, в порту схоронились от казаков. У рабочих нехватка продовольствия, оружия не в достатке. Подмога нужна им!..
Андрей Палыч медленно прохаживался вокруг костра.
Толпа все ширилась и молча слушала Бушлака.
А он, не переставая, кричал, тревожил ловцов, звал их на помощь рабочим города:
– Побьют казаки рабочих, тогда к нам сызнова заявятся баре, купцы. Заберут опять все воды, поставят стражу...
Одни ловцы убегали от костра домой, чтобы переодеться – был лютый, хваткий мороз; другие возвращались уже в тулупах, прихватив с собой кто полено, кто ненужный обломок шеста, – все это бросали в костер.
Пламя длинным столбом рвалось в небо, окатывая ближайшие дома зловещей краснотой.
Костер шипел, стрелял большими краснымн искрами.
Толпа тревожно гудела; говорили, кричали все разом, ничего нельзя было разобрать.
Только изредка из этого гама вырывался громкий голос Бушлака:
– Ловцы-ы! Дви-инем!.. Подмо-огу!..
Андрей Палыч все решал: как быть, что делать.
Несколько раз он являлся домой; Евдоши не было, – она находилась с рыбачками у костра.
Пройдясь по горнице, Андрей Палыч выходил на двор, отпирал амбар и, нащупав мешки с мукой, тяжело вздыхал и снова направлялся к костру.
Толпа все гудела. Костер не переставал бушевать, – ребята приносили со двора поленья, камыш и не давали погаснуть огню.
Выйдя на берег, Андрей Палыч долго и сумрачно глядел на закованный во льды проток. По льдам широко расстилались. кровавые отблески костра; колыхаясь, отблески уходили далеко длинными полосами, – так далеко, что, кажется, достигали агабабовского рыбного промысла, где много годов тому назад работал Андрей Палыч и где пьяный Агабабов, шутки ради, чуть не утопил его в чане с тузлуком..
«А что, ежели и впрямь казаки побьют рабочих? – неожиданно припомнились ему слова Бушлака. – Купцы обратно вернутся, стражники тоже, воды перейдут опять к рыбникам. И Агабабов вернется...»
Андрей Палыч поспешил с берега домой; миновав ловцов и костер, он вбежал в горницу и, рванув со стены берданку с патронташем, выскочил на двор.
Он быстро запряг лошадь в сани, побросал в них мешки с мукой и с шумом подкатил к костру.
– Эй! Сторони-и-ись! – заорал он. – Сторо-ни-и-ись, говорю!
Ловцы и рыбачки испуганно шарахнулись в стороны.
– Говорим много! – закричал Андрей Палыч не своим, внезапно охрипшим голосом. – Делаем мало!
И он взобрался на мешки.
– Грузи сани продовольствием – и айда в город!
Толпа плотно обступила саии Андрея Палыча. Распахнув тулуп, он продолжал громко выкрикивать:
– Грузи сани!.. Забирай оружие!.. В город!..
Скоро к костру прикатили еще две подводы, навьюченные мешками с мукой.
Неожиданно в сани к Андрею Палычу вскочила Евдоша, первый раз в жизни заимевшая полугодовой запас муки; взбираясь на мешки, она что есть силы кричала:
– Не дам муку! Не дам!..
Андрей Палыч пытался уговорить ее, успокоить, но она, словно помешавшаяся, бестолково визжала, махала руками. Тогда Андрей Палыч слегка толкнул ее в грудь, и Евдоша скатилась с мешков.
Через секунду она снова уже была в санях.
– Не дам, не дам!..
Он вновь толкнул ее, и Евдоша, захлебываясь слезами, свалилась в снег.
В это время загудел набат в соседнем поселке.
Толпа притихла.
Далекие звуки обеспокоили тихую приморскую морозную ночь...
Ловцы напряженно вслушивались.
Звуки, нарастая, вселяли в людей смятенье, безотчетный страх, напоминали о купеческом городе, о промысловых хозяевах.
– Ловцы-ы! – внезапно распорол застойную тишину Бушлак. – На по-омощь!..
Толпа опять зашумела.
К Андрею Палычу подбежал с полумешком муки на плечах Григорий Буркин.
Бросив в сани мешок, он поднялся к Андрею Палычу и стал громко кричать, повторяя одно слово:
– Поехали! Поехали!..
Кто-то опять ударил в набат Островка; гулкий звон его заглушил набат соседнего поселка, сбил гвалт ловцов и рыбачек. В набат били все чаще и чаще, он гудел тревожно, зловеще.
К костру поспешно подъезжали одна за другой груженные мешками с мукой подводы.
А набат продолжал гудеть...
Девять подвод с двадцатью семью ловцами, вооруженными берданками и централками, выкатили из Островка в эту памятную морозную ночь.
Зарево не перестававшего бушевать костра ярко освещало им дорогу...
По этой дороге – по сжатому льдами Сазаньему протоку – мчался теперь Андрей Палыч в район.
«Артель, колхоз создадим! – думал он. – Непременно создадим! Партия верный путь нам указывает... Верный!..»
Он приподнялся и крепко стегнул коня по спине. Нащупав за пазухой газеты, обрадованно зашептал:
– Прямо в районный партийный комитет пойду!..
Кругом сверкали алые снега; лед был завален волнистыми радужными сугробами, камыш осыпан светящимся розовым пухом, а небо в багряном закатном пожаре будто тоже затянуто снежными пунцовыми покровами.
И Андрей Палыч примечал: чем быстрее бежала лошадь, тем лучистей сияли снега...
Глава восьмая
Маячник Егорыч беспрерывно суетился: то подбрасывал в печку дрова, то подбегал к небольшому, кованному разноцветной жестью сундучку, то спешил к столику, на котором стояло несколько бутылок.
– А ты еще хватани! – И он подливал Дмитрию водки. – Согреться надо, непременно согреться!
Дмитрий, лежа под тулупом Егорыча, приподнимался на локте и, морщась, выпивал новую стопку.
Становилось все жарче и жарче; под тулупом было, нестерпимо душно, и ловец тоскливо глядел на печку, где на веревке сушилась его одежда.
«Где теперь Васька? Что с ним стало? – спрашивал себя Дмитрий. – Егорыч говорил, что на заре, когда он тушил маяк, мимо пронеслась чья-то лошадь с порожними санями.. Куда же делся Васька? Неужели угнало его в относ?.»
И ловец снова тоскливо взглянул на свою одежду; ему хотелось встать, одеться и двинуться на помощь товарищу, но когда пытался приподняться, кружило в голове, звенело в ушах, и он опять беспомощно падал на подушку.
– Сейчас начнем варить ловецкий чай, – и Егорыч, маленький, толстенький старичок, снова убегал к печке; волосы на голове у него были короткие, ершиком, и почти всегда насмешливо прищурен один глаз. Егорыч напоминал собою шустрого, лукавого ерша.
– Давай я тебя еще раз натру! – Маячник брал бутылки с водкой и уксусом и сбрасывал с Дмитрия тулуп.
– Хватит, Максим Егорыч, хватит. Спасибо!
– Пропотеть ты должен, как следует пропотеть! – настойчиво повторял маячник и, отвернувшись, неприметно для Дмитрия наливал в стопку водки и залпом выпивал ее. – Самое главное – пропотеть! И тогда – капут простуде. Сорок годов я ловил, шесть раз в относе был, – знаю, как выгонять эту хворобу...
Налив в ладонь водки с уксусом, Егорыч начинал растирать крупное мускулистое тело ловца.
– И как же это вы такой штормяк проспали? И лошадь, говоришь, предупреждала? Э-эх, ловцы!.. Сказано же в ловецком евангелии: море и кормит, оно же и топит... Бросать надо было все и скакать ко мне... А шкура твоя вся в ссадинах, будто удочками кто драл.
Дмитрий хрипел, жаловался на одежду, которая, обмерзнув, ободрала его тело.
– Давай спину! – покрикивал Егорыч.
Руки его ловко ходили по ладной спине молодого ловца; спина у Дмитрия добротная – в аршин шириною, около лопаток катались бугристые мускулы.
– Эх, судаки-дураки! – ворчал маячник. – Забыли ловецкую присказку: лошадь на льду копытом бьет – беда идет... Э-эх, ловцы, что за ловцы!
Маячник снова наливал в ладонь водку и уксус.
– Повернись! – и плескал. холодной едкой влагой на грудь Дмитрия.
Он старательно водил руками по, прочной груди ловца, которая была неподатлива и туга, точно засмоленный борт морской посудины.
Старичок то и дело поворачивался к окну и, казалось, пристально следил за песками, что струились тонкими серыми прядями среди стремительно бегущих холстин снега. Он видел, как над Каспием опять потянул ветер, высоко взбрасывая, освободившиеся ото льда воды.
Как и на заре во время шургана, снова дрожит его ветхая примаячная сторожка, и над нею гулко скрипят под напором ветра стропила.
Дмитрий уже полдня лежит в сторожке Егорыча.
Он не ожидал, что так необычно ласково примет его маячник. Раньше Дмитрий слышал от Глуши, что ее отец знает о том, что она сблизилась с Дмитрием, и не один раз грозил выпороть дочь, оттаскать за косы. Да и сам Егорыч как-то предупреждал ловца, чтобы не приставал он к Глуше, не заводил смуты в семье...
И вот, спасаясь от страшного относа, Дмитрий прибежал к маяку и долго не осмеливался войти в эту сторожку. Обмерзший и разбитый, он припадал к окну, прислонялся к двери и наконец, не выдержав, беспомощно опустился на приступок у входа и стал скрести дверь.
Что же не прогнал Егорыч Дмитрия?..
Не помнит он, как маячник втащил его в сторожку и оттер водкой, привел в чувство.
Приметил ловец, что маячник почему-то много и охотно говорит с ним, суетится, ухаживает.
И, ободренный ласковым приемом Егорыча, ловец пытался заговорить с ним о Глуше, но каждый раз, как только произносил он имя его дочери, старичок, будто ничего не слыша, убегал то к печке, то к сундучку.
Вот и сейчас Дмитрий едва слышно сказал:
– Глуша, верно, волнуется...
– Ой, чай кипит! – притворно забеспокоился маячник и заспешил к печке. – Плотней прикройся тулупом-то!
– Глуша-то, верно, соскучилась... – еще раз, нарочито громко сказал Дмитрий и замолчал, намеренно не досказав, по ком соскучилась Глуша.
– Что? А? Как ты говоришь? – лукавил Егорыч, прикладывая к уху сложенную трубочкой ладонь.
– Глуша, говорю...
– Чего это? – хитрил маячник. – Недослышивать я стал, за шестьдесят годов мне уже перекатило.
Помешав в котелке чай, маячник снова заспешил к сундучку; он отпирал его уже несколько раз маленьким светлым ключиком, который висел у него на пояске из хребтины.
– Раздел я тебя до костей, а одеть-то и не во что! – Он приподнимал крышку и начинал быстро перебирать содержимое сундучка.
– Спасибо, Максим Егорыч. Скоро одежа моя высохнет.
– Не знаю, во что мне тебя и одеть... Есть вот у меня смертная рубаха да сподники. И жалко вроде, и грех, пожалуй, – к смерти ведь готовил!
Он поднялся и развернул желтые рубаху и штаны, густо пересыпанные махоркой.
– Спасибо, Максим Егорыч!
– Одеться надо, а то зайдет, может, кто – неудобно эдак!
Дмитрий подумал:
«Чего-то хитрит старикан», – и громко спросил, стараясь выведать тайну маячника:
– А кто может зайти сюда? Островок отсюда верст пятнадцать, а ближе как на тридцать – и никакого другого жилья нет!
Старичок опустил на колени рубаху, нахмурился и обидчиво произнес:
– Ко мне ловцы часто заезжают, и бабы тоже.
Егорыч посмотрел на Дмитрия хитро прищуренным глазом:
– А может, дочка приедет...
– Глуша? – радостно приподнялся Дмитрий. – Глуша, говоришь, Максим Егорыч, приедет?!
– А? Чего ты сказал? – заюлил маячник. – Недослышивать я стал... А? Что?
Он бросил на сундучок белье.
– Эх, чай убежит! – и метнулся к печке.
Вытащив котелок, маячник составил его на пол, затем, опустив веревку, придвинул ее с одеждой ловца ближе к огню.
– Как бы не спалить твои штаны! – и воровато взглянул из-за одежды на ловца.
Дмитрий чему-то улыбался.
– Э-эх, вы, ловцы! – снова заговорил маячник. – Штормовой норд вверх дном море перевернул, а они дрыхли! Известно: раз рыбу ловишь, значит при смерти ходишь! Беречься надо было, глядеть в оба... Э-эх, вы!.. Никудышные вы с Васькой Сазаном ловцы. И справы-то у вас своей нет, на рыбников – на живоглотов работаете.
Дмитрий нетерпеливо завозился на постели. «Брось, Максим Егорыч, рыбу учить плавать», – недовольно подумал он.
– Я бывало всегда имел свою справу. – Егорыч то подносил одежду ловца ближе к огню, то отстранял ее. – Всего один год на рыбников работал, а потом – каюк, довольно! И сорок годов самостоятельным ловцом был. Никак не признавал рыбников. Ну, понятно, улов сдавал живоглотам, потому что казна не занималась приемкой рыбы, а ежели б занималась – ни фунта, ни рыбины не сдал бы хапунам.
Он подходил к окну и подолгу, молчаливо глядел на прибрежье.
Ветер крепчал и, срывая с песков снег, попрежнему бросал его в стекла. Стропила маяка, туго пошатываясь, скрипели над сторожкой все громче и тоскливей...
Маячник снова возился у печки, потом подходил к столику, наливал водку и быстро опрокидывал стопку.
– Ежели и беда случалась, – продолжал говорить он, – и тогда я не шел внаем. Крал, а не шел!.. Обловом запретных вод занимался, по чужим сетям плавал, а в наем – никак!.. Обижал я не своего брата-ловца, а рыбника, живоглота, – плавал по его сетям, а не по ловецким.
Он взглянул на икону и торопливо перекрестился:
– И господь-бог простит меня. Свое я крал, наше, ловецкое... Живоглот у ловца крал, а я у него! – Он снова быстро перекрестился. – Расскажу вот тебе всю правду-матку о живоглотах.
Голос его осекся, и он шепотом произнес:
– Вроде убил я одного субчика-голубчика...
Егорыч пододвинул ногой табурет к печке, сел и, свернув цыгарку, густо задымил махоркой.
– Приехал я на Каспий годов сорок назад. Жили мы в Тамбовской епархии и землю пахали. А земли было – только лечь да протянуться... Жили, значит, богато и не каждый день трудились поесть досыта. А тут подати подошли до горла. Туда-сюда, так и эдак, – описали у нас лошадь! Коровы нет у хлебопашца – полбеды, а ежели коня нет – тут уж полная беда. Ложись живым в гроб и помирай!.. Как раз с нашей деревни собирались мужики идти на Каспий, на рыбные промысла. Ну и я с ними увязался... А в деревне отец с матерью, сестренка с брательником да жена остались дожидаться меня к весне с деньгами... Нанялся я к одному «кормильцу», в море пошел и скоро приспособился к новой работе. Зимой тоже ходил в море – за белорыбицей... Работаю, а денег у хозяина не беру: пусть, думаю, растут до сотни, а потом сразу всё заберу – и в деревню! После передумал и так решил: нечего в деревне делать, выписать надо на Каспий всю семью и жить тут. Работать-то на море, известно, трудно и опасно, смерть подкарауливает ловца изо дня в день, а все же привольней жить здесь, и заработать можно. Посоветовался я со своим живоглотом, он и говорит: «Правильно, Максим, и я помогу тебе стать на ноги...» Хотел я полсотню целковых послать в деревню, а он отсоветовал: «Беречь деньги, Максим, надо. Пошли десятку, и хватит!..» Едва выклянчил я у кормильца двадцать целковых...
Дмитрий видел, как шевелятся у старичка седые бородка, усы, и то расходится, то сжимается вокруг рта ржавый, обкуренный махоркой кружочек.
– Ну, кончилась весенняя путина, жду семью. Думаю себе: рассчитаюсь теперь с хозяином, получу целковых полтораста. Восемь месяцев работал!.. Начали мы счета подводить. Хозяин щелк-щелк на счетах: за харч – вычет, за жилье – вычет, за порванный пароходом невод – вычет... и подходило к тому, что приходится мне вроде чистый нечет. Вот как!.. Замутилось у меня в голове, задрожал я весь. Как же так получается? Пять ртов скоро приедут, а у меня не только на хозяйство денег нету, а даже и на прокорм... Не стерпел я, схватил счеты – большенные такие, тяжелые – да как хрясну по живоглотской башке!.. И убёг из каюты. А были мы в то время в городе, у рыбных лабазов. Так и не знаю по сей день—насмерть или как хряснул я моего кормильца...
Маячник вскинул робкий взгляд на икону и, быстро крестясь, прошептал:
– А ежели и насмерть, и за это господь-бог простит. Потому простит, что за правду я...
В стены сторожки громко ударил ветер. Стекла в окнах зазвенели. Маяк грозно загудел стропилами.
Старичок поспешно подвинул табурет к кровати и наклонился к ловцу:
– Смотри, малый, мою жизнь!.. После этого живоглота я под Гурьев подался, а со мною и вся семья. Без рубля ехали, голодали, сестренка на пароходе померла... Отец пристроился в сторожа на промысле, а я на лов пошел. Относ тут хватил меня, чуть ли не месяц мотало на льдине по Каспию, а потом долго я в больнице лежал.
«Вот и с Васькой так, может, – тревожно подумал Дмитрий. – Где он теперь?..»
Ловец приподнялся на локте и жалостливо посмотрел на старичка.
– Вернулся я домой на клюшках, – ноги малость поморозило, а матери в живых нет, заплакалась она обо мне, загрустилась... Отец восемь целковых в месяц получал, а я лежал в постели. И опять впроголодь жили мы. А тут холера случилась, брательник помер.
Егорыч жадно то и дело тянул цыгарку.
– И отец не так, как следует, помер... Караулил он промысел одного живоглота. Ночью явился этот самый Фома Мартыныч проверку делать, а отец заснул, – старику уже было под семьдесят. Как на грех, живоглот воров приметил, снимали они с вешалов рыбу. А отец спал и ничего не слышал. Разогнал хозяин воров и к отцу подошел, а он спит себе, прикурнул к стенке амбара... Живоглот окликнул, а он все спит. Разозлился живоглот и что есть силы пнул отца ногою в грудь. Отец захлебнулся кровью да так и помер, не просыпаясь. Начал я судиться с этим хозяйчиком, да разве осилишь его?..
Ветер то порывисто налетал на сторожку, сотрясая ее, то затихал и осторожно шуршал по стене, словно жалея и гладя ее холодными, жесткими лапами.
– Выправился я кое-как после относа – и опять на лов, а тут штормяк подкараулил меня, посудину разбил... Эх, думаю, как же жить-то?.. Подумал, погадал и решил: дальше моря – меньше горя. И поплыли мы в Баку, на нефтяные промысла. А там народищу больше, чем в нашем Каспии сельдей! И работы никакой... Хватанули мы горя там погорше морского, и айда обратно под Гурьев... Нет, думаю, сеть да весло – неплохое ремесло. Опять начал я к лову пристраиваться, а скоро и фарт подвалил – жена на коптилку рыбы устроилась... Два года маячили мы с ней в нужде, а потом на поправку дело пошло. Глуша в эту пору родилась. И вдруг – на тебе! – жена на коптилке опалилась. Платок от огня на голове вспыхнул: волосы хватило, а лицо черное стало. Лечил я ее. Хозяина коптилки в оборот взял: давай, мол, денег на лечение!.. Не дал ни копейки. Так и не сумел я отправить жену к докторам в город. Отправил в могилу... Видишь, малый, какая жизнь была!..