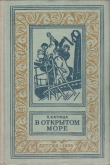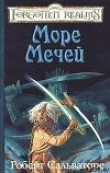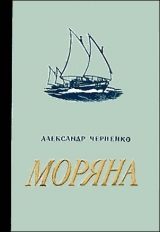
Текст книги "Моряна"
Автор книги: Александр Черненко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Яков вспомнил, что недавно он и Сенька снова собирались у Дмитрия Казака и порешили, не дожидаясь из района Буркина, выходить на лов.
«А может, зря мы поспешили? – с тревогой подумал он. – А вдруг Григорий Иваныч и Андрей Палыч с кредитами для артели вернутся?!»
Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, Яков через плечо посмотрел на отцовский двор.
Трофим Игнатьевич вышел на улицу и, опершись плечом о косяк калитки, нещадно дымил трубкой.
– У-у!.. Жадина!.. – прохрипел Яков и быстрее зашагал к Сенькиному дому. – Все одно не пойду на поклон! Обожду еще день-другой. Ежели не пришлешь и попорченной справы – к Захару Минаичу, а то и к Алексею Фаддеичу в паи попрошусь, а к себе с поклоном не жди! Все одно не пойду!
И когда Яков свернул в проулок, нагнал его приезжий человек.
– Здорово еще раз, ловец-молодец! – весело приветствовал он Якова и, подмигнув, щелкнул портсигаром: – Закуривай, дружище!
Яков отступил и, недовольно взглянув на неведомого человека, прошел мимо.
«И откуда такой появился?» – недружелюбно подумал Турка о незнакомце и вдруг спохватился, припоминая, что он где-то встречался с ним давным-давно.
Оглянувшись, Яков увидел, как приезжий, попыхивая папиросой, свернул за угол.
– Тот самый! – вспомнил Турка. – В конторе у Полевого работал!..
Яков слышал, что Полевой, у которого батька часто брал под улов деньги, уже давно арестован в городе.
«А чего этому у нас надо? – И он еще быстрее зашагал к Сенькиному дому. – Здорово отчитал его дедушка Ваня. Ка-ак он его!..»
Глава седьмая
Древний дед подсказывал ловцам забытое, напоминал о прошлой вотчине, о промысловой барщине...
Давным-давно это было, не сосчитать и не объять памятью прошедшего.
Сам дедушка Ваня, да и другие ловцы полагали за ним полную сотню годов, но правильного счета никто не ведал. Ежели и сейчас спросить, сколько дед прожил на белом свете, то так же, как и пять и десять годов назад, древний ловец ответит одинаково: «Кажись, сотка, милый, а может, и больше...»
Смолоду он был кудряв и смугл, удалой плясун и песенник, лишь одна кручина – отца и матушки не помнил. Только люди сказывали, будто родитель его, не стерпев неволи у графа Протасова, учинил в подмосковной усадьбе бунт, за что и угнан был на Иртыш-реку; будто родительница его, в назидание холопам, была отнята от малого Ванюшки и подарена старым графом проходившему солдату, и увел ее тот отставной барабанщик куда-то под Новгород...
Сызмала Иван ходил за скотом на графских дворах, а к пятнадцати годам выдался Ванюшка в дюжего, коренастого паренька. И как раз в ту пору умер старый Протасов-граф. Понаехали из Москвы графские родичи, послужили панихиды, пожили, покутили в усадьбе и запродали ее вместе с крепостными соседнему дворянину. А тот, отобрав себе что понужнее, остатки перепродал дальше.
И пошел дворовый молодец Иван мыкаться от барина к барину, из имения в имение, пока не попал к его благородию – молодому помещику Губатову.
Прослышал Губатов про густые богатства нижней Волги, девяносто устьев которой кишмя-кишели рыбой, соблазнился даровой поживой и порешил перебраться в рыбный поволжский город. Отобрал он из дворовых людишек пятерых молодцов, остальных же и все прочее хозяйство распродал, сел в возок и покатил на Волгу.
В рыбном городе молодой Губатов перво-наперво принял чин и должность в канцелярии генерал-губернатора, а привезенных крепостных людей отдал в наем купцу-рыбнику.
Вскоре отрядил бравого служаку губернатор на взморье – учреждать нерушимые порядки, а будь там какие людишки окажутся, ставить пойманных в царев и божеский закон. В первый же день напал губернаторов законник на семь курных шалашей, притулившихся в камышах на песчаной проложине. Лихой барин, пересчитав плетью людей, разведал, что сидят в камышовом царстве беглые от именитых тамбовских господ.
Веселый Губатов размилостивился и объявил неизвестный дотоле поселок своей вотчиной.
На радостях он гульнул и, захмелев от браги, приказал беглым петь песни хотя бы про то:
Как на Волге-реке, в конце матушки,
Да дремуч камыш там, ребятушки, —
Эх ты, воля моя,
Эх ты, доля моя...
Народ песни сквозь слезы тянет, а барину – хаханьки.
Повелел его благородие на прощанье людям обживать хорошенько берега и все окружные воды и, довольный, повез царев закон по другим местам.
В те стародавние времена далеко слава великая шла вместе с песней горькою про понизовскую Волгу-матушку, про волю-волюшку... И на ту песню до богатого моря Каспийского шел со всех концов острожной Руси разноязыкий и безродный люд. Бежали сюда крепостные от барщины, служивые от царевой службы, бежали и те, кто провинился или ослушался барина, кому грозили смертная порка, острог, кандальная Сибирь... Тянулись на взморское приволье еще беглые каторжники, невольники, не знавшие ни роду, ни племени шатуны, бродяги, беспутные. Пробирались сюда и гонимые церковью православной братья старой веры... Однако же больше всего бежало на Волгу крепостного люда, коему постыл свет божий, суд царев да милость господская. И с котомкой также несли они думки свои: чем на барщине да с плачем жить, так уж лучше на просторе да с вольной песней помереть.
И всех принимала она, матушка-Волга, всех поила-кормила, всех скрывала в своих непролазных камышовых чащобах.
Селились беглые далеко от купеческого города – на самом выкате Волги в Каспий, иные забивались далеко в степи по берегам ильменей и волжских протоков; мастерили утлые челны, ходили добывать пищу – глушили палками рыбу и поджигали камыш, где жировал кабан.
Схоронившись в приморских камышах и никого вокруг не видя, люди спервоначалу радовались, что наконец-то они вольны, как птицы, наконец-то объявилась их заветная, счастливая доля.
Иной год только беспокоили кочевники, и тогда народ забивался все дальше и глубже в камыш...
Следом за трудовым людом поспевали на Волгу разные князья, графы, вотчинники, казенные правители, вроде Губатова. Всякий из них со своей ухваткой стал задерживать и ловить бежавших крепостных, обращая их на пользу хозяйскую да цареву. Еще издавна было повелено всемилостивейшей треклятой царицей Екатериной задержанных беглых, которым полюбилось жить в поволжском понизовье, бить батогами не ниже трех раз и, кто сознавался, высылать обратно к помещикам, а которые не знали ни своего барина, ни имени, ни того, где рождены, – тех приписывать к казенным вотчинам и оставлять при рыбных промыслах.
– Воля холопов портит, – таков был указ, – а неволя учит...
Рачительные хозяева и правители рыбного города, охотясь на вольных людей, приписывали их без хлопот не к казенным местам, а поближе, к своим. По их примеру поступил и Губатов, открыв в приморье неизвестный дотоле поселок с двадцатью четырьмя безродными людьми; присоединил он к ним еще взятых от купца пятерых своих крепостных, – тут-то и вышел Ивану ловецкий путь.
Но где ветер да море, там тоже неволя. Оказалось, что и тут нет доли, и тут нет житья. Слышно было, как песни пели, да не слышно было, как волком выли...
А раз уже довелось хлебнуть соленой воли, люди сызнова бежали из вотчины; одни селились в самой прикаспийской глуши, куда ни пройти, ни проехать, другие бежали куда песня вела: в степи, на кубанскую сторону, за Яик.
Побежал и Иван из губатовской вотчины, но у беглеца одна дорога – куда глаза глядят! И его скоро словили. На порке он не признался, какого хозяина человек, а объявился Иваном, не помнящим роду-племени, и тут его приписали к казенной вотчине. Недолго маялся Иван – и отсюда бежал он. Может, гнала его бунтовская кровь отца, или та песня о дремучих камышах не давала ему покоя, – четыре раза бывал Иван в бегах и каждый раз попадал на цареву стражу.
«Видать, на роду написано», – горестно думал он.
Долго маялся Иван на государевом промысле, где только песня помогала коротать работу. И вдруг удивил однажды необычайной своей силой купца-рыбника, заехавшего в гости к промысловому приказчику.
В ту пору Ивану было уже годов двадцать пять. Широкоплечий, загорелый, носил он в себе дикую, первобытную силу. И похвалялся им приказчик купцу:
– Во сила так сила! Самого чорта на лопатки, не дай бог!..
И приказывал Ивану показать силу.
На спину Ивану взгромождали днищем вверх посудину, и, чуть сгибаясь под нею, он легко проходил по берегу с десяток саженей, потом подымал огромный чан с рыбой, сдвигал одним плечом забор с места, вырывал из земли ветлу с корнем.
Удивленный тороватый купец выменял Ивана у приказчика за ласковую заморскую собачонку, ученую плясать на всех лапках. Как раз в те времена купцы начинали забирать силу: по-всякому промышляли они себе людей на промыслы, принимали даже беглых – песенный народ.
Вскоре Иванов купец стал снаряжать своих людей в первый поход на кипучее море: метил он послать с ними и нового работника. Тогда-то, около сотни годов назад, лов проводили только в низовьях Волги, в изобилии вылавливая красную рыбу: осетра, севрюгу, белугу. Лишь немногие отваживались в те годы выбегать на глуби Каспия, да и незачем было – рыба так густо шла по волжским протокам, что порою даже сеть не выдерживала ее и рвалась, а воткнутый в косяк шест проплывал стоймя по реке многие-многие версты... Но тут купцы широко наладили переправу рыбы в российские города, да и народу прибавилось на Волге изрядно. В протоках и ериках красной рыбы не стало хватать на всех ловцов. Хотя и ловили, кроме этой благородной, на барский стол, рыбы, еще и частиковую – судака, селедку, сазана, леща, воблу, – однако употребляли ее больше на жиротопление. Но Иванов хозяин и эту рыбу начал продвигать на московские и прочие базары. А людей все прибавлялось и прибавлялось, – так уж исстари повелось:
Волга, Волга, мать родная,
Принимай-ка беглеца...
Тогда в погоне за большим уловом люди всё чаще и чаще стали ходить в море, исподволь привыкая к нему.
В первый же глубьевой поход Иван сбежал с купеческого промысла. Продравшись сквозь дремучие камышовые заломы в самую дальнюю часть приморья, что сходилась с пустынными горячими степями, он забился в тихий, глухой култук, где и нашел под конец свою нескладную долю... Сладил он из камыша шалаш, сбил ладью, а вскоре и повстречался здесь, на самом краю света, с такими же, как он, беглыми, – беда не ходит одна. И повенчался вокруг ветлы Иван с Дарьей, что была трижды венчана, а с мужем не живала...
Много ли, мало ли годов после этого кануло в воду – Иван не помнит; только поползла однажды по упрятанным в камышах поселкам молва о том, что будто вышла на русской державе крестьянам воля. Но каковы веки, таковы и человеки: не поверил Иван тому, не поверили и люди, с которыми жил он теперь уже в шестнадцати шалашах, никуда особо далеко не выезжая. Кругом вода, а посередине остров да беда... Но молва про волю шла настойчиво.
Как-то раз пробился Иван сквозь камышовую крепь в обширный, многоводный проток – и диву дался, когда увидел два поселка, открыто стоявших на ближних буграх.
Расспросил Иван людей – и действительно, уже сколько годов назад была дана крепостным воля. А вслед за этим обнародовали в Прикаспии и рыболовный устав, что уничтожил промысловую барщину и основал вольный билетный лов.
Приметил еще бородатый Иван наново выстроенные промыслы; увидел и то, что селедку, которой поначалу брезговали, считая бешеной рыбой за ее буйный, в миллионы голов, ход, теперь солили и несчетными тысячами бочонков отправляли в верховья Волги...
А вскоре по протокам зашумели и суда-самоходы: баркасы, буксиры, пароходы.
Пожил-пожил Иван в новой жизни, и обернулась воля неволей.
Как и по всей Руси земля оставалась у помещиков, о чем сказывали все прибывавшие на Волгу крестьяне, так и здесь после обнародования рыбного устава все водные угодья оставались у купцов, у казны, у монастырей.
По уловищам разъезжала стража, оберегая хозяйские воды. За самовольный лов людей сажали в кутузки, отбирали сбрую. Негде было развернуться ловцам, приходилось идти в кабалу или к барину, или к казне.
А безземельный народ, у кого добра всего трубка да песня – из-под Тамбова, Пензы, Твери, Воронежа – попрежнему валом-валил в понизовья Волги, надеясь найти здесь лучшую судьбину... К шестнадцати шалашам, в которых обитали дядя Иван и его товарищи, скоро прибавился еще десяток шалашей, потом другой десяток; после начали рыть землянки, ставить мазанки, а вскоре появились и тесовые избы. И приписали прежний безымянный поселок к волости, назвав его Островком, – да и расположен он был как раз на небольшом песчаном острове, окруженном водою и камышом... А народ со всех концов царства русского не переставая шел на Волгу – кто совсем на житье, кто на знатные заработки, за копеечкой с коньком.
Росли промыслы, ширился лов. Становилось тесно орудовать сетями не только на волжских протоках, а даже и на самом взморье. Ловцы стали выходить еще дальше на глубь Каспия и там встречать рыбные косяки.
Как и прежде, по следу обездоленных пробирались сюда темные дельцы, пройдохи, оскудевшие помещики, провинившиеся генералы, спившиеся чиновники и прочая картежная шатия. Все тянулись к этой золотой рыбной ямине в ненасытной жадобе к легкой наживе.
А вскоре случился на Руси повальный голодный год, который привалил к волжским берегам видимо-невидимо крестьянского люда. И рыболовное хозяйство приморья стало расти быстрее прежнего. Ежели до воли насчитывалась здесь какая-либо полсотня промыслов, то теперь их стало полтысячи. И пошла, завертелась жизнь в Прикаспии! Ловцы не переставая добывали рыбу, везли ее на купеческие промыслы, зарабатывая полные горсти мозолей, а хозяева безостановочно гнали рыбные товары в верховья Волги, на восток и запад России, на Урал и даже к иностранцу.
Все больше становилось пароходов, они днем и ночью бороздили тихие волжские протоки, выходили на Каспий; скоро появились и первые шаланды – морские пловучие промыслы.
На Волге стало круче, чем было до воли. Тогда, в барщину, можно было хоть сбежать да укрыться в непролазных заломах камыша, а теперь и воля будто, и податься некуда. Знай кланяйся купцу да работай поспевай, а кричать, что тяжко, – можно только в песне.
Особо сильную власть имели над ловцами скупщики, которые исподволь выходили в именитых купцов, рыбопромышленников, пароходчиков.
Снабжая ловца сетями, хлебом, билетом на право лова, водкой, скупщик так забирал его в свои лапы, что ловец до конца дней своих не мог свободно дохнуть.
За кредиты, которые выдавались под улов, ловец сдавал своему благодетелю рыбу по заранее установленной цене, которая обычно оказывалась ниже рыночной. И как бы ни был хорош улов, ловец всегда, хоть малой долей, оставался в долгу у скупщика. А не то случался пролов или другая незадача с путиной, – благодетель милостиво обещал потерпеть, откладывая долги до следующей путины, суля новые кредиты и ублажая ловца водкой, чтобы отвел он душу, не горевал.
«Да и не вечно же горевать! – думалось Ивану. – Бывали всякие бывалости. Да и что говорить: на воде жить, на воде и голову сложить».
Так же говорили и люди из города – пароходские матросы, грузчики, разные мастеровые...
Сказывали, что был это девятьсот пятый год, когда вдруг зашумел в городах фабричный люд, с дубьем и вилами поднялась крестьянская Русь, – тогда Иван, уже дед, вместе с ловцами пытался разделаться с промысловыми хозяевами. Но правители города наслали в приморье казацкие сотни, нагайками разогнали ловцов на посудины и приказали: «Ходи в море и там бушуй!..»
Так и провековал Иван в людях век, подкрепляя своим горбом купеческие миллионы. Немало было в те времена таких рук, как у деда Вани, которыми хозяева наращивали звонкий рубль на потной копейке.
И век отжил Иван – и в руках ничего. Зато в чужих руках росли богатые промыслы, купцы строили каменные, по нескольку этажей, дома, воздвигали многоглавые церкви. Иван же только и смог, что переменил камышовый шалаш на однооконную мазанку.
Все мыкаясь по морю за фартом в надежде на лучшую долю, дожил он и до сутулой старости, что согнула его спину, свела ноги. И теперь не упомнить деду, когда умерла его Дарья, и сын Степан, и внучка Фрося.
Будто вовсе отвековал Иван, так и не дождавшись отрады. Но бегучее время растит других сынов и внучат. И встретил ту волю, про которую пели целые века, уже древний дедушка Ваня. Да только посмотреть ее по-настоящему не довелось ему. Всего и успел взглянуть на то, как ловцы, прослышав, что под конец-то скинули окаянного царя-батюшку с престола, побросали лов и истово гаркнули: «Вали сплеча!» – и ладно забушевали, изничтожая стражников, выгоняя с промыслов и поселков купцов, приказчиков, скупщиков. А вскоре ловцы послали в город двадцать семь отборных ребят на помощь рабочему люду, что заперся в крепости от восставшего казачьего офицерства... Потом нагрянули в приморье белые казаки. Ловцы свое: «Была не была!» – и в схватку с ними. Из города вышли на подмогу мастеровые – красногвардейцы. И пошла по всему каспийскому поморью битва...
Тут-то и стряслась с дедушкой напасть: пропало солнце навеки, перестали видеть дедовы глаза. Случилось это так. Ловил дедушка Ваня неподалеку от Островка: глубже на море опасно было забираться – там, говорили, разъезжают белые казачьи отряды. Были с дедом и еще ловцы. Перед вечером на уловище наскочил казачий баркас. Согнали казаки ловцов на берег, отобрали посудины, сетку. Старикам велели по воде пешими пробираться, а молодых оставили себе. «В наше войско пойдут!» – заявил о молодых казачий начальник. Но старики вместе с молодыми наперекор выступили. А начальник в ответ: «Гони всех на промысел!..» Полную ночь мерз дедушка Ваня в ледяных выходах на промысле, где хранили присоленные рыбные товары: чуть не окостенел он вместе с рыбой в набитых льдом выходах. Наутро над дедом смилостивились и выпустили из подвалов. Решил он как-нибудь добраться до Островка. И только вышел за промысел, как вдруг остановился и обмер.
В двадцати шагах от него шевелился бугор.
– Что за притча? – и дедушка протер глаза.
Шепча молитву, дед подошел ближе. Подняв валявшийся возле обломок весла, он начал осторожно разгребать свежую глиняную насыпь. Откуда-то из-под земли исходили человеческие стоны.
Не переставая шептать молитву, дедушка поспешно разбрасывал веслом с двигавшейся насыпи глину. Не успел он поглубже раскопать холм, как вдруг из него поползли в разные стороны, изуродованные и все в крови, недобитые казаками ловцы, что вчера отказались идти под их команду.
Ловцы всё ползли и стонали; иные пробовали приподняться, но тут же падали и опять ползли.
А дедушка, отступая, закрыл ладонью глаза, и когда отвел от лица руку, то уже солнца – как не было, багровая пелена заложила вольный свет, словно та кровь, которой истекали ловцы, сожгла его глаза.
С тех пор и не видит дед...
Но еще чуют землю ноги, слышат уши море, и цепко хватают сетку руки, хоть и ноют кости.
– Эх, кабы глазоньки были целы, – часто сокрушался дед. – Глянуть бы мне на мир нонешний – бесцаревый... Чую душою новую жизнь, а охота вот еще глазоньками глянуть. – И подолгу безутешно плакал, но и слез уже не было у слепого ловца, плакал он тихо и молча, одним сердцем. – Глазоньки вы мои!..
И сейчас, слыша, как идут с песнями под гармошку парни и девчата по берегу, дед одиноко сидел на пороге, вытирал сухие незрячие глаза.
– Вот и волюшка золотая, а глазоньки не видят ее.
Гулянье девчат и парней снова и снова наводило его на мысли о том, как молодой Губатов разлучил кудрявого Ивана с первой любимой, как Протасов-граф разбросал его, Иванова, отца и мать по разным местам и как один, круглой сиротой, мыкался Иван сызмала по вотчинам.
– Вот она, прежняя-то, с достатком да со всем вдосталь жизнь! – как бы отвечая кому-то, взволнованно прошептал слепой ловец, прислушиваясь к задорным голосам, что неслись уже с задов Островка, где гуляли перед выходом в море парни с девчатами.
И в самом деле: им и непогода нипочем, и туманы, что еще вместе с сумерками хлынули на Островок. И настолько был густ этот белесый, со стылою влагой туман, что, казалось, поселок затопили высоко поднявшиеся воды Каспия. Молодые ловцы и рыбачки двигались медленно, чуть ли не ощупью, напоминая собою черные тени.
Было пронзительно зябко.
Но недолго качались туманы над Островком: вскоре набежал легкий, с теплынью, зюйд-ост; свертывая полог тумана и приземляя, ветер погнал его в сторону камышей и дальше – в степи.
А потом выплыл молодой и тонкий, как изогнувшаяся стерлядка, месяц; вслед за ним по густосинему небу, похожему на затихшее предвечеровое море, зароились тысячи и тысячи звезд, словно шли куда-то по синему океану неба несчетные косяки рыбы.
Все крепчая, зюйд-ост навалисто и мерно поплыл, разливая по приморью пахучую свежесть Каспия. Сумерки все сгущались, переходя в черную, смолистую ночь, а вместе с нею приплывали с моря и грозные, тяжелые тучи, но зюйд-ост быстро пронес их дальше в верховья Волги. И опять просветлело небо; и опять в нем ярко задрожали, заискрились звезды.
Островок, залитый тягучим, просоленным ветром, беспечно дремал. Только где-то на краю поселка все приглушенно стонала саратовская гармонь с колокольчиками. Тоскливые звуки медленно плыли над берегом, уходя все дальше и дальше в приморские просторы. Но вот гармонь, как бы широко дохнув, залихватски рванула переборы во все лады, а потом опять стала тужить, расслабленно позванивая колокольчиками.
Негромкий голос грустно тянул:
Скоро в море мы уйдем,
Прощай девки, прощай дом.
Могучий голос подхватывал:
Взброшу парус, флаг откину —
На три месяца вспокину.
И так, то один, то другой, тянули задушевные волжские припевы о том, что любимая, оставшись дома, не должна горевать да плакать по ловцу, а то накличет беду; пели и про то, как ловец встретит в море косяк и нальет рыбой полным-полнехонько свою посудину.
Долгое время кружили припевы во влажной, ветровой ночи. В припевах чудились грусть и тихий ропот на тяжелый ловецкий труд, жалоба на крутую ловецкую судьбину, на ветры и волны, что подстерегают ловца на каждом шагу. А потом под гармошку похвалялись:
Был я в море на волнах,
Видел чорта в кандалах.
Уже совсем тихо тужила гармонь, и никто не подпевал, как вдруг, точно желая продлить припевы, торжественно протрубил в вышине лебедь.
В это время из-за шишей камыша показались парни и девчата; впереди шел краснощековский Илья с гармонью подмышкой.
– Зайдемте к Митьке Казаку, – позвала Мария, Туркина дочка.
– Лихоманка его мутит, – неохотно предупредил Тимофей Зимин. – С относа простыл он наскрозь.
Тимофей хотел было свернуть в проулок, чтобы уйти домой, – ему надоела гулянка, его донимали мысли о выходе в море.
Заметив, что Тимофей намеревается отстать и уйти домой, парни взяли его в кольцо, а Илья задористо сказал:
– Сегодня гульнем, а завтра, может, в море все ударимся!
«Все, да не все, – угрюмо подумал Тимофей. – Кто ударится, а кто и вслед поглядит».
– Брось, Тимоха!
– Зайдемте за Зинкой!
– Нюрки еще нету!
– Агафьи тоже!
Вошли в узенькую, кривую улочку, и когда Илья снова ударил в гармонь, парни громко запели:
Камыш палят, камыш жгут,
Нас девчонки давно ждут!
И как бы в ответ им тоненько прозвучал девичий голосок:
А я вышла, вышла, вышла, —
Саратовску гармонь слышно.
Кирюха Цыганенок, в огромной шапке, выскочил вперед и ладно подзадорил:
А я парень – грудь горой,
Девки щучатся за мной!
Из-за угла дома Андрея Палыча вышли девчата, – шли они шеренгой, в обнимку. И когда поровнялись с парнями, Зинаида, подбоченясь, трогательно запела:
Черны глазоньки с отливом,
Сама пахну черносливом...
Девчата толкнули Зинаиду к парням; ее подхватил Цыганенок. В это время кто-то подставил Кирюхе подножку, – он упал, на него повалилась Зинаида.
– Куча мала!
– Мала-а-а!..
Воспользовавшись суматохой, Тимофей незаметно скрылся за угол.
Крики и смех ненадолго оживили Островок, и как только успокоилась молодежь, поселок опять заполонила пустынная глушь.
Впереди шли попарно Илья и Мария, за ними – Цыганенок и Зинаида, остальные двигались позади гурьбой, тихо посмеиваясь и перешептываясь.
– Эх, Сеньки нету! – пожалел кто-то из парней.
– А чего он тебе? – и Зинаида обернулась, пристально оглядывая ребят.
– И тебе бы за гулянку всыпал, и нам с ним веселей!..
Парни рассмеялись, а Зинаида не то шутя, не то серьезно ответила:
– Он к нам сватьев еще не засылал, а стало быть, и всыпать руки коротки.
На платочке, в уголочке,
Желта канареечка,
Я сама свому миленку
Стала лиходеечка.
Это пела Зинаида, подхватив Цыганенка под руку.
Когда проходили мимо мазанки дедушки Вани и заметили на пороге одинокого древнего ловца, все остановились и разом, дружно сказали:
– Добрый вечер, деда!
Слепой ловец слегка качнул головой:
– Добра ночь, ребятки-девчатки!
– Не спится, деда? – нагибаясь к нему, участливо спросил Цыганенок.
– Не спится, паренек. Никак не спится... Косточки ноют. Так ноют, хоть отломи да брось иль живой в могилу залазь.
Опираясь о плечо Цыганенка, Зинаида попросила:
– Загадай нам, деда, загадку!
Вытянув кривые, изуродованные простудой ноги, дед сказал:
– И крылья есть, а не летает, и без ног, а не догонишь.
Все задумались.
– Аэроплан! – отозвался Илья.
Отрицательно покачав головой, древний ловец повторил загадку.
– Рыба! Рыба! – звонко выкрикнула Зинаида.
– Она и есть, дочка.
– А вот отгадай, деда, – и Зинаида отошла немного в сторону, понизив голос, – кто с тобой говорит?
– Чего ж, дочка Андрей Палыча – Зинуха!
– А кто про аэроплан сказал?
– Илья. Сын Захара Минаича.
– А кто сказал про то, что не спится?
– Ну, будет, Зинуха! – недовольно сказал дед. – Поди, не дурее тебя?
– Ты чего? Обиделся, деда? – Зинаида подошла ближе.
– Нету, – он ласково потрепал нагнувшуюся к нему молодую рыбачку. – Ну, идите своей дорогой. Посмейтесь, пошумите... А то пареньки не седни-завтра в море уйдут, а девчатки горевать останутся.
Илья широко развернул мехи саратовской – гармонь заплакала, а Мария приглушенным, гортанным голосом затянула:
А я выйду на край поля —
Не бежит ли милый с моря...
Улыбаясь, дедушка долго прислушивался к припевам молодежи. Ведь и он когда-то был таким же удалым пареньком, как Кирюха, как Илья... Но парни тогда не певали вот этого припева, что сейчас озорно вскинулся над поселком:
Вместо ладанки, креста,
Милка компас принесла.
Долго еще пела молодежь и о том, что в районе заправляет теперь делами не стражник, а Гришка-рыбак в Совете орудует; похвалялись и тем, что скоро ловцы весла и паруса сменят на моторы, заживут артелью.
И нет, кажется, конца припевам, не дождешься... С трудом разгибая поясницу, дед выпрямился и, приговаривая свое обычное, шагнул в землянку:
– Ноют косточки... Освежить надо...
Достав из-под койки бутыль водки, настоенной на травах, дед опять вышел наружу. Он поднял голову, будто что видел своими черными впадинами глаз, и долго стоял так, прислонившись к косяку.
А ночь выдалась тихая, напоенная пахучими ветровыми запахами. С моря попрежнему тянул тепловатый зюйд-ост.
Глубоко и ровно дышал дед, вбирая бодрые, душистые волны ветра.
– Рассвет, должно, скоро. Освежу косточки и сосну часок-другой.
Присаживаясь на порог, он снял с горлышка бутылки чашечку и опустил в нее указательный палец, чтобы чувствовать меру и не перелить через край.
Только забулькала водка, как ловец насторожился, перестал наливать. Поблизости кто-то находился – у деда тонкое, обостренное чутье.
– Кто тут? – спросил он и снова стал наливать водку.
Отставив бутыль с чашечкой за порог, в землянку, он громче переспросил:
– Кто тут, говорю?
Невдалеке, всего в каком-либо десятке шагов от землянки, кто-то, не в лад переступая ногами, крадучись пробирался на берег.
«Что за человек? И не отзывается...» – подумал дед и, поднимаясь, нашарил в дверях пешню.
– Кто, спрашиваю?
Человек остановился и, словно сразу обледенев, долгое время чернел недвижной глыбой.
Размахивая пешней, дедушка двинулся к протоку, где стоял выдвинутый на песок его кулас; с опаской поглядывая в сторону человека, который, казалось ему, направлялся к куласу, он снова спросил:
– Кто ты, спрашиваю? – и угрожающе поднял пешню.
– Да все я, – недовольно отозвался человек и зашагал к слепому ловцу.
– А-а-а... Лексей, – старик признал Лешку-Матроса и повернул к мазанке. – Чего бродишь по ночам, ровно сазан в мутной воде?
Лешка молчал, переминаясь с ноги на ногу; когда дед опустился на порог, он присел рядом.
«И чего не спит, седая душа?» – сердито подумал Матрос. Он уже несколько раз выходил на берег, надеясь, что вот-вот запрется в своей мазанке дед и тогда он сможет незаметно взять его кулас и быстро – за ночь – съездить в район, чтобы разузнать про дела Андрея Палыча.
– Чего, говорю, бродишь? – и слепой ловец легонько подтолкнул Матроса локтем.
«А так все одно не даст, – думал про свое Лешка. – Лучше и не проси! Украдкой только взять можно».
Подлив в чашечку водки, дедушка в один глоток выпил и, отдуваясь, сказал:
– Хороша калган-трава!
Матрос покосился на деда.
– Может, выпьешь? – предложил слепой ловец.
– Нету... – глухо ответил Матрос.
– Почему так?
– Не до выпивки теперь!
– А что такое?
– На сердце муторно, дедок.
– Вот и выпей чашечку – зальешь горе!
– Не хочу, – Лешка тяжко вздохнул. – И море песком не засыпешь, и горе водкой не зальешь...
– Выпей, прошу! – и дедушка осторожно наполнил чашечку. – Ей-ей, полегчает!
Матрос отвернулся.
– Пей, говорю! – уже сердито сказал слепой.
Лешка молча отвел руку деда в сторону и задумался.
Ои хотел рассказать делу про незадачу с Андреем Палычем, который вот уже как полмесяца уехал в район и от которого нет никаких вестей. Но зная крутой нрав деда и то, как бережет он свою лодку, Матрос не надеялся, что слепой ловец даст ему хотя бы на одну ночь кулас. Поэтому Лешка решил перевести разговор на другое:
– Спрашивал, что закручинился я?.. А чего же мне веселиться-то?! Путина привалила, а подымать рыбу нечем. Ты вот хоть на куласе да кое-как, а таскаешь уже рыбеху. А я и Костя – тут, а Андрей Палыч – в районе...
Лешка взглянул на деда, – тот внимательно слушал его, перебирая худыми и длинными пальцами полы ватника.
– Ну, ну, говори, – заторопил он умолкнувшего Матроса.
А тот все молчал и нерадостно поглядывал на яркий месяц, что обильно рассыпал над Островком свои тончайшие серебряные сети. Небо казалось мирным, заштилевшим морем, а звезды, будто золотые островки, густо раскинулись по нему.
– Смолк, голубь сизокрылый? – и дед уставился на Матроса.
– Да чего говорить, седая твоя душа!.. Дела надо делать!
– Какие дела?
– Такие вот!.. – Матрос вскочил, разрезал рукой воздух, скрипнул зубами.
– Сядь, милай, сядь!