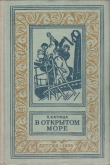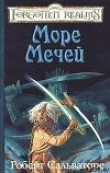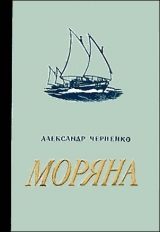
Текст книги "Моряна"
Автор книги: Александр Черненко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Глава девятая
Всю эту ночь, как и прошлые, просидел Дойкин с нежданным гостем из города чуть ли не до рассвета. Давно уже уехал Коржак, ушел старый Турка, куда-то вышел вертлявый Мироныч, на руках унес Илья своего батьку Захара Минаича, у которого внезапно отнялись непослушные ноги. А Дойкин все ходил из угла в угол и поучительно говорил приезжему:
– Напрасно ты, Владимир Сергеич, много насказал при Турке и Краснощекове. Напрасно!.. Люди эти не так уж надежны. Или не видал – даже без ног остался бородач, когда заговорил ты о том...
– О чем? – гость усмехнулся.
– Да как же! – Дойкин многозначительно прищурился.
Приезжий посмотрел на свои холеные белые руки с длинными пальцами и светлорозовыми ногтями.
– А чего я им, Алексей Фаддеич, лишнее, по-твоему, сказал? Что крышка подошла честным людям? Что упрятали чуть ли не полгорода в тюрьму? И что теперь наступает очередь за ними?.. Об этом они и сами знают. Хотя бы из газет!..
– Не то, не то, Владимир Сергеич. Говорил же ты... – Дойкин настороженно взглянул на окно, плотно прикрытое ставнями, – обороняться, мол, надо... готовиться...
– Не дураки же они, в самом деле! – прервал гость. – Сами должны понимать: когда за горло берут, от смерти отбиваться надо.
– Все это так. А болтать-то зря не следовало бы. Да и пора тебе перебраться от Сазанихи. А то заявится нежданно-негаданно твой дружок-то с относа, – Дойкин ухмыльнулся, – и все откроется...
– Еще по одной, что ли, пропустим? – оборвал разговор приезжий и, нагнувшись под стол, достал графин.
Дойкин снова беспокойно зашагал из угла в угол.
– Засиделись мы долговато, Алексей Фаддеич, – взбалтывая настойку в графине и разглядывая ее на свет, сказал гость. – Устал я от этих разговоров... Светать, поди, скоро начнет!
Дойкин догадывался, что приезжий что-то скрывает от него, недоговаривает. Но как ни старался Алексей Фаддеич расположить к себе гостя, выведать его тайны, разузнать планы – все, казалось, было напрасно.
Знал о нем Алексей Фаддеич не так много, но и это немногое заставляло теперь, в такое тревожное время, настораживаться, строить догадки, доискиваться истинных причин его приезда в Островок. Владимир Сергеевич, бывший чиновник царского рыбного надзора, вернулся в город в двадцать четвертом году из-за границы, куда попал после разгрома Врангеля. Имея обширные знакомства в городе по своему значительному в прошлом положению, он был одним из тех редких дельцов, которые сводили рыбников на «дружескую ногу» с отдельными работниками торготдела, финотдела, а чаще всего пытались денежными подношениями добиться увеличения для частников норм заготовок рыбы, снижения налогов... Теперь Владимиру Сергеевичу посчастливилось избежать ареста и удрать из города.
Приехав в Островок с письмом от Георгия Кузьмича, который с осени вместе с другими рыбниками сидел в тюрьме, гость вел себя здесь очень подозрительно.
Дойкин был убежден, что заявился он сюда не только для того, чтобы получить от него те пять тысяч целковых, которые Алексей Фаддеич остался должен Георгию Кузьмичу. Тут было что-то посложнее... Да и сам приезжий изредка кое в чем проговаривался, возбуждая в Алексее Фаддеиче тревожное любопытство.
Один раз гость сказал, что из Островка он намерен поехать под Гурьев, где у него много знакомых богатых баев, у которых до революции были тысячные гурты скота. Есть у него там и знакомые ловцы – уральские казаки, имевшие когда-то свои собственные воды и промыслы. Но спохватившись, гость отделался шуткой – милашка, мол, под Гурьевом его ожидает... А когда в первые дни приезда гость настойчиво напоминал Алексею Фаддеичу быстрее передать ему деньги, то опять проговорился, что деньги нужны на большое дело, и снова перевел беседу на другое – а что, мол, у вас здесь слышно?.. Так было и сейчас – гость увиливал от разговора напрямки, ссылаясь на усталость и поздний час. Запрещая Алексею Фаддеичу встречаться с ним днем, сам он все время проводил на берегу, без умолку балагурил с ловцами, ругал вместе с ними сухопайщину, рыбников и, наоборот, возражал, защищал от нападок власть и только подсмеивался над комиссарами и коммунистами... В это время и закрались у Дойкина сомнения: а не обманным ли путем хочет приезжий выманить у него деньги? Получит тысячи – и пошел скрываться дальше. Но просматривая письмо Георгия Кузьмича, находил, что этого быть не может – писано оно именно им: размашисто, крупно, с нажимом. Такое же письмо с напоминанием о долге в шестьсот рублей получил и старый Турка. Турка нашел у себя случайно сохранившуюся записку Георгия Кузьмича, которую писал ему тот еще два года тому назад; сравнили они почерки – как будто одинаковы... Удивительно было то, что сидит Георгий Кузьмич под стражей, но как-то ухитряется оттуда вести свои дела, пересылать письма. «Значит, тут что-то есть такое, чего я еще не знаю», – рассуждал Дойкин. И вчера вечером он решил передать деньги, надеясь, что после этого приезжий будет более разговорчивым. Но и после того как отсчитал ему Дойкин пятьсот червонцев, тот все так же, стращая рассказами об арестах в городе, ни о чем другом не говорил.
«Крутит!..» – зло думал Алексей Фаддеич, все шагая по комнате и косо поглядывая на гостя, который молчаливо тянул водку стопку за стопкой.
Коржак, уезжая к себе в район, просил Алексея Фаддеича, чтобы он беспрекословно выполнил все просьбы гостя. А на прощанье шепнул на ухо: «Тут, брат, дело дюже сурьезное... Он сам тебе все откроет...»
«Не поймешь, чорта!» – вздохнул Дойкин и пристально посмотрел на приезжего, на его длинные, пунцовые уши. Гость, преспокойно опорожнив весь графин, закусывал осетровым балыком.
В это время слегка приоткрылся ставень.
Алексей Фаддеич отпрянул за оконный косяк.
– Хазаин!..
В мутное стекло глянуло скуластое лицо Шаграя.
– Шайтан раскосый! – Дойкин прошел к лавке, где лежала его поддевка.
– Хазаин! – казах осторожно поскреб ногтями по стеклу. – Домой давай!.. Софка велел!..
Это означало, что скоро должна прийти домой Настя Сазаниха, которую со дня приезда к ней гостя, объявившегося Васькиным дружком, Софа Дойкина с вечера зазывала к себе, поила чаем с вареньем, с халвой, угощала пирогами, пельменями. Софа старалась как можно дольше задерживать у себя Настю, чтобы дать вдоволь наговориться мужу с приезжим.
Накинув на плечи поддевку, Дойкин шагнул к столу и решительно спросил гостя:
– Когда же под Гурьев?
– Людей вот поджидаю... – загадочно ответил тот и закурил папиросу.
– Каких?
– Товарищей... – Гость пьяно усмехнулся.
Алексей Фаддеич взглянул в упор в его вертлявые глаза.
Приезжий искусно выпустил изо рта крутящееся кольцо дыма, негромко сказал:
– Коржак должен переправить их сюда...
По лицу Дойкина сразу пошли багровые пятна, появляясь то под глазом, то на лбу, то на щеке. Нахлобучив шапку, он вплотную подошел к приезжему и, тяжко дыша, спросил дрожащим, не своим голосом:
– А как же будете переправляться дальше, под Гурьев?
– На твоей флотилии, Алексей Фаддеич, – гость снова пьяно усмехнулся и, шагнув к сундуку, пошатываясь, стал раздеваться. – Завтра поговорим обстоятельно... Завтра!.. – Он лег и укрылся одеялом.
– Хорошо! – и Дойкин облегченно вздохнул. – Давно бы так!.. Знаем, поди, друг друга, зачем таиться? – и, грузно ступая по скрипучему полу, зашагал в кухню.
Шумно рванув дверь, он вышел во двор и, чтобы не встретиться с Сазанихой, пошел задами.
Было ветрено и холодно. Месяц быстро скатывался к камышам, как снулая рыбешка по течению, а звезды, испуганно мерцая, гасли одна за другой.
С моря надвигался плотной стеной туман, будто опускались на льды огромные лохматые тучи.
Дойкин шел и, думая о последнем разговоре с приезжим, уже видел обширные казахские степи, видел гостя и его товарищей среди бывших баев и уральских казаков-хозяйчиков, видел, как организуются в боевые отряды обиженные и недовольные.
«Все одно что в восемнадцатом году!..» – вспомнил он выступления белых уральских банд. И от радостного волнения у него захватило дух.
Алексей Фаддеич остановился и вдруг в тревоге подумал:
«А ежели раньше времени откроется эта затея? Ежели власть пронюхает? Тогда что?»
Он смахнул ладонью выступивший на лбу холодный пот.
«Тогда что? – вновь спросил он себя. – Что тогда?..» – и, не находя ответа, мучаясь, решил повернуть к вдове Зиминой, чтобы успокоиться и забыться. Он тайком изредка захаживал к ней, когда был всердцах, и за то, что давал иногда рыбачке работу, подолгу и ненасытно тешился ею.
Только было направился он к дому Зиминой, как рядом открылась калитка: из двора вышла с ведром Наталья Буркина и выплеснула на улицу помои.
Ветер круто обжимал кофту на ее груди и шибко трепал юбку; не замечая Дойкина, она одернула подол и повернула в калитку.
– Простудишься, голубка! – И он взял под локоть ее тонкую теплую руку.
– Ай!.. – Наталья испуганно метнулась во двор.
– Постой, постой, голубка! – Дойкин заспешил, догнал ее у крыльца и заботливо спросил: – Чего ж, Наталья Егоровна, за сеткой не заходишь? Давно приготовил!
Рыбачка, не оправившись еще от испуга, удивленно глядела на Алексея Фаддеича и, вздрагивая, шептала:
– Нехорошо!.. Ух, как напугалась!..
А он потихоньку вталкивал ее в сени и шептал:
– Тебе даю сетку, а не Григорию. Красавице даю... Пропадаешь ты с ним, голубка, ни за что...
Наталью сразу обдало жаром; она откинулась к стене, подняв над головой руку с ведром.
И когда Дойкин вплотную подошел к ней, она вдруг громко крикнула:
– Отстань, сатана! – и уронила ведро ему на голову.
Выскочив из сеней, Дойкин быстро зашагал к калитке, от которой навстречу ему шла удивленная Зимина. Нахлобучив шапку, он прошел мимо.
Наталья, подняв ведро, все еще взволнованно кричала из сеней:
– Погоди! Григорий заявится!.. Он тебе покажет сетку!..
Зимина поднялась на крыльцо и, вздыхая, участливо спросила рыбачку:
– И к тебе, милая, уже заглянул?
– Я ему!.. – Наталья отвернулась и позвала вдову в горницу. – Думал только...
Распахнув коротушку, Зимина присела на скамью у печки и, слушая рыбачку, то и дело повторяла:
– А я вышла – и слышу шум у вас на дворе... Думаю, чего такое? Вышла – и слышу...
– Сатана слюнявая! – ругалась Наталья, передвигая в печке чугуны. – Сомина тухлая!
– Он такой, милая, – вдова устало прикрыла глаза. – Натерпелась я от него... Опротивел, как лягуха. Да и дает-то крохи... Отбиться бы от него. А как?.. Хотели, вот мы с Нюркой да Настей Сазанихой поработать. А Краснощеков не взял нас... Куда деваться – ума не приложу! Иду теперь к деду Ване. Упросилась поехать с ним на рыбоприемку. Будто у нашего берега хотят государственную приемку надолго, совсем поставить. Глядишь, и работа какая найдется, – стряпуха, может, нужна будет людям.
Перетирая посуду, Наталья печально поглядывала на грузную фигуру вдовы.
– О-ох, кабы Трифон был жив, – тяжело вздохнула Зимина, вспоминая сгинувшего в море мужа, – иль ребят было б у меня не пятеро, а скажем, один, двое. Подалась бы я на промысел, нанялась резалкой, кладчицей или солильщицей... А то вот от ребят-то ни шагу, как привязанная. И этого чорта ждешь не дождешься, когда придет да посулит работу... А он, как именинник, раз в год... – Давясь слезами, вдова притулилась головой к печке.
– Не надо, не надо, Марья Петровна! – Наталья поспешно вытерла о фартук руки и подошла к Зиминой.
– Как же, милая, не плакать! Только слез и вволю – не занимать...
– Не надо, не надо! – Наталья села рядом с Зиминой. – Вот послушай... Собирались недавно у Григория ловцы: Митрий Казак, Сенька, Туркин Яшка. Говорили об артели и тебя поминали, – слышь, Марью Петровну записать в артель тоже надо!.. Вот и уехал Григорий в район, к своим партийцам да в кредитку. А еще раньше туда же уехал Андрей Палыч...
Слушая Наталью, вдова сбила на затылок платок и, согласно кивая головой, растроганно зашептала:
– Ох, кабы! Вот кабы!.. Эх-эх, как хорошо!..
А Наталья уже жаловалась на Григория:
– Знаешь же, какой он у меня! Ты, говорит, других обзавидовала. А чего обзавидовала? Чего я лишнего хочу? Хочу только, чтобы жили мы как люди: сыты были да радости чуточку... А то шабалы одни, – она тряхнула подолом выцветшей, латаной юбки. – Ну, а если уж он взялся за что, то непременно сделает. По-моему, будет артель! – Рыбачка, довольная, улыбнулась.
Повеселевшая Зимина торопливо поднялась с лавки.
– Ну, что ж, пока суд да дело, я съезжу с дедушкой Ваней на приемку. Может, у приемщика с подручными возьму бельишко постирать. Хлеба, глядишь, дадут, рыбы на варево... Ты уж, Наталья, присмотри за моими ребятишками. А то как бы не нашкодили.
– Ладно, загляну... – И вдруг рыбачка беспокойно сказала не то себе, не то Зиминой: – Долго только что-то Григория нету.
– Не тужи, приедет!
Вдова, запахнув коротушку, толкнула дверь и чуть не бегом заспешила на берег, боясь, что запоздала: дед Ваня мог уехать один.
И в самом деле, слепой ловец уже копошился у своего куласа, кидая в него сети, весла, шесты.
– Деда, деда! – окликнула его Зимина, с трудом шагая по песку.
Дедушка Ваня снял черную мохнатую шапку и отер ею лицо; потом обернулся к протоку, затопленному туманами, и, будто видя что, задумчиво сказал:
– Как бы кулас на льду не порезать...
Шумно отдуваясь, к деду подошла Зимина:
– В самый раз успела! Доброе утро, родимый!
– Успела! – заворчал дед. – Сказано было – чуть свет!
– К Наталье заходила я...
– Ну, залазь! – дед недовольно взмахнул рукой, и когда вдова прошла в кулас, оттолкнул его от берега и сам вспрыгнул на корму; он заработал шестом быстро и ловко, не хуже зрячего, и погнал лодчонку в туманы промеж льдов.
В тумане, казалось, плыли под водой: кругом перекатывалась шарами белесая муть, туман слезил глаза, и трудно было дышать...
Грозно шуршало о борта крошево льда, изредка лодчонка натыкалась на льдины. Под тем берегом туман был реже: отчетливо выступали почерневшие за зиму камыши. Вода здесь тускло, студено блестела.
– Давай помогай, – тихо сказал Зиминой дед, вгоняя кулас на обширную водяную поляну, где находились его сети.
Вдова села за весла.
– Ударь покруче! – Дед наклонился за борт и стал выбирать сети в лодку.
Сеть была сплошь забита воблой: казалось, не найти ни одной свободной ячеи, где бы не торчала жирная, с синеватым отливом рыбина.
– Эка привалило, – сердито ворчал дед, еле вытягивая сети. – И откуда столько наперло!..
Ледяная вода жгла руки, крючила пальцы; выбрав сеть, дед подул на руки, похлестал ими себя по бокам и, принимаясь за другую сеть, строго приказал Зиминой:
– Полегче, полегче, Петровна!
Она, загребая одним веслом, старалась держать кулас против ветра и так, не спеша, вела его вдоль выбитой в протоке сети.
Дед, упираясь одной ногой в борт, старался быстрее выбирать сети, но они были отягощены богатым уловом и часто трещали – пряжа не выдерживала редкостного живого груза и рвалась.
– Разор, а не улов! – сердился ловец.
Когда кулас был наполнен рыбой доверху – так, что Зимина сидела, по пояс заваленная бившейся воблой, – дедушка Ваня, ворча, погнал лодку на приемку. Еще издали его встретили рабочие радостными приветствиями:
– Дедо-ок!
– Здравствуй!
– Давай, давай почин!
– Эх-ма, первейший ловец!..
Снимая шапку, он улыбнулся и сурово крикнул в ответ:
– Принимай чалку!
Кулас легонько стукнулся о борт прорези, что служила садком для рыбы. Рабочие в брезентовых рубахах и шароварах, смеясь и похлопывая деда по спине, подвели кулас к стоящей рядом посудине и тут же принялись сетчатыми черпаками выливать улов из лодки в носилки.
Зимина прошла к приемщику, молодому казаху, который стоял недалеко от весов. Поблескивая голубоватыми белками глаз, он внимательно выслушал вдову.
– Работа тут никакой, – сказал он. – Промысел надо ехать. Там многа работа...
– Мукашев, вешай! – окликнули приемщика рабочие.
Он шагнул к весам, вынимая из кармана небольшую записную книжку в красном переплете.
Зимина задумалась.
Приемщик отрывисто заговорил, щелкая гирькой по никелевой пластинке весов, на которые то и дело рабочие ставили носилки с уловом деда:
– Сорок один кило... Сорок девять... Пятьдесят два... – и торопливо записывал в книжку.
Слепой дед стоял тут же и будто следил за весом.
– Уй-юй-юй! – радостно воскликнул казах, когда закончил принимать рыбу. – Два ста и один кило... Ба-альшой деда фарт идет, – и легонько хлопнул слепого по плечу. – Ну, пошли контора, расчет делаем.
Они двинулись к каюте; у двери приемщик задержался и, направив дедушку Ваню вниз по лестнице, повернулся к Зиминой:
– Сейчас штаны-рубах даем тебе стирать. Ожидай!
Зимина присела у весов и, глядя на палубу, сплошь усыпанную чешуей, взволнованно подумала:
«Скорей приезжал бы Григорий Иваныч и Андрей Палыч... Артель бы скорей!..»
Она так крепко задумалась, что даже не заметила, как подошел к ней приемщик с узлом белья.
– Бери штаны-рубах, – и сунул ей в руки узел. – А слух твой верный: приемка скоро ставим Островок. Тогда твой стряпуха наш будет. Приказ вчера давал директор промысла. Баркас идет!
Молодой казах отвел Зимину в сторону и, вертя приколотый к рубашке кимовский значок, несмело спросил:
– Как там мой коке, старый ш-шорт, Островок поживает?
– Какой?.. Шаграй, что ли. что у Дойкина? – догадалась вдова.
– Он самый, старый ш-шорт!
– Ахат?! – Зимина радостно взмахнула рукой, признав в молодом казахе того самого Ахата, сына Шаграя, который несколько лет работал у Дойкина и в позапрошлом году ушел от него на государственный промысел.
Вдова с удивлением оглядывала парня.
– Значит, приемщик теперь? А это что у тебя? – она показала на значок.
– Комсомол! – Ахат улыбнулся, сверкая белыми мелкими зубами. – Мое сердце Ленин бар, Ленин живет!.. – Он крепко прижал значок к груди. – Моя хочет ба-альшой, ба-альшой жизнь!
– А зачем коке, батьку-то своего, ругаешь? – и Зимина неодобрительно покачала головой.
Ахат перестал улыбаться и, краснея, ответил:
– Говорил ему, писал: бросай Дойкин, ходи работа промысел. А старый ш-шорт хозаин работает. Скоро мы этот Дойкин убирать с дороги будем. Мешает!
Вдруг казах чиркнул пальцем по горлу и зло прошептал:
– Ж-жик! Кончал их праздник!..
Белки его глаз налились кровью.
– Марья Петровна! Поехали! – Дедушка Ваня уже стоял в куласе и держал наготове шест.
– Передавать твоему коке поклон? – на ходу спросила Ахата Зимина.
Он насупился, нехотя ответил:
– Никакой привет...
– Петровна! – дедушка громко стукнул шестом о палубу приемки. – Один уеду! Э-эх, бабы!
– Бегу, бегу! – Зимина, перескакивая через носилки, заспешила к куласу.
– Людей задерживаешь!
Не успела вдова прыгнуть в лодку, как дед уже оттолкнулся от приемки: Зимина чуть не угодила в воду.
– На весла! – скомандовал слепой ловец и, вынув из кормы бутыль с любимой настойкой, разом отпил половину. – Хороша калган-трава!
Зимина налегла на весла и стала рассказывать деду об Ахате и о том, что говорил он о Дойкине.
Слушая вдову, ловец задумчиво проронил:
– Ветром море колышет, а молвою народ...
Откинув шапку на затылок, он, будто зрячий, обвел лицом проток.
Солнце настойчиво пробивалось сквозь туманы, и если бы не эти туманы, то сегодня, наверно, по-особенному лились бы на приморье потоки его жарких лучей.
Набухший лед часто и едва приметно подвигался, отчего одни проглеи суживались, другие раздвигались, студеная вода в них густо дымилась.
Дед отер шапкой лицо и приказал Зиминой:
– Ложи весла!
Подняв шест, он быстро погнал кулас по узенькой проглее, словно по знакомой, исхоженной тропе.
Глава десятая
Взморье дымилось голубыми туманами.
Влажный ветер, все чаще и чаще налетая с Каспия, обдавал пахучей, солоноватой теплынью.
Сазаний проток – весь в прососинах – готов был того и гляди сбросить с себя рыхлый ледяной панцырь, под которым уже двигались с моря косяки рыбы.
Когда ветер напирал сильней, лед колыхался, шуршал, проглеи раздавались шире. По ночам, однако, жгучий мороз вновь и вновь сковывал проглеи, покрывая весь проток сплошной ледяной коркой.
Несмотря на часто повторявшиеся морозы, некоторые ловцы Островка пытались по-настоящему наладить добычу рыбы – одни в протоках, другие в море. Правда, те, что хотели пробиться на Каспий, всё еще боролись со льдами в устье банка или же, не в силах преодолеть ледяные преграды, возвращались обратно в поселки, как это случилось с Василием Безверховым. Да и речные ловцы выбивали сети только в Сазаньем протоке и в соседнем – Волокушьем. Повсюду еще лежали набухшие, тяжелые, громоздкие льды. Но ловцам не терпелось – всех неодолимо тянуло на реку, в море.
Один только Лешка-Матрос, казалось, не думал собираться на лов. Он по целым дням бродил по берегу, ненасытно курил, грозился Дойкину и часто с тоской поглядывал, но уже не в сторону маяка, где находилась Глуша, а в сторону Бугров, откуда можно было легко добраться до района, от которого до города – совсем пустяки, а там – и Москва близко!
После разговора с дедом Ваней Лешку неотступно одолевали мысли о поездке в Москву. Многое за это время он передумал, вспоминая фронты, дружков, встречи, разговоры... Его так захватили эти мысли, что он и ночи напролет думал только о былых годах, о Москве. В полночь, когда одному становилось совсем невмоготу от тяжких дум, Матрос выходил из своей хибарки, являлся к слепому ловцу, заходил к тетке Евдоше, к Косте, следил за домом Василия Сазана, где чуть ли не каждую ночь собирались к приезжему человеку Дойкин, старый Турка, Краснощеков и еще кое-кто... Лешка, осторожно ступая, словно идя по тонкому льду, подкрадывался под окна Васькиного дома, старался подслушать разговоры, но окна плотно закрывались ставнями, занавешивались изнутри одеялами, и он улавливал только глухой, невнятный гомон. «Не к добру собираются!..» Эти подозрительные сборища еще крепче убеждали Матроса в том, что уже давно пора по примеру города разделаться со здешними рыбниками. Но снова и снова припоминая, как он однажды за отказ ему кредита учинил скандал Коржаку и за это его чуть не засудили, Лешка полагал, что в районе и теперь не найдет он поддержки.
«В город! В город надо! – думал он. Но тут же закрадывалось у него сомнение: – А может, и в городе не помогут? Может, и там дружки есть у дойкиных и коржаков? Писал же я в город, а ни ответа ни привета... Видать, надо прямо в Москву!»
Однако он никак не мог раздобыть на дорогу денег. Костя Бушлак отказал ему, как отказали и другие ловцы; не дала денег и тетка Евдоша. Все они относились к его поездке недоверчиво, с предубеждением.
Зато дед Ваня не пожалел Матросу пятерки, да еще выпросил он червонец у тетки Малаши.
«Этого хватит пока, – думал он, бродя спозаранку по берегу. – А там видно будет».
Поглядывая на рыжее, тусклое солнце, что настойчиво пробивалось сквозь густые, шедшие валами туманы, Лешка рассуждал о том, как ему пробраться в город: по взбудораженным ледяным протокам и ерикам сейчас не проедешь, не пройдешь, а до полного распадения льдов было еще далеко.
– В город! – не переставая твердил он. – А ежели чего – в Москву!..
Шагая по берегу, он незаметно вышел за поселок, и когда очнулся от дум, увидел: из-за косы, которая врезывалась узким и длинным углом в проток, вынырнула лодчонка.
Лешка пристально всмотрелся в посудину и признал в ней широкозадый, с обрубленной кормой, кулас маячника; на корме стоял Егорыч и, помахивая шестом, проворно гнал кулас по разводьям между льдин. Посредине лодки в яркой, цветистой шали сидела Глуша...
Появление Егорыча и Глуши ненадолго взволновало Матроса: вначале он обрадовался, у него даже шевельнулась надежда относительно Глуши. Но тут же его вновь охватили мысли о Дойкине, о неведомом человеке, который много дней жил у Насти Сазанихи, о поездке в город, в Москву...
Лешке было теперь не до Глуши.
– Лексей! – громко окликнул его с куласа Максим Егорыч.
Матрос чуть приподнял бескозырку и повернул обратно к поселку.
– Лексе-ей!..
Он, не оглядываясь, шагал по берегу.
Когда лодчонка, пробиваясь сквозь льды, вышла на широкую водяную тропинку, что вела прямо к берегу, поднялась Глуша.
– Лешенька! – и, слегка улыбаясь, кивнула проходившему мимо Матросу.
Как и на приветствие Егорыча, так и в ответ Глуше Лешка едва дотронулся до бескозырки.
Маячник что есть силы разогнал лодчонку, и она, с шумом рассекая крошево льда, взбежала носом на отлогий песчаный берег.
Из лодчонки легко выпорхнула Глуша и, смеясь, подскочила к Матросу:
– Живой, Лешенька? Здравствуй!.. А Митрий тут? Не в море еще?
Едва успел Лешка ответить, как Глуша, отряхнув подол юбки, побежала в поселок.
Егорыч вытащил якорь, воткнул его в песок и, искоса наблюдая за Лешкой, который молчаливо стоял невдалеке, сердито сказал:
– Должно, к Митрию поскакала, шалая! – и разом повернулся к Матросу, сурово спрашивая его: – Ключи отобрал?
Лешка не ответил.
– Отобрал, спрашиваю, ключи? – вновь спросил Егорыч Матроса. – Тебе доверил, ты и отвечать будешь! За все отвечать будешь: и за дом, и за все прочее.
Не слушая маячника, Лешка направился в поселок.
– Лексей! – строго окликнул его старик, но видя, что Матрос не обращает на него внимания, почувствовал, что и здесь ускользает его власть; тогда он впервые назвал ловца ласково, по имени-отчеству: – Лексей Захарыч!..
А тот, не оглядываясь, продолжал шагать дальше.
– Лексей Захарыч!.. – Маячник нагнал Матроса и, придерживая его за рукав, быстро заговорил, но уже не о ключах: – Беда, Лексей Захарыч, стряслась. Ой, беда! Ты понимаешь...
– Какая такая беда? – Матрос раздумчиво посмотрел на маячника.
– Ой, не тревожь! – еще жалобней запричитал старик. – Ой, не выспрашивай!
Он крутил головой, вздыхал, повторял одно и то же:
– Беда... Беда...
– А чего ж молчишь? – недовольно спросил Лешка. – Давай рассказывай!
– Ой, Лексей Захарыч!..
Так они вошли в улочку, на которую выходило окно мазанки Дмитрия. Не дойдя и десятка шагов до этого окна, маячник повернул обратно и зашагал к своему дому, но не дошел до него и свернул в узенький переулок; отсюда он опять вышел на улочку Дмитрия, затем снова на другую...
– Какая же беда, Максим Егорыч? – строго спросил его Матрос.
Не знал старик, где сейчас находится его дочка: у Дмитрия в мазанке или уже вместе с ним в его, маячника, доме. Не знал он и что ему делать – куда деваться, как вести себя с Матросом. Потому все и кружил, кружил по проулкам, увлекая за собой Лешку.
И когда очутились они невдалеке от матросовой хибарки, Лешка, которому надоело бесцельное хождение по поселку, схватил маячника за плечо и сердито крикнул:
– Стой, Максим Егорыч! Кондрашка тебя шибанул, что ли?! – и, плюнув, направился в свою хибарку.
Егорыч остановился, растерянно посмотрел вслед Матросу и, распахнув полушубок, двинулся за ним. Войдя в горницу, Лешка прошел к окну и тоскливо уставился в мутное стекло. А маячник молча присел на бочонок, шумно вздохнул.
В горнице было тихо и холодно, как в ледяных выходах для посола рыбы; лишь изредка где-то за печкой осторожно скребла мышь, да вторила ей в углу другая, копошась в обрывках сетей.
Крепился, крепился старик, а потом неслышно подошел к Лешке и, уронив на плечо ему голову, рассказал о случившемся на маяке.
– Ушла... И, видать, совсем...
– А ты что ж думал, она с тобой век вековать будет?
– Ругалась. Кричала на батьку... – продолжал жаловаться маячник.
– Одно скажу, Максим Егорыч, – Лешка отошел от старика, приосанился: – Что было – былью поросло. Но Глушу зря ты отпустил к Митрию... В такое-то штормовое время, когда паруса следует подбирать туго-натуго, он шкот бросает. Сам знаешь, какие дела творятся в городе, да и по всей нашей матушке-России. На кукан сажают рыбников и разных нэпманов, вожжу им поднатягивают... Во какие дела! А он, ваш Митрий...
– Не мой, – маячник безнадежно замахал руками и, пройдя к бочонку, устало опустился на него.
– А Митрий, вместо того чтобы повыше вздергивать наши паруса, опять пошел к Дойкину!
– Как? – Старик подпрыгнул на бочонке, будто рыба на горячей сковороде.
– В море от Дойкина собирается.
– А я еще кулас ему давал, – обиженно протянул маячник. – Сетку сулил... Э-эх, Лексей Захарыч! Пропала, видать, Глуша.
– Дело покажет! – с достоинством произнес Матрос.
– Лексей Захарыч, – старик подошел к ловцу и, вытащив кошель, сунул ему червонец. – Сбегай в потребилку, купи бутылку горя. Выпьем да помозгуем, как быть...
– Не могу, Максим Егорыч!
– Чего так? – удивился маячник.
– В путь собрался. Не видишь? – Лешка кивнул на угол, где на протянутой веревке висели наутюженные его бушлат и брюки-клеш. – Раньше в район заеду, а потом в город, а может, и в Москву. Только вот с деньгами плоховато у меня.
– А в Москву зачем?
– К Клименту Ефремычу Ворошилову – за подмогой против всяких дойкиных и коржаков.
– Чего ты говоришь? – Вытаращив глаза, старик все еще никак не мог понять, о чем говорил ловец. – К Ворошилову? В Москву?.
Усадив маячника на подоконник, Матрос начал подробно рассказывать о гражданской войне, о своей поездке в Москву...
– Толково, толково придумано, – приговаривал удивленный Егорыч, согласно кивая головой. – Молодчина, Алексей! А Глуша – дура!
– Дура не дура, – веско вставил Матрос, – а несколько шурупчиков в мозгах у нее не хватает.
– В точку попал! – привскочил маячник. – Хвалю за ухватку, Лексей Захарыч! Червонец на дорогу даю тебе! – и он раскрыл кошелек.
– За это спасибо, Максим Егорыч! – Лешка засветился благодарной улыбкой. Крепко пожав руку старику, он попросил его: – Свези меня, Максим Егорыч, в Бугры. А оттуда я легко доберусь до района. Свези, Максим Егорыч! Прошу тебя!..
– Ладно, свезу, – согласился маячник.
И снова Лешка крепко потряс руку старика.
– Спасибо, Максим Егорыч, спасибо, – и прошел в угол, где висела выглаженная его одежда; сняв с веревки клеш и бушлат, он осторожно, чтобы не помять, разложил их на кровати. Затем тут же подсел на корточки к небольшому ящичку с самодельным запором. Когда он открыл крышку, Егорыч через его плечо заглянул в ящичек; там был разный ловецкий инструмент, пряжа, шматки пакли, цепка...
«А наград-то и не видно», – подумал маячник.
Про Лешкины награды толковали разное: одни уверяли, что есть у него награды, другие говорили, что это выдумки.
Вытащив из ящика ботинки, Матрос отставил их в сторону и вдруг легко подбросил на руках блестящий, вороненой стали револьвер.
– Спрячь, спрячь! – отшатнулся старик. – Не дал бог стрельнет!
– Видал? – и Лешка показал на именную серебряную пластинку, что была прибита сбоку нагана. – Читай, Максим Егорыч: красному матросу Алексею Зубову... Сам Климент Ефремыч вручал. Не веришь? На, читай! – и, крутнув барабан, сунул было револьвер маячнику в руку.
– Ой, батюшки! – перепугавшийся Егорыч отскочил к стене. – Положь, положь пушку обратно!