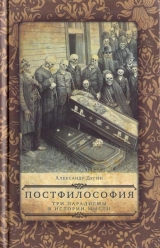
Текст книги "Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли"
Автор книги: Александр Дугин
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 52 страниц)
Что касается пространства, то здесь постмодернисты предлагают концепцию кальки и карты.Оппозиция кальки и карты предопределяет представления постмодерна о структуре пространства.
Калька – это такая разметка пространства, которая всегда, пусть с искажениями, но воспроизводит разметку пространства, имевшуюся ранее.Первая редакция кальки есть проекция рассудка (образующего систему координат, не существующую в эмпирическом мире и выстраиваемую «геометризирующим» разумом) на исторически воспринятое представление о «реальности», о «внешнем мире». Другими словами пространство кальки отражает структуру гносеологии и структуру того исторического ландшафта, на которой гносеология была исторически спроектирована. Далее с пространством начинают работать по принципу редупликации: калька накладывается на поверхность, и эта поверхность подгоняется под то, что на кальке нарисовано. Таким образом, калька есть процесс умножения симулякров. Новое в каждой серии калек – только погрешности, накопление которых и приводит к появлению пространства-симулякра(которым является виртуальная реальность).
Делёз предлагает противопоставить принципу кальки принцип карты. Карта, с точки зрения Делёза,– это и есть ризома,которая находится в пространстве горизонтального роста, развития и сетевого, клубневого расширения. Карта рисуется постоянно,дополняется и дорисовывается самым причудливым образом. Карта в отличие от кальки предполагает постоянное дописывание пространства. При этом ризоматическая карта не должна воспроизводить жесткой координатной системы или рассматривать рассудочные проекции как нечто раз и навсегда данное. Карта ни при каких обстоятельствах не должна превращаться в кальку. Карта в постмодерне есть антитеза кальки.
Поэтому, как утверждает Делёз, карта может быть сложена вдвое, разорвана, повешена на стену вверх ногами, она может быть обращена другой стороной... Карта мыслится здесь как процесс ризоматического поиска постоянных выходов из нее.Пространство кальки тяготится постоянством самого себя и все время старается «превратиться» во что-то другое.
Поэтому плоскость карты тяготеет к тому, что Мандельброт называет «фракталами». Карта стремится выпасть из диктатуры «трёхмерности» (которая воплощает в себе репрессивные вытесняющие репрезентации рассудка). Пространственная плоскость постмодернистической карты неровная, прерывная, синхронистская, нелокальная и тяготеет к наиболее причудливым конструкциям в духе геометрии Лобачевского.
Пространство карты фиксируется произвольным образом, исходя из дыхания или сиюминутной потребности или игры желания ризоматической пространственной телесности.
Переход постпространства в поствремяЗдесь происходит интересный процесс: переход постпространства в поствремя.Дело в том, что, отражая пространство ризоматического процесса, карта тяготеет к переходу от представления о поверхности к отождествлению с поверхностью. Постпространство хочет слиться с тем, что в нем находится, с тем, что в нем шевелится. Мы уже видели у Декарта отождествление пространства с материей. В парадигме постмодерна, где материальность трактуется как спонтанно распространяющийся сетевой клубень, это отождествление приобретает новое содержание.
Мы видели, что чистое наличие телесности совпадает у Делёза с хроносом, телесной темпоральностью, воплощающей в себе вечное настоящее. Пространство карты (постпространство) в парадигме постфилософии отождествляется именно с хроносом. Хронос и есть карта в ее абсолютном смысле, так как, не имея никакого смысла и никакого содержания, хронос полностью открыт.
В кальке отражена иная темпоральность – темпоральность эона, причем претендующая на универсальность своей памяти и своего проекта. Таким образом, и здесь пространственность и темпоральность совпадают, так как само эоническое время представляет из себя кальку реальности.
Мы говорили о том, как возникает образец кальки или первое ее издание. Она вырастает из фиксации проекции вертикальной структуры (стебель-корень) на поверхность, а далее, любая поверхность представляется как копия данной (везде «обнаруживается» – выводится наружу– тот самый стебель-корень). Точно так же эон рождается из хроноса, и симметрия структуры процессов, с учетом базового представления о ризоме, открывается как их тождество.
ИнтернавтикаСеть Интернет есть одна из первых попыток воплотить принцип постмодернистской карты – открытого пространства. Передвигаться по этой сети можно в любом направлении и почти бесконечно. – Это бесконечный путь из ниоткуда в никуда.Каждое звено – баннер, ссылка, объявление, картинка, анонс – зазывает вглубь сети. Но у сети нет измерения глубины, поэтому перемещение по линкам в произвольном порядке, представляет собой скольжении по поверхности. Здесь нет накопления знаний, здесь действует принцип прямого прозрачного и неутолимого соблазна. В сети все соблазняет, но ничто не приносит удовлетворения. Интернавтика представляет собой первое приближение к предоргиастической зачарованности, вечно длящейся, но никогда не перерастающей в необратимый и мгновенный оргазм, о котором Делёз и Гваттатри много писали в своих работах о сексуальности.
Человек заходит в сеть, смотрит на картинку, интересуется, что сказал Путин, и что ему на этот ответил Буш... Дальше, после Путина, его заинтересовал порнобаннер, сходил туда, пощелкал, вернулся к Путину, почитал, как московская мэрия выселяет инвалидов из картонных ящиков в переходах, ухнул, дальше походил, увидел, что Пугачева сменила пол – о, интересно, про Пугачеву,– щелкнул, попал вместо подробностей на сайт с биржевыми котировками, отметил для себя, что «евро поднялось на два пункта», а баррель нефти снова подорожал на доллар, и тут снова Пугачева, она, оказывается, развелась с Киркоровым, теперь живет с Галкиным, но тут же новый баннер – она уже развелась и с Галкиным, живет с Панкиным, но нет, оказывается пока мы тут щелкали, к ней вернулся Киркоров, но он оказался женщиной-африканкой, сделавшей себя серию операций... Удовлетворенный полнотой информированности о Галкине, ин-тернавт снова щелкает на Путина: что тот сказал в ответ на ответ (Галкина? Пугачевой? Анджелины Джоли? Памелы Андерсон?) Буша. В этот момент само собой открывается окно с биржевыми котировками или предложением поиграть в электронное казино... Наступает время зайти на сайт с японской манга, посмотреть там детские картинки, написать у себя в «LiveJournal» текст о том, как на вкус сегодня с утречка показался холодный «Budweiser», поинтересоваться, что стало с Курниковой и не выцарапала ли ей Марина Шарапова (Алина Кабаева?) глаза... Недавно в Интернете была новость, что Лон-го не умер, что врачи воскресили академика Сахарова прямо в его музее во время антирелигиозной выставки Гельмана «Ничто против Бога», и он дал комментарий против Путина на сайте «Каспаров.ру». Полная обратимость событий, логических сетей, временных структур. «Гитлер жив, в Берлине ему выбили всего три зуба, но он скрылся в Южной Америке» – классическое содержание типичного интернетовского баннера, завлекающего интернавта во все новые и новые эоны информативной осведомленности... Это значит «быть подключенным» («to be connected»), «быть в теме», «быть современным» (в смысле, «постсовременным» – т.е. «next»).
Пространство открыто, и при даже небольшом проходе интернавт уже пару раз, как минимум, побывал с обратной стороны смысловой реальности, даже этого не заметив...
Двигаться по сиюминутно привлекательным (соблазнительным) точкам, несущим квазисмысл (причем, одно и то же можно читать по нескольку раз, квазисмысл обратим, но его никогда невозможно понять и тем самым отделаться от него), или, наоборот, накапливать, без всякого сопоставления прямо противоположные пласты информации – это и есть работа с картой, существование в карте и, вместе с тем, ее создание, ее прочерчивание. Каждый интернавт создает себе картину, свою карту, свое пространство. Он определяет и то, где он живет, и то, что его интересует, и то, что есть, и то, как есть то, что есть... Он может конструировать открытое пространство как из имеющихся элементов, так и из новых – через блоги, форумы, чаты (которые, в концепции Web 2.0, прирастают аудио-визуальными измерениями).
Вот это и есть постпространство или карта – система произвольных хаотических привлекательных топосов, между которыми существует абсолютно неструктурированная, свободная связь, всякий раз устанавливаемая индивидуально, точнее, постиндивидуально, так как процесс нажимания на клавиши не требует от нажимающего «цельности». Пальцы целят в кнопки совершенно «приватно», и не перед кем делать вид, что ты – цельная личность. Наедине с экраном можно расслабиться и напрямую замкнуть движение руки на телесные импульсы, идущие снизу живота, или на случайные шевеления подсознания, резонирующие с теми или иными соблазнительными образами или текстовыми выражениями заголовков.
Индивидуум в пространстве карты рассеивается, распыляется и значит, в этимологическом смысле, развлекается,т.е. влечется в разныестороны, причем одновременно вовсе. Индивидуум в карте становится туманностью, опадает шизофренической росой в эксцентричные поля бессмыслицы, орошая своими (напряженными или вялыми) кликами счетчики статистики посещений.
Пространство экранаЧеловек может кликать на клавиши, а может и не кликать,может вообще отойти от компьютера, то есть пространство карты свободно. Но отходя от экрана, человек отходит от поверхности; а значит, и экран отходит от него.И что остается у отошедшего? Пустой факт «неподключенности», внутренней незаполненности, неинформированности, пустоты.
В постмодерне только поверхность экрана вводит человека в темпоральность и пространственность. В конечном счете, телесность пребывает только в экране. Вне экрана человек постмодерна представляет собой нечленораздельный осадок.Он пытается превратить неэкранные образы в экранные, но некомпьютерный мир ужасающе долог, труден и неподатлив, а также скуден ежесекундными соблазнами. Поэтому быть отключенным – это самое страшное наказание для дивидуума:ведь вне сети невозможно воспроизводить и культивировать дивидуальностъ.Еще немного и отключение от сети будет рассматриваться наравне с использованием пыток для дознания, а ломки у неподключенных будут посерьезнее последствий тяжелой наркомании.
Пространство у Делёза принципиально двумерно.Оно двумерно не только физически, но еще и метафизически,потому что такое пространство (карта) отрицает высоты (то есть идеи, которые парят) и глубины, стебли и корни. Метафизически плоское пространство (плоскость является главным аспектом постмодерна) проецируется в конкретную специфику устройства мира постмодерна. Отсюда и вытекает то, что Жан Бодрийар, развивая идеи Ги Дебора об «Обществе спектакля», назвал «диктатурой экрана»
Экран (мембрана) представляет собой не просто «плоское отражение реальности», но саму поверхность как постонтологическое явление. («Реальность» вместе с «пространством» и «временем», будучи модернистским конструктом вообще, совершенно эфемерна, и нет необходимости в новой парадигме возиться с некритически осознанными периферийными остатками прежней парадигмы.) Экран и есть ризома, не то, где она находится, а она сама. Экран – это телесность, тело без органов. Экран замещает поэтому и субъект и объект в постмодерне. Нет ничего более объемного, знакового и «реального», нежели качественно выполненный «гламурный» рекламный баннер.
Всё, что есть, всё, что происходит, сводится к пространству экрана.В экране сосредоточены и структуры и сингулярности. И то, что этот экран – плоский,является неслучайным. У экрана нет обратной стороны.Всё, что на него проецируется, всё находится на нем и в нем.По сути дела, само человеческое существование в постмодерне приобретают двумерный, рекламныйхарактер, поскольку человек воспринимается как синоним своей кожи(поэтому кожа должна быть «чистой»). Экран является главной субстанцией и того, что он потребляет, и того, что он производит, и того, что он есть. В постмодерне всё, что есть– происходит на экране.А то, чего нет на экране, нет вообще.
Экраны – это фокус нового культа, культа постмодерна. Панно экрана, переливающееся рекламными предложениями, это уже постмодерн. А если мы отходим от него и видим стену, на которой еще нет экрана, это не значит, что так будет всегда. Не расстраивайтесь, он обязательно там появится, потому что он должен появиться везде,и само существование людей, тела, мира должно перейти к этому плоскому, ризоматическому существованию экрана, где всё и будет происходить.
Человек научится думать, жить, дышать экраном, и фактически, втягиваясь в структуру ризомы, постепенно откажется от идеи тела с органами – тела как некоего трехмерного явления с высотой и глубиной. Ведь тело не более чем представление, а пространство не более чем априорная форма чувственного восприятия. Просто кто-то (а конкретно, творцы первой кальки модерна) внушилнам идею, что тело имеет объем, органы, сингулярность, дискретность, что оно состоит из того-то и требует того-то. Это не более, чем парадигмалъное внушение,суггестия, некритически воспроизводимая калька.
Ведь не было же такого тела в парадигме премодерна – особенно в манифестационизме. В премодерне были фавны, гномы, драконы, великаны, безголовые и волкоголовые люди, упыри и русалки. И они по-своему были телесны. В креационизме не столько явно, но рядом с нами существовал целой рой «невидимых» (о которых говорится в «Символе веры») или «джиннов» (в «Коране»). И о световых и огненных телах ангелов и демонов спорили серьезные теологи. В премодерне мы, люди (кстати, мы еще люди? – если речь идет о парадигме постмодерна, корректнее было бы говорить постлюди, дивидуумы)были телесны иначе,чем в модерне, чем так,как мы сегодня себя воспринимаем.
Громогласная, фундаментальная, каменная, свинцовая телесность пришла вместе с Ньютоном, вместе с упавшим на его голову яблоком, вместе с гравитацией. Тогда мы осознали себя в теле по-настоящему, и стали с ним носиться, холить, лелеять его, бояться, переживать за него, чувствовать боль. Ницше писал, что в наше время страдания одной брошенной любовником истеричной барышни в течение ночи весит больше, чем кровь всех христианских мучеников. По степени истерики, визга, отчаяния, конвульсий, что «всё теперь так ужасно в ее жизни», это выглядит страшнее, чем раньше поход миллионов людей на мученическую смерть ради абстрактной идеи, в которую они верили. И личная телесность для них была чем-то совершенно иным, чем сейчас, не более чем символическим элементом, «десятиной», которую они платили в подтверждение своих убеждений. И ладно бы только признанные и канонизированные святые. Страдали и мучались за убеждения даже еретики.Так, с псевдопророка Мани живьем содрали кожу, исламского мистика Сохраварди, суфия Аль-Халаджа или возрожденческого герметика Джордано Бруно сожгли на костре. Своим телом платили почти так, как мы банкнотами. Банкнот тоже жалко, но мы же их всё же тратим.
Представить себе эквивалентность тела и купюры мы не можем. Значит, мы имеем в виду другое тело, чем в премодерне. Вот и в постмодерне мы в ближайшее время будем иметь дело с другим телом – с телом электронной карточкой, телом-протезом (Ж. Аттали), телом-кодом, и, в первую очередь, телом-экраном, телом-картой.
Возьмём тело, которое мы имеем сейчас и считаем, что вот это уж точно наше, конкретное, незыблемое.Но стоит подумать, и мы понимаем, что когда-то его не было – ни нашего, ни просто такого, какнаше. А то, что было, было иным. Вот, соответственно, говорит Делёз, как не было его когда-то, так когда-то и не будет. И не будет вот-вот.Для людей, которые прилипают к экрану компьютера, его постепенно уже и нет. Пока это условность, но в фильмах «Матрица», «Газонокосилыцик» или «Экзистенция» эта условность футурологически размывается и предстает уже как нечто безусловное.
Архаизм телевиденияНа первом этапе постмодерна главным экраном (фокусом телесности, темпоральности и пространственности) выступал телевизор, он и сейчас выполняет эту функцию для отсталых слоев населения – для тех, кто не может угнаться за динамикой постмодерна. Но уже в наше время телевизор смотрят, как правило, пенсионеры и слабоумные. Там все невыносимо медленно и скучно. Конечно, быстрее и веселее, чем в жизни (в жизни? – что мы под этим понимаем сегодня?), но многократно медленнее, чем в сети. Нет бы продать этот показывающий одно и то же архаический мусор и купить хотя бы один компьютер на семью и тут же в Интернет. «Священная» ценность экрана возросла бы на порядок, а так хоть сто телевизоров накупи, качественного рывка в постмодернизацию не достичь... Самый «top» сегодня – это жидкокристаллические экраны – они более всего напоминают визуально и на ощупь человеческую кожу. Метафора эпидермы здесь приближена к чувственной убедительности.
Телевизор – плохая карта, карта первого поколения. В нем еще слишком много от кальки, от диктатуры «дикторов», от репрессивной паранойи создателей программы передач. Как экономическая модернизация предполагала сращение города и деревни, так постмодернизация пространства должна вести к сращению телевидения и интерактивных компьютерных web-технологий.
Гипертекст и интерактивное (дивидуальное) письмоМы видели, что в постмодерне время (как синтагма) становится текстовым явлением. В качестве соответствия пространству в лингвистике мы выделили парадигму. Давайте посмотрим, как в тексте проявляется другой пространственный принцип постмодерна – принцип кальки. Обычный текст(периода модерна, равно как и премодерна) в глазах постмодернистов есть чистая калька.Он строится по базовой схеме: автор написал текст, читатель его прочитал. Мы имеем дело с жестким эвклидовым пространством. Автор – один, читателей много (по меньшей мере, несколько). Получается автор – вверху, читатель – внизу. Автор – субъект, читатель – эксплуатируемое ничтожество, наслаждающееся этим.
Такие господин-писатель и раб-читатель находятся между собой в ситуации жесткого соподчинения, навязывания дискурса одним и потребления его как «священного» писания (корма) другим. Так кучер кормит лошадей овсом, чтобы они быстрее везли (в динамике воли к власти).
Уничтожение автора (через предварительное выведение его на чистую воду) – это главная задача литературной критики постмодерна. Излюбленным ходом постмодернистов является демонстрация того, что любой автор есть не что иное, как подлое сборище случайных и необоснованных цитат, т.е. изготовитель очередной кальки. Это легко доказать, так как в структурализме действует аксиома: высказывание есть произвольная цитата языка.Когда мы произносим какое-то слово, то мы цитируемтого, кто его уже (и, скорее всего неоднократно) произносил, и есть огромная вероятность того, что он делал это в сочетании со вторым словом, которое мы готовимся произнести, и не исключено, что с аналогичной, а то и тождественной интонацией. И в любом случае, даже если никто никогда ничего подобного не произносил, мы цитируем язык, который делает нашу речь возможной.
Пользуясь речью без учета постмодернистской рефлексии, мы двигаемся от ловушки к ловушке, постоянно попадая в них сами и вовлекая других. Часто даже не отдавая себе отчета, мы воспроизводим систему игры властных отношений, когда мы гипнотизируем других словами как «знанием», а другие воспринимают это как «познание», хотя, на самом деле, не отрефлектированная в постмодернистском ключе речь есть не что иное, как обмен пустыми, совершенно бессодержательными, игровыми цитатами.
Поэтому, строго говоря, автора нет,есть только серийный изготовитель новых и новых калек. Соответственно, в пространстве текста как кальки никуда двинуться нельзя. Тот, кто чертит кальки, всегда стоит на месте. (Но, правда, и тот, кто рисует карты, движется в никуда – но все-таки движется).
Вместо текста как кальки – т.е. фиксированного пространства – постмодернисты предлагают отнестись к тексту как к карте. Это значит, il faut changer la langue («необходимо изменить язык», о чем мы уже говорили раньше, цитируя Стефана Малларме). Вслед за сюрреалистами, постмодернисты обратили особое внимание на языковые находки символистов XIX века – Бодлера, Нерваля, Рембо, Малларме, Ришпена, Леконт де Лиля и особенно Лотреамона, которые ставили эксперименты над языком, пытаясь сделать его «открытым», т.е. подвергая его складкам, разрывам, играм десемантизации и ресемантизации слов. Пытаясь уйти от цитат и речевых штампов, они стали изобретать свои языки. Поэтому в филологии мы и говорим: язык Рембо, язык Верлена, язык Малларме... Не просто «стиль языка», но сам «язык». И уже у этих символистов заметны попытки выйти за пределы субъективности в поэзии, воплотить в новом поэтическом языке мир без индивидуальной цензуры. В философских терминах Делёза – это первые опыты практического шизоанализа. В языковом пространстве карты поэт становится на сторону мира (об этом писал молодой Артюр Рембо в его знаменитом «Lettre du vo-yant», «Письме ясновидца»).
В пределе перехода к тексту-карте каждый говорящий будет говорить на своем собственном языке, причем правила речи могут меняться прямо по ходу ее произнесения. В конечном счете, не просто каждый индивидуум, но каждая часть индивидуума обретёт свой язык. Он также будет состоять из цитат, но эти цитаты будут не скрывать то, что они симулякры, но выпячивать это свойство. Симуляционный смыслоподражателъныйхарактер постречи станет нормативом.
Гипертекст, используемый в Интернете, где отдельные термины и имена (пока только термины и имена, но ведь это только начало!) представляют собой линки, ведущие на другие ресурсы, (предполагается что) расшифровывающие (но часто это не так!) выделенные слова.
В гипертексте автор признается в том, что он цитирует, перестает это скрывать. В совершенном гипертексте (абсолютном гипертексте) подчеркивание цитирования будет распространяться не только на специальные термины и персоналии, но и на простые общеупотребительные слова – местоимения, предлоги, союзы, междометия. Например, «ах, я, наконец-то, увидел ее!». И «ах», и «я», и «наконец», и даже «то» будут вести куда-то еще...
И если вам надоело читать абзац на данной странице, вы можете продолжить его чтения на новой странице, и по нити слов, понятий, определений, и даже «звукоподражаний», вы можете всякий раз читать только свой собственный – уникальный текст, который, читая, вы и будете одновременно писать. В этом состоит принцип интерактивности: всякий читающий будет писателем, и наоборот. Грань между создателем текста и потребителем сотрется, само прикосновение к тексту будет автоматически означать соучастие в картографии. Далее – по мере дивидуализации – ответственность за такое чтение-писание может быть возложена на отдельные части индивидуума, отдельные органы чувств.
В структуре Web 2.0 от текста, основанного на языке, произойдет переход к тексту, основанному на видео– и звукоряде, так что слуху, зрению и подсознанию дивидуумасоставлять-читать такой аудиовизуальный гипертекст будет ещё проще.
Видимо, нечто подобное и называют постмодернисты «бесовской текстурой». Кто пишет этот (в пределе мультимедийный) текст, и кто читает, неизвестно. Легион бесов, некогда живших, по Евангельскому рассказу, в одержимом, и вселившихся в свиней, переберется жить в текст карты и будет там кувыркаться и визжать. Метафора «легиона бесов», с иронией принятая постмодернистами на свой счет, показывает, что и в премодерне теоретическая возможность «дивидуума»была предусмотрена (что, наверняка, понравилось бы традиционалистам) .
Если перейти теперь от гипертекста на одном языке к гипертексту на нескольких языках, перемешанных между собой, мы получаем лингвистическую модель Нового Вавилона, глобалистского «смешения языков», что прекрасно дополняет образ «бесовской текстуры».








