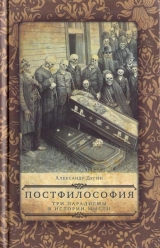
Текст книги "Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли"
Автор книги: Александр Дугин
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 52 страниц)
Хотя термин «субсистентность» в философии Мэйнонга прекрасно иллюстрирует структуру того поля, которое приходит в постмодерне на место онтологии (реальности в модерне, сакральной онтологии в премодерне), на практике более широкое хождение получил иной термин, описывающий почти то же самое. Это – виртуальность.Это понятие стало особенно популярным после выхода в 1990 году книги Говарда Рейнгольда «Виртуальная реальность».
Латинский термин «virtu» означает дословно «добродетель», качество украшающее «достойного мужа» («vir» – лат. «муж»). Со временем термин стал обозначать внутреннее качество вещи или человека, которое они несут в себе по умолчанию, не стремясь это демонстрировать вовне. В дальнейшем этот термин слился с понятиями «возможность», «потенциальность» в широком смысле.
«Виртуальность» сегодня понимается как нечто среднее между «возможностью» и «вероятностью». Однако термин «возможность» в философии изначально связан с онтологической проблематикой и означает нечто аналогичное бытию (или само это бытие) в его отношении к сущему (иногда сущее рассматривается симметрично как актуальное, действительное). Актуальность – это фундаментальное свойство реальности (как ее понимал модерн). И если бы мы от реальности (как действительности, актуальности) перешли к возможности, то вся дезонтологическая логика модерна была бы опрокинута и обращена вспять, и мы имели бы дело с возвратом от парадигмы модерна к парадигме премодерна.
Но постмодерн – при всей его фронтальной критике модерна – это категорически исключает, ведь его фундаментальное определение подразумевает уход от модерна без возвращения в премодерн. Следовательно, термин «виртуальность», сменяющей в постмодерне реальность (в модерне) ни в коем случае нельзя отождествлять с возможностью или потенциальностью. Виртуальность постмодерна – это возможность, полностью лишенная онтологии, это возможность ничто, ставшая действительным в особых вероятностных условиях.
«Ничто» относится к категории субстистентных концептов. Его нет в эмпирической актуальности, но оно вполне может «субсистировать». Оно и субсистирует в виртуальной реальности, представляющей собой невозможность, ставшую актуальной.Виртуальность есть область развертывания субстистентных объектов, причем таких, которые бегут к противоположному полюсу от тех объектов, которые эмпирически подтверждены или вот-вот будут подтверждены. Таким образом, виртуальность не есть пустое и перманентное пространство, диктующее лишь граничные условия феноменам, которые развертываются внутри него, но динамический процесс отсева в субсистентном множестве того, что уже «реализовалось» в пользу того, что еще не реализовалось, чтобы получить наконец-то – как своеобразная телеология постмодерна – то, что реализоваться не может.

Компьютерные технологии, киберпространства, цифровые способы обмена и накопления информации – все это не виртуальность сама по себе, но грубейшие элементы «фазового перехода» от реальности к реальности штрих. Виртуальность – это логический предел тех процессов, которые сегодня мы можем распознать вокруг нас. То, что мы знаем, это еще далеко не виртуальность, хотя такие фильмы как «Матрица», «Экзистенция», «Газонокосилыцик», «Вспомнить все» и другие заглядывают в будущее, когда виртуальность будет настолько успешной, что ее «реальная» («технологическая», «объектная») подкладка станет незаметной. Но и в этих фильмах, несмотря на стремление показать, что виртуальность вытесняет реальность, подспудно сохраняется подход модерна: деление на то, «как оно обстоит на самом деле», и на то, «что только кажется» еще действует в полную силу. Даже самые отважные фантазии описывают не виртуальность, а совершенную подделку под реальность, идеальную симуляцию. Такая «подделка» – самый начальный этап постмодерна.
Ограниченность и наивность понимания виртуальной реальности легко выявить в цитатах из тех авторов, которые претендуют на объективное описание этого явление. Так, некто Майкило Стивенсон Клайн в книге «Сила, сумасшествие и бессмертие: будущее виртуальной реальности» пишет:
■ «Виртуальная реальность будет интегрирована в ежедневную человеческую активность и станет повседневным элементом человеческого бытия;
■ Техника будет развиваться в направлении влияния на человеческое поведение, трансперсоналъные коммуникации и когнитивную деятельность (виртуальная генетика);
Так как мы будем проводить все больше и больше времени в виртуальном мире, состоится постепенная миграция в виртуальное пространство, с соответствующими изменениями в экономике, мировоззрении и культуре;
Дизайн виртуальной среды должен проецировать концепции прав человека в виртуальное пространство, продвигать дальнейшее освобождение человека и процветание и социальную стабильность в плане социокультурного развития».
В этом отрывке мы видим занятное сочетание наивного пафоса модерна («освобождение», «процветание», «социальная стабильность», «права человека») с жесткой идеей миграции в виртуальное пространство, которое по своей структуре заведомо исключает те «гуманистические» либеральные ценности, которые вдохновляли человечество в период главенства предыдущей парадигмы. Автор даже не подозревает, кудаон призывает всех мигрировать. Гипернигилизм виртуальности от него полностью ускользает, главенство техники над жизнью его совершенно не настораживает.
Виртуальность по-настоящему начнется тогда, когда концепт реальности окончательно рухнет, размоется, а потом и просто исчезнет, и когда никакому «на самом деле» не останется места.

Разбирая онтологическую структуру парадигм модерна и премодерна, мы говорили о сочетаниях в них категорий «возможного» и «действительного», а также «причины» и «следствия».
Напомню, что в манифестационизме причина сосуществует со следствием, не совпадая с ним, но и не отличаясь от него. В креационизме причина строго предшествует следствию, являясь вертикальной и трансцендентной. В модерне причина и следствие принадлежат «горизонтальной» сфере актуальности, но логическая связь между ними сохраняется – вначале идет причина, а потом следствие.
В постмодерне виртуальность отменяет все эти формы логических и онтологических связей. Здесь впервые причина может идти после следствия или не предполагать за собой никакого следствия, или следствие может не иметь никакой причины.
В самом грубом приближение это предчувствовали левые философы – такие, как Ги Дебор – писавшие об «Обществе спектакля». Структура «Общества спектакля», предвосхищающая виртуальность, состоит в том, что логические отношения и связи подстраиваются a posteriori под искомый результат. В наше время это стало законом PR-технологий. Реальность – второстепенна перед тем, как ее подают. Для создания внушительного, но краткосрочного эффекта, учитывающего психологические особенности конечного потребителя, события могут просто имитироваться или заранее разыгрываться. Так, искусственная постановка подменяет собой «естественное» развитие событий. И причины постфактум произвольно подгоняются под искомое следствие.
В кинематографе это иллюстрируется такими фильмами как «Хвост виляет собакой», где фальшивый репортаж о несуществующем военном конфликте влечет за собой вполне реальные и катастрофические последствия.
Но в предельном случае установление пропорций виртуальности должно привести не просто к фальсификации причинно-следственной цепочки ради каких-то конкретных (реальных) целей, но к ее постепенной отмене, т.е. к разрушению самих логических структур (что мы подробнее разберем в лекции, посвященной постгносеологии).
Суперпозиция структурВо французской философии второйполовины XX века одним из самых ярких направлений был структурализм, который предлагал в духе феноменологии рассматривать вместо привычных категорий Нового времени – «субъект», «объект», «реальность» и т. д. – цельные чувственно-логические системы, называемые «структурами».Структуралисты пронзительно осознавали кризис привычных философских модулей модерна, отдавали себе отчет в нигилистической природе концепта «реальности» и поэтому считали, что корректными будут только операции со структурами, текстами и контекстами. Структуры анализировались не с позиции каких-то заведомо данных «абсолютных истин», но на основании тех элементов, которые предлагались контекстом каждой конкретной структуры. В чем-то такой метод близок нашему парадигматическому анализу, только масштаб обобщений у структуралистов – более узкий и локальный.
Структура – это то последнее, что казалось надежным в условиях стремительно рассыпающейся «реальности». Можно сказать, что это пограничная зона между остатками реальности и началом виртуальности. Но постепенно структуралисты пришли к выводу, что и сами феноменологические структуры несут на себе отпечаток предрассудков классического модерна – в частности, неразрывно связаны с идей порядка(хотя и нюансированной плюрализмом рассматриваемых вариантов порядка, включая те, которые классическим исследователям модерна показались бы хаосом – от подсознания и первичных телесных импульсов в трудах
Лакана, Делеза, Гваттари до мифологий примитивных народов у Леви-Стросса). Тогда-то и произошел переход от структурализма к постструктурализму и поиску новых моделей для понимания и расшифровки тех явлений, к которым шаблон «порядка» вообще не применим. Постструктурализм подошел вплотную к описанию виртуальности.
Виртуальность может быть представлена как свободная и изменчивая суперпозиция структур, их такое наложение друг на друга, что всякая содержательность и упорядоченность, свойственные каждой из этих структур в отдельности, перемешиваясь, исчезают, и их элементы смысловым образом гасят друг друга, создавая причудливые десемантизированные ансамбли.
Как это происходит, можно представить, помыслив разговор на языке, грамматические правила которого меняются в случайном порядке в ходе произнесения речи, или вообразив спортивное состязание, по прихоти случайных обстоятельств незаметно переходящее от одного вида к другому (только гимнаст собрался прыгать в высоту, как ему дали клюшку, чтобы он бил по воротам противника; далее, встав на коньки, спортсмен обнаруживает, что лед растаял, и он уже в бассейне на соревнованиях по фигурному плаванию).

Суперпозиция структур в рамках случайного ряда субсистентных объектов дает ощущение чего-то смутно напоминающего чудо.
Чудом в манифестационизме была сама ткань бытия, чудо там было тотальным и фактически составляло собой ткань сакрального. В креационизме чудо стало избирательным и редким. Оно происходило тогда, когда Творец нарушал по своей воле внутренние закономерности тварного мира. В модерне чудо исчезло как таковое, поскольку законы реальности исключали саму возможность их нарушения или обнаружения имманентной трансцендентности. Все делилось строго на реальное и нереальное.
В постмодерне не существует ни сакральности, ни креационистского вторжения Божества в функционирование тварного мира. Но нет и ограничивающих законов реальности (модерна). Здесь случается все, но при этом ничего не происходит. Чудеса постмодерна, рождающиеся из суперпозиции структур, не несут в себе никакого смысла – это единственное и главное условие того, что что-то может случится – и не просто что-то, а что угодно. Самое невероятное, нелепое и невозможное легко происходит в виртуальности, но только при том условии, что это будет полностью бессмысленным и бессодержательным.
В модерне паровоз был возможным и действительным, а черт – невозможным и недействительным. В креационизме черт был возможным, как и паровоз. В манифестационизме черт был действительным (как фавны, сатиры, Пан и т.д.), и греки с ним регулярно встречались. А вот паровоз, пожалуй, был даже невозможным.
В постмодерне и паровоз и черт становятся виртуальными. Они представляют собой пару субсистентных объектов (постобъектов), разница между которыми лишь в том, что паровоз надоел (в эмпирике модерна), а черт еще не успел (греческий опыт был слишком давно, так что не в счет). Поэтому черт более вероятен в виртуальных мирах, но только, разумеется, в отрыве от какой-то конкретной религиозной системы; черт сам по себе, например, как менеджер компании по телекоммуникациям или клиент адвокатской конторы. Конечно, и паровоз может сбыться, особенно, если черт будет машинистом. Вот это – пожалуйста!
В этом проявляется феномен постчудес виртуальности, первое знакомство с которыми происходит в фантастических сериалах, компьютерных играх и компьютерной графике в современных фильмах. По той же логике субсистентности мы видим в них идеальные копии того, чего не существует в «реальности» – драконов, роботов-трансформеров, динозавров, инопланетян и т.д.
Постчудеса виртуальности лишены какого-либо смысла, они никого ничему не учат. У Густава Майринка в романе «Белый Доминиканец» действовал один псевдопророк, творивший бессмысленные чудеса. Однажды он даже воскресил мёртвого, но того через полчаса переехала телега. В повести Юрия Мамлеева «Что сверху, то и снизу» персонаж, напоминающий «черного мессию», воскрешал кошек, а любопытные мальчишки их вешали, и тащили снова к нему, чтобы посмотреть на это еще и еще раз. Сюжет «бессмысленного воскрешения» вполне относится к самой природе виртуальности, для которой характерно воспроизводство одного и того же цифрового кода, рециклирования и цитирования.
Конец вещи (res)В виртуальности окончательно исчезает то, что ранее называлось «res», «вещь».
В парадигме премодерна, в чистом манифестационизме вещи тоже не существовало – был знак, символ. Он представлял собой магический, теургический вход в онтологию. Вещь не просто указывала на свой архетип, на свою идею – она эту идею в себе имманентным образом содержала.Поэтому священный объект не просто символизировал, обозначал нечто, какую-то высокую реальность, отсылая нас к ней, но он её в себе нес.
В креационизме вещь – это символ, который указывает на что-то иное, нежели он сам, на идею или архетип, который находится вне ее,где-то там. Хотя иногда – в качестве исключения и чуда – символ оживал. Мы знаем это по явлению чудотворных икон.«Икона» это по-гречески «образ». В строго креационистской перспективе образ лишь указывает на что-то иное, нежели он сам. Но иногда в исключительных случаях это указание может быть настолько интенсивным,что изображённое напрямую проникает в то, что изображает изображение,и изображение становится действительным присутствиемизображаемого. Тогда начинаются чудеса – мирроточение, слезоточение, чудесные исцеления и т.д.
В модерне вещь становится объектом, предметом. Она ничего, кроме себя, в себе не содержит и ни на что не указывает. Она просто есть, и она есть единственное, что есть. Отсюда вытекает понятие реальности. Но ни указывая ни на что и не содержа в себе ничего, кроме самой себя, res постепенно оказалось совершенно пустой, т.е. совершенно ничтожной. И чем больше она освобождалась от всего «нереального», с ней связанного, чем больше становилась реальной («вещной»), тем более она уничижалась.
Важным этапом было перенесение понятия вещи в основном на рукотворную реальность, т.е. на продукт, искусственно произведенный человеком. Затем вещи стали промышленными продуктами и рыночными товарами. И, наконец, они стали преимущественно серийными. Сведенные к цифровым показателям своей цены, вещи совершенно «опустились» и «опустошились», рассеяв свою вещность по мере того, как они тщательно изгоняли из себя все, кроме нее.
СимулякрЧто приходит на место вещи в постмодерне? Симулякр.Жан Бодрийяр определяет «симулякр», играющий важнейшую роль в постмодерне как «копию без оригинала».Изначально концепция симулякра пришла ему в голову, когда он наблюдал за современной рекламой мыла, где использовался образ тридцатилетней давности в полном отрыве от того контекста, в котором этот образ изначально фигурировал. То есть в первом понимании симулякр – это настолько плохая десятая копия, что в ней уже невозможно распознать сходство с оригиналом. Но предполагается, что этот оригинал – каким бы плохим он ни был – все-таки существует.
Если заглянуть глубже, то «симулякр» – это копия, у которой вообще нет и никогда не былооригинала. Это не так легко представить, но концепция субсистенции Мэйнонга послужит нам полезным инструментом. Симулякр – это чисто виртуальный объект (постобъект), который появился в полном отрыве от всякого смысла и всякой пользы. Он вообще ничего не означает, ни на что не указывает, ничему не служит. Это знак, который не хочет ничего сказать, полностью оторванный и от обозначаемого и от обозначающего. Ничего не означающий знак. Но будучи столь оригинальным, т. е. оторванным от корреляции со всем остальным, симулякр, вместе с тем абсолютно не самостоятелен, потому что в нем не проявляется никакого собственного бытия – никакой реальности (не говоря уже об онтологии). Поэтому он и является «копией», он смутно знаком нам, вызывает ассоциации, каждая из которых оказывается двусмысленной и неверной. Симулякр – это то, что мы точно уже видели, но никогда не можем вспомнить где, при каких обстоятельствах и чтоже это было... Будто мы слышим совершенно незнакомое слово, но произносимое с очень понятной и успокоительно знакомой интонацией.
Цепочка «сакральный предмет – символ – реальная «вещь» (объект) – симулякр» представляет собой этапы дезонтологизации, идущей от изобилия бытия к его полному упразднению. В симулякре нет даже той остаточной онтологичности, которая пусть даже обратным – нигилистическим – образом присутствовала в объекте парадигмы модерна. Симулякр вообще не находится с онтологией ни в каких отношениях. Он не только ее не утверждает, он даже ее не отрицает. Он отрицает ее отрицание в виде объективной (реальной) вещи, но отрицает строго таким образом, чтобы ни в коем случае не вернуться к изначальной точке. – В этом основная особенность симулякра. В случае онтологии отрицание отрицания не дает утверждения, не дает плюс. Это такое отрицание, которое окончательно разрывает всякую связь с отрицаемым.
Бытие на практике изгоняется из мира не тогда, когда его изгоняют (парадигма модерна), а когда о нем забывают (парадигма постмодерна). Симулякр – это выразительный (и фундаментальный в своей поверхности) симптом свершившегося исчезновения бытия.
Симулякр выносит за скобки возможность любой онтологической операции. Действительно, как удостовериться в наличии бытия? В премодерне вопрос о бытии, Seinsfrage, в конечном счете, сводится к факту «посвящения» или «озарения». Парменида в онтологическую проблематику («бытие есть, а небытия нет») посвящает богиня в ходе сакрального ритуала. В монотеизме бытие напрямую связано с Откровением и Заветом. В модерне речь идет о точной фиксации опыта и измерении. Что реально, а что нет, поверяется исчислениями.
В постмодерне симулякр снимает все возможности онтологической верификации. «Озарение» легко подделывается с помощью наркотических средств, а измерение всегда можно подогнать под желаемый результат через использование PR-технологий (иногда административного ресурса). Но «желаемый результат» виртуальной реальности в самом общем виде формулируется как исключение самой возможности верификации, и основной тренд виртуального потока симулякров направлен к тому, чтобы вообще никому и никогда не пришло в голову ничего сверять с бытием.
Ничто в постмодернеПарадигма модерна ставила перед собой эксплицитную задачу дезонтологизации, изгнания бытия. Эта философская программа Нового времени, если мы отнесемся к ней внимательно и ответственно, как Хайдеггер, по ту сторону и наивного пессимизма, и еще более наивного (на грани идиотизма) оптимизма, обнаружит в себе очень серьезное измерение. Человечество (по меньшей мере, западное) двигалось к ничтоупорно, последовательно и методично, вкладывая в это движение гигантский потенциал воли и мысли. Это движение имело в себе нечто героическое, захватывающее дух, хотя и чрезвычайно тревожное. Не случайно в первой редакции слова Ницше о «смерти Бога» звучат так: «Бог умер. Мы убили его. Вы и я». Ницше хотел подчеркнуть, что это не произошло само собой. С бытием европейцы боролись самым серьезным образом, вкладывая в эту войну всю мощь своего духа. Это мы, русские, в СССР, соскользнули в модерн как в болото, и пережили модернизацию пассивно– как навязанную извне пытку. Европейцы строили модерн изо всех сил, сознательно и последовательно, как когда-то Вавилонскую башню. И стихию «ничто» они воспринимали за то, чем она и была.
Это была битва за реальность против сакральности, а значит, за ничто. И каких бы успехов европейцы ни достигли в своем нигилизме, то, с чем они вели войну – т.е. бытие – всегда, пусть тайно или парадоксально, через Dasein, с ними говорило. Модерн помнил о бытии даже тогда, когда о нем забывал, и само стремление забыть выдавало остатки памяти.
В постмодерне виртуальность окончательно прощается с любой – даже чисто негативной корреляцией с онтологией. Любое упоминание онтологии, любая ссылка на нее, просто исключены или возможны в форме симулякра, PR или шутки.
Но когда теряются последние следы бытия, исчезает и ничто. И хотя ничто по-настоящему начинается только в постмодерне, но именно поэтому оно и прекращает быть ничто. Чтобы выявить ничто, необходим контраст – контраст с бытием. Но поскольку бытия больше нет, то нет и его антитезы. Проблематики ничто в постмодерне нет.








