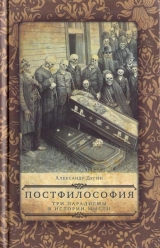
Текст книги "Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли"
Автор книги: Александр Дугин
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 52 страниц)
Магистральной линией развития гносеологии модерна является кантианство. Оно же является стартом гносеологии постмодерна. По сути, гносеология постмодерна есть критическая – кантианская – сторона гносеологии модерна, отделенная от своей некритической (наивно-онтологической) или посткритической (гегельянство) сторон.
Во второй половине XIX века после смерти Гегеля и некоторого разочарования в его идеях в Германии под лозунгом «Назад к Канту!» сложилось неокантианское движение, которое поставило своей целью довести предпосылки кантовской мысли до логического конца. В неокантианстве выделяют два направления, в основном сходные между собой и разнящиеся лишь в деталях. Основателем Марбургской школы был Эрнст Кассирер (1874–1945), попытавшийся сочетать кантианство с переосмысленным в духе субъективного идеализма гегельянством (Кассирер проводил очень содержательные дискуссии с Хайдеггером). К Марбургской школе принадлежал философ Герман Коген (1842–1918), Пауль Наторп и другие. Баден-ская школа была представлена ее основателями Генрихом Риккертом (1863–1936) и Вильгельмом Виндельбан-дом (1848–1915), а также их последователями.
Неокантианцы развили тезис Канта о «ноуменальности» субъекта и объекта, углубили концепцию «вещи-в-себе» как реальный предел для применимости «онтологических аргументов». По сути, именно неокантианцы уже формально и осознанно сделали тот шаг, который напрашивался в самой интенции автора «Критики чистого разума» – поставили гносеологию на место онтологии.
Субъективный идеализм с учетом кантовской критики своеобразно развивался в феноменологии Э. Гуссерля, который вслед за Кантом предложил рассматривать «феномен» как нечто самостоятельное и имеющее обоснование в самом себе, без каких-то априорных утверждений о его бытии, небытии, отношении к субъекту или его идентичности, «чтойности» (quidditas). Феноменология предлагает рассматривать явление не в смысле «чтопроисходит?», «с кемпроисходит?», «происходит ли на самом деле?»и т.д., но «какпроисходит то, что происходит». Вынесение за скобки метафизических утверждений и априорий феноменология называет операцией «эпохэ» (по-гречески, «постановка за предел», «отделение», откуда слово «эпоха» – дословно, «нечто выделенное»). Философское внимание фиксируется в зоне между объектом и субъектом, в сфере самого кантовского разума, но при этом ряд кантовских априорий ставится под сомнение и вместо них предлагаются более прагматичные и конкретизированные понятия – «интенция», «темпоральность» и т.д. Последователями феноменологии были Макс Шелер и Мартин Хайдеггер.
М. Хайдеггер, отталкиваясь от феноменологии Э. Гуссерля, уже в «Бытии и времени» выстроил совершенно самобытную философскую теорию Dasein, трактовавшую феноменологию на особый лад и создавшую предпосылки для построения фундаментальной онтологии. Но кантианское влияние на Хайдеггера несомненно, и без учета гносеологических выводов Канта хайдеггеровская философия будет не совсем понятной.
Структурная лингвистика (Ф. де Соссюр)Следующий шаг в подготовке почвы для появления гносеологии постмодерна сделал лингвист Фердинанд де Соссюр. Исследуя в духе неокантианства структуру языка, Соссюр пришел к выводу, что эта структура неразрывно связана со структурой мышления и что, в некоторым смысле, мышление и язык совпадают. Показательно в этом смысле употребление греками термина «логос», обозначавшего одновременно и «язык» и «мышление».
Если в Новое время считалось, что язык служит «техническим» средством для выражения мысли, речи, высказывания, то исследования Соссюра показали, что в значительной мере устройство языка заведомо предполагает то, что на нем высказывается, и более того, смысл высказывания целиком и полностью зависит от устройства языка и языкового контекста.
Кантианство (и особенно неокантианство) показало, что мышление есть не просто поиск соответствия объективно существующей вещи внешнего мира ментальному эквиваленту в форме имени, слова, понятия, но, напротив, мышление учреждает «вещь» на основе своих собственных законов, придает или отнимает у нее признаки и т.д. Мышление в таком случае – это не поиск прямых соответствий, но нечто большее. Это автономные возможности соответствий, порождающие в ходе актуализации те ноуменальные структуры, между которыми эти соответствия устанавливаются, а на следующем этапе волевой импульс (в области практического разума) придает этим ноуменальным «вещам-в-себе» свойства практического опыта.
Соссюр, отождествляя (по-кантиански понятое) мышление с языком, применяет все то же самое к языку. И язык становится в его теории единственной безусловной реальностью, которая предшествует и тому, что этот язык передает (сообщает), и тому, что он описывает, и тому, кто им пользуется. Язык оказывается первичнее субъекта речи (говорящего) и объекта речи (тех вещей, о которых идет речь). Поэтому смысл речи, высказывания расшифровывается не через поиск соответствий между обозначенным в языке и объектом, существующим в «реальном» мире, а через внутреннюю структуру языка, которая через связи и пропорции придает этой речи смысл. Это и становится философской основой структурной лингвистики.
Соссюр разделяет между собой «речь» (la parole) и «язык» (la langue). Речь – это всегда нечто конечное, конкретное и действительное, что использует отдельные возможности языка для построения строго упорядоченных текстов и фраз. Всякая речь как упорядоченная и ограниченная функция от языка может быть рассмотрена как «высказывание» (le discours). Речь развертывается во времени, имеет историю и произносится в контексте. Она имеет в себе конкретную последовательность (синтагму) и общие неизменные правила построения (парадигмы).
Язык же всегда остается только возможным, безграничным, вневременным, и он проявляет себя только через заведомо несовпадающую с ним самим и с его природой речь. Язык предопределяет то, что речь может в себе содержать, а чего не может, а также дает речи смысл, через формирования контекста – из других речей, сказанных параллельно, заранее или тех, которые могли быть произнесены. Таким образом, язык обладает абсолютным бытием, а речь – относительным.
Обозначающее и обозначаемоеВажнейшим выводом из идей Соссюра является пересмотр отношения между обозначающим (sig-nans) и обозначаемым (signatum). «Наивная» (докритическая) философия Нового времени по умолчанию предполагала, – в духе средневекового номинализма, – что в качестве безусловного обозначаемого,имеющего автономное и самодостаточное бытие выступает предмет,объект, вещь (этот «наивный» номинализм сохранился в материалистической философии и в марксизме). Обозначающимслужит «имя», условно данное этому предмету в данном языке, при этом для одного и того же обозначаемого в разных языках могут быть разные «обозначающие», что, на первый взгляд, подтверждает обоснованность такого упрощенного взгляда на теорию знака. Но углубленные исследования языка Соссюром и выводы
Витгенштейна об отсутствии атомарных фактов и необходимости исследовать в первую очередь область логических заключений и их воплощений в языке, привели к убеждению, что смысл «обозначающее» черпает не во внеязыковой сфере самостоятельных объектов, но в структуре внутриязыковых связей. «Обозначающее» не является условным указанием на обозначаемое, но в значительной степени конституируетэто обозначаемое тем, как и в каком контексте оно его обозначает. Вещь без имени (без обозначающего) не имеет смысла,а смысл этот она приобретает не в факте ее простого наблюдения (как полагала докритическая гносеология Нового времени), а в процессе подбора обозначающегои соотношения этого обозначающего с языковым контекстом.
Соссюр так формулирует эту мысль: «Означающее немотивировано, т.е. произвольно по отношению к данному означаемому, с которым у него нет в действительности никакой естественной связи».Постструктуралист Ролан Барт говорит однозначно: «В результате самого прикосновения к тексту... разверзается целая пропасть, которую всякое значение прокладывает между двумя своими сторонами: означающим и означаемым».Философ постмодерна Джеймисон развивает эту мысль: «То, что мы в общем виде называем «означаемым»– значение или понятийное содержание высказывания,– должно рассматриваться, скорее, как видимость значения, объективный мираж... порожденный и сформированный соотношением означающих между собой».
Отсюда рождается «семиотика» (от греческого «знак») – специальная дисциплина в рамках структурной лингвистики, изучающая свойства знаков и знаковых систем, как естественных, так и искусственных. Знак начинает интерпретироваться не как обозначающее некое предполагаемое обозначаемое, а как самостоятельная реальность, проецирующаяся вовнена конституируемое ею же (а не существующее предварительно и автономно) обозначаемое, и вовнутрь,в структуры самого языка, где знак и приобретает смысл или спектр смыслов. Проблема смыслов специально изучается «семантикой». Знак оказывается первичной реальностью и ставится в центре внимания.
От денотата к коннотатуСемиотика различает в любом сообщении или высказывании два уровня денотативный и коннотативный. Денотат(от лат. de-notation – обозначение) отсылает к обозначаемому, т.е. к конституируемому объекту. Коннотат(от позднелатинского connotatio, где con– «вместе» и noto– «отмечаю», «обозначаю») – к культурному и смысловому контексту, в котором это сообщение существует, делается, интерпретируется, воспринимается. Развитие семиотики и в значительной степени построенной на ней структуралистской философии постепенно привело философов к убеждению, что денотативная функция знака второстепенна по отношению к коннотативной функции. А строгое применение неокантианской гносеологии к семиотической проблематике подвело к выводу, что денотата (как такового) нет, и, следовательно, есть только коннотат. «Вещь», о которой повествуется в сообщении, оказывается продуктом пересечения коннотативных связей, которые ее предопределяют с точки зрения смысла, а без смысла сообщения нет. Карл Барт пишет: «Денотация, несмотря на свои референционные претензии, оказывается лишь последней из возможных коннотаций».
Так рождается теория, в которой знак интерпретируется как коннотат по преимуществу, а денотативные функции оказываются второстепенными. Это чрезвычайно важно с точки зрения развития гносеологической проблематики в постмодерне. Идея исчезновения денотата и утверждение коннотативной природы знака – как найденного «атомарного факта» в рамках лингвистической онтологии, который позитивисты не смогли найти в «объективной реальности» (в сфере денотатов) – свела всю гносеологическую проблематику к исследованию знаков и их структурных связей.Но именно гносеология Нового времени предварительно свела к самой себе всю онтологию.
Переход от гносеологии к структурной лингвистике и семиотике, замена теории познания теорией языкав ее структуралистском изложении – с признанием автономности знака и приоритета коннотата – есть отчетливый признак фазового перехода от парадигмы модерна к парадигме постмодерна.Структурная лингвистика, структурализм и постструктурализм и являются постгносеологией.
Язык и постонтологияСтруктурная лингвистика, философски осознанная, дает чрезвычайно важный ключ к пониманию гносеологической и онтологической проблематики в условиях постмодерна. Неокантианцы свели всю онтологию к гносеологии, выделив структуры сознания как единствен ное, что обладает безусловным бытием. Далее Соссюр практически отождествил структуру мышления со структурой языка. И соответственно, в результате мы получили язык как единственное, что обладает безусловным бытием, т.е. при переходе к постмодерну с лингвистикой совпала не только гносеология, но и онтология.Вопрос о бытии стал формулироваться как вопрос о бытии языка, и хайдеггеровская проблематика отношения бытия к сущему нашла свой прямой эквивалент в отношении языка к дискурсу (речи) или тексту.
Единственное в постмодерне, что безусловно есть– это язык (как бытие) и текст (как сущее). Сущее, мир полностью переходит в текст, коренящийся в скрытой за дискурсом стихии языка.
Здесь происходит чрезвычайно важное явление. В модерне онтологическая и гносеологическая проблематика находились на разных полюсах, и гносеология постоянно и неуклонно перенимала на себя онтологические признаки, т.е. вытесняла онтологию, заменяя ее собой. Онтология отступала от гносеологии, сжимаясь к точке бесконечно малого объема. В постмодерне, когда онтологии больше нет вообще (даже в бесконечно малом объеме!), гносеология (точнее, постгносеология) не может больше вытеснять то, чего нет, замещать то, чего нет или бороться с тем, чего нет. Следовательно, при переходе к постгносеологии дуализм модерна снимается, и постгносеология начинает полностью выполнять функции онтологии. Одним словом, постгносеология и постонтология в постмодерне суть одно и то же.
Мы видели, что гносеология в постмодерне полностью переходит в область семиотики (структурной лингвистики), а несколько ранее мы показали, как концепт «реальности» вытесняется виртуальностью. Следовательно, мы можем сформулировать важнейший закон парадигмы постмодерна: «виртуальная реальность» – это «реальность» семиотическая, лингвистическая, текстовая, состоящая из знаков, которые суть одновременно и то, что познает, и то, что познается, и то, что есть, и то, что воспринимается.
Знак выступает как аналог «абсолютного тождества» в гносеологической (и онтологической) парадигме премодерна или как монада Лейбница (на заре парадигмы модерна). Знак, причем оторванный от денотата и в пределе оторванный от коннотативных функций – становится абсолютом, единственным, что можно нащупать в расплывающейся стихии постбытия. Но этот знак перестает обозначать что бы то ни было, он остается один на один с самим собой, обозначая только самого себя, свое тожество, но одновременно и свое нетожество, так как, не имея границ, он может означать вообще все. Коннотативность, поставленная выше денотативности, а потом и вовсе ее отменившая, приводит к тому, что знак настолько в ней растворяется или, наоборот, настолько интегрирует ее в себя, что любой знак начинает обозначать все остальные,утрачивая строгое место во все более игровом, меняющемся и динамизирующемся контексте развертывания постмодерна. Знак,понятый в таком контексте с учетом трансформаций, которые переживает бытие в парадигме постмодерна – есть парадоксальная форма существования ничто.Знак – это ничто (или же пост-все).
По сути, в этом моменте нашего цикла осмысление онтологии и гносеологии смыкаются в едином предмете исследования, и все сказанное о постонтологии может быть в форме cut and paste перенесено в этот раздел. В частности, философию Алексиуса Мейнонга, его «теорию предметов» и принцип «субстистентности» можно рассмотреть и как яркое проявление постгносеологии.
Остановимся, однако, на тех сторонах, которые мы упустили или недостаточно развили в разделе «Постонтология».
Томас Кун, Пол Фейерабенд: к постнаукеНаука являлась приоритетным инструментом познания в модерне, почтиотождествляясь с гносеологией. Это в полной мере было свойственно Декарту, Ньютону или Лейбницу. И даже после Канта и Гегеля философы, занимающиеся теорией познания, обязательно уделяли специальное внимание обоснованию науки, каждый по-своему очерчивая сферы ее компетентности. Кроме того, сама философия в Новое время претендовала на то, чтобы считаться наукой, причем центральной для остальных наук – как гуманитарных, так и естественных. И все же, по мере развития кантианских и особенно неокантианских идей о вещи-в-себе гносеология стала постепенно отделяться от науки в самом строгом смысле, ставя вопрос о том, что такое наука (в первую очередь, позитивная наука), и может ли она и дальше претендовать на то, что ее начала и аксиомы являются выражением совершенных истин относительно устройства природы и мира.
У первых философов Нового времени наука служила доказательством правоты вводимой ими новой парадигмы, а также иллюстрацией эффективности и наглядности применения выводов этой парадигмы к явлениям внешнего мира. Все эти фундаментальные для научной программы Нового времени темы были обобщены в трудах Фрэнсиса Бэкона, который в «Новой Атлантиде» впервые описал образец будущих «Академий Наук» и сформулировал исторический императив науки – «подчинять природу с помощью развития технических средств». Но какое бы первостепенное значение науке ни отводилось, она изначально была производным от философии, т.е. от чисто умозрительных обобщений и построений, и даже стремясь слиться с философией, подкрепляя или опровергая те или иные философские положения, она никогда не утрачивала этой зависимости, этой вторичности.
Кантианская критика не могла не расшатать определенных позитивных (философски «наивных») постулатов науки, а в некоторых случаях научные открытия (например, теория относительности Эйнштейна и квантовая механика Нильса Бора) заставляли пересмотреть и некоторые философские истины об устройстве мира, казавшиеся незыблемыми со времен Галилея, Кеплера и Ньютона. Так, на поздних стадиях модерна между гносеологией и наукой наметился некоторый диссонанс, и философы науки попытались осмыслить эту растущую дистанцию, открыв перспективу постнауки.
Первым серьезным аккордом переосмысления науки на пути к постмодерну стали работы Томаса Куна, который, изучив «структуру научных революций», пришел к выводу, что основные открытия делаются в науке тогда, когда меняется модель пониманиятех или иных реалий.
Раньше позитивисты были убеждены, что накопление знаний происходит из-за количественного и качественного обогащения научных опытов и осмысления их результатов, но Кун продемонстрировал, что количественное накопление не ведет автоматически к открытиям, которые, наоборот, проистекают из того, что он назвал «сменой научных парадигм».
Замечу, что «парадигмы» Кун понимал гораздо более узко, чем мы в данной работе. Речь шла о неком консенсусе академических ученых относительно того, что в данный исторический период считать научными аксиомами, что гипотезами, а что ненаучным «бредом». При этом Кун убедительно продемонстрировал, что подчас все упирается в субъективный фактор нежелания академических кругов всерьез принимать те или иные интеллектуальные теории по совершенно «ненаучным» основаниям – из-за соображений академической карьеры, устоявшихся предрассудков, социального контекста или даже политических идеологий. В любом случае Кун показал, что научные революцию происходят тогда, когда ученые – как правило, вслед за революционным гением-нонконформистом – начинают просто смотреть на проблему новыми глазами. В таком случае, наука оказывается в прямой зависимости от эволюции теории познания, которая и влияет на изменение представлений о природе и мире.
Пол Фейерабенд, другой философ науки, пошел еще дальше, и остроумно показал, что научные опыты и некоторые эксперименты, призванные на заре Нового времени продемонстрировать правоту новой гносеологии (гносеологии модерна), представляли собой прямые подделки и рекламные трюки. Так, Фейерабенд не поленился повторить опыты Галилея, призванные продемонстрировать идею инерции, и убедился, что тот просто недобросовестно подтасовал их результаты. Но для Фейера-бенда это было второстепенно, так как, с его точки зрения, откровенная ложь Галилея способствовала развитию научного мышления и впоследствии дала вполне конкретные результаты. В целом же – совершенно в структуралистском духе – Фейерабенд выдвинул идею, что поле науки есть целиком поле гипотез, и что сама идея «доказательства» всегда несет в себе элемент «рекламы», PR'a или «академического консенсуса» (на грани «заговора ученых»). Поэтому, с его точки зрения, развитие науки следует воспринимать как свободное умножение гипотез, которые не могут рассматриваться как доказанные или недоказанные (истинные или ложные), но которые так или иначе обогащают гносеологическую сферу. Учение Фейерабенда получило название «гносеологического анархизма».
Объединение концепции Т. Куна о научной истине как о социальном консенсусе академических групп с концепцией П. Фейерабенда о желательности неограниченной «пролиферации гипотез» вплотную подводит к понятию «постнауки», которая снова сближается с гносеологией (как на заре Нового времени), но только на новых условиях – на условиях постмодерна.
В постнауке все научные гипотезы сосуществуют и являются равновероятными в виртуальном пространстве. Они становятся элементами языка, по сути дела своеобразными знаками. Прогресс науки отпадает, так как гипотезы выстраиваются не по диахронической линейной логике синтагмы (подтвержденные гипотезы принимаются и развиваются, не подтвержденные отбрасываются), но по синхронической логике парадигмы, в которой даже взаимоисключающие друг друга или опровергнутые опытом гипотезы вполне могут сосуществовать друг с другом, обогащая поле гносеологических (т.е. языковых) возможностей. Разница между наукой и ненаукой стирается, и все сводится только к силе, яркости и напряженности творческого воображения. В каком-то смысле, наука сближается с искусством, если и вовсе не сливается с ним.








