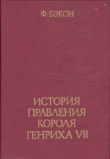Текст книги "Паж герцога Савойского"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 62 страниц)
XII. ЧТО ПРОИЗОШЛО В ОДНОЙ ИЗ КАМЕР МИЛАНСКОЙ КРЕПОСТИ В НОЧЬ С 14 НА 15 НОЯБРЯ 1534 ГОДА
– За несколько минут до девяти часов, – возобновил свой рассказ Одоардо, – тюремщик пришел предупредить графиню, что ей пора уходить. Должны были смениться часовые, и лучше было бы, чтобы часовой, который видел, как она вошла, видел, как она вышла. Разлука была тяжелой, но через три часа они должны были увидеться, чтобы больше не расставаться. Ребенок кричал и плакал, не желая расставаться с отцом; графиня унесла его почти силой. Они прошли мимо часового, и все трое – тюремщик, женщина и ребенок скрылись в глубине темного двора. Оттуда они с бесконечными предосторожностями добрались, никем не замеченные, до жилища тюремщика. Там графиню и ее дочь заперли в одной из комнат, строго наказав не произносить ни единого звука, не делать ни единого движения, поскольку в дом тюремщика в любую минуту мог заглянуть какой-нибудь надзиратель. Графиня и девочка сидели молча и неподвижно: неосторожного движения, произнесенного вполголоса слова было достаточно, чтобы; погубить мужа и отца.
Три часа, отделявшие их от полуночи, показались графине такими же долгими, как предыдущие двое суток. Наконец, тюремщик снова открыл дверь.
«Идемте! « – сказал он так тихо, что графиня и девочка скорее догадались, чем услышали то, что он произнес.
Мать не хотела расставаться с ребенком, чтобы отец перед побегом мог его поцеловать. Впрочем, есть в жизни мгновения, когда за целое царство человек не расстанется с тем, кого любит.
Знала ли она, что может произойти, эта бедная женщина, оспаривавшая жизнь своего мужа у палачей? Может быть, ей тоже придется бежать с мужем или одной, а если придется, то возможно ли ей бежать без своего ребенка?
Тюремщик отодвинул кровать: за ней открылось отверстие в два с половиной фута высотой и два – шириной.
Этого было достаточно, чтобы сквозь него бежали один за другим все узники крепости.
Предшествуемые тюремщиком, мать и дочь вошли в первую камеру, после чего жена тюремщика подвинула кровать, в которой спал ее четырехлетний сын, на обычное место. У тюремщика, как я уже сказал, был ключ от двери, соединявшей камеры; он отпер ее – замок и петли он смазал заранее, – и они очутились в камере графа. За час до; этого графу передали напильник, чтобы перепилить цепь, но он был непривычен к такой работе, да к тому же боялся, что его услышит часовой, ходивший взад-вперед по коридору, а потому успел сделать свою работу только наполовину. Тогда напильник взял тюремщик и, пока граф обнимал жену и дочь, принялся сам пилить цепь. Вдруг он поднял голову и, стоя на одном колене, застыл и стал прислушиваться, опираясь на руку, в которой держал инструмент, и протянув другую руку к двери. Граф хотел задать ему вопрос, но тот произнес:
«Тихо! В крепости происходит что-то необычное!»
«О Боже!» – испуганно прошептала графиня.
«Тихо!» – повторил тюремщик.
Все замолчали и, казалось, даже перестали дышать. Все четверо казались бронзовой скульптурной группой – их фигуры изображали все оттенки страха, от легкого испуга до ужаса. Был слышен мерный шум, он приближался: по-видимому, это были шаги нескольких человек; по размеренности и тяжести поступи было понятно, что среди них есть солдаты.
«Идемте, – сказал тюремщик, хватая в охапку и мать и Дочь и волоча их за собой, – идемте! Это, наверное, ночной дозор или обход коменданта, но в любом случае вас не должны увидеть. Как только досмотрщики выйдут из камеры господина графа – если они сюда войдут, – мы продолжим работу».
Графиня и ее дочь едва сопротивлялись; впрочем, узник сам подталкивал их к двери. Они прошли в соседнюю камеру, и тюремщик запер за ними дверь. Как я уже сказал вашему высочеству, в этой двери было зарешеченное окно, которое выходило в первую камеру и через которое, если приблизиться к нему вплотную, можно было все наблюдать, оставаясь невидимым в темноте.
Графиня держала дочь на руках. И мать и дочь, боясь вздохнуть, приникли к решетке, чтобы видеть, что произойдет.
Сначала они надеялись, что солдаты пришли не за графом, но надежды эти тут же рассеялись. Отряд остановился у дверей камеры, и стало слышно, как в замочной скважине поворачивается ключ. Дверь отворилась. Увидев представившееся ее взору зрелище, графиня чуть не вскрикнула от ужаса, но тюремщик будто предвидел этот крик:
«Ни слова, сударыня, ни звука, ни жеста, что бы ни случилось! Или…»
Он подумал, чем бы запугать графиню, чтобы заставить ее молчать, и, вытащив из-за пазухи узкий острый клинок, произнес:
«… или я заколю вашего ребенка!»
«Негодяй!» – прошептала графиня.
«О! – ответил тюремщик. – Здесь каждый за себя, и в глазах жалкого тюремщика его жизнь стоит жизни благородной графини!»
Графиня зажала рукой рот дочери, чтобы ребенок молчал. В себе же она была уверена и знала, что после угрозы тюремщика не проронит ни звука.
Вот что увидела графиня сквозь прутья решетки и что едва не заставило ее вскрикнуть, если бы не угроза тюремщика.
Впереди шли два человека в черном и несли каждый по факелу; за ними – человек, державший в руках развернутый пергамент, с которого свисала большая красная восковая печать; следом за ним – еще один человек в маске, закутанный в коричневый плащ, и последним шел священник… Они вошли в камеру один за другим, но графиня ни словом, ни движением не выдала своего волнения, хотя в полутьме коридора виднелась еще более зловещая группа. Прямо против двери стоял, опершись обеими руками на рукоять длинного прямого меча без ножен, человек в наполовину черном, наполовину красном костюме; за ним шесть братьев милосердия в черных рясах с капюшонами, прикрывающими лицо, с прорезями для глаз, держали на плечах гроб, а позади поблескивали дула мушкетов стоявших вдоль стены дюжины солдат. Два человека с факелами, человек с пергаментом, человек в маске и священник вошли, как я уже сказал, в камеру, и дверь за ними закрылась, оставив палача, братьев милосердия и солдат в коридоре.
Граф стоял, опершись о стену, и на ее темном фоне отчетливо выделялось его бледное лицо. Он пытался увидеть за решетчатым окном испуганные глаза, которые, он знал, не отрываясь, следят за происходящим. Как ни внезапно и ни безмолвно появились эти люди, он не сомневался в участи, ожидающей его. А если бы, по счастью, он и сомневался, эти сомнения продлились бы недолго.
Те двое, что держали факелы, встали по обе стороны от него; человек в маске и священник остались у дверей, а державший пергамент выступил вперед.
«Граф, – спросил он, – чиста ли ваша совесть пред Богом?»
«Да, насколько это возможно, – спокойно ответил граф, – мне не в чем себя упрекнуть…»
«Тем лучше, – продолжал человек с пергаментом, – поскольку вы осуждены, и я сейчас зачитаю вам ваш смертный приговор».
«Какой суд его вынес?» – насмешливо спросил граф.
«Всевластное правосудие герцога».
«По какому обвинению?»
«По обвинению, выдвинутому августейшим императог ром Карлом Пятым».
«Хорошо… Я готов выслушать приговор».
«На колени, граф! Осужденному на смерть подобает выслушивать приговор на коленях».
«Да, когда приговоренный виновен, но не тогда, когда он невиновен».
«Граф, законы для всех одинаковы: на колени – или мы вынуждены будем применить силу!»
«Попробуйте!» – сказал граф.
«Пусть стоит, – промолвил человек в маске, – только пусть осенит себя крестным знамением, чтобы отдать себя на милость Господню».
При звуке этого голоса граф вздрогнул.
«Герцог Сфорца, – сказал он, повернувшись к человеку в маске, – благодарю тебя!»
«О, если это герцог, – прошептала графиня, – может быть, его можно просить о помиловании!»
«Молчите, сударыня, если вам дорога жизнь вашего ребенка!» – еле слышно произнес тюремщик.
Графиня издала стон; граф услышал его и вздрогнул. Он отважился сделать жест, как бы говоривший: «Мужайтесь», а затем перекрестился, как предложил ему человек в маске, и громко сказал:
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!»
«Аминь!» – прошептали присутствующие.
Тогда человек, державший пергамент, начал читать приговор. Он был вынесен именем Франческо Марии Сфорца по требованию императора Карла Пятого и осуждал Франческо Маравилью, агента короля Франции, на смерть; его надлежало казнить ночью в камере как изменника, шпиона и разглашателя государственных тайн.
В этот момент до ушей графа донесся второй стон, настолько слабый, что он один услышал его, точнее, догадался о нем.
Он взглянул в ту сторону, откуда до него донесся этот горестный вздох. «Хотя приговор герцога несправедлив, – сказал он, – я принимаю его без
волнения и гнева, но все же, поскольку, даже если человек не может защищать свою жизнь, он обязан защищать свою честь, я хочу обжаловать приговор герцога».
«И кому?»
«Моему повелителю и королю Франциску Первому в первую очередь, а затем будущему и Господу Богу! Господу Богу, под чьим судом все люди, а особенно князья, короли и императоры».
«Это единственный суд, которому ты доверяешь?» – спросил человек в маске.
«Да, – ответил граф, – и я назначаю тебе предстать перед ним, герцог Франческо Мария Сфорца!»
«И когда же?» – спросил человек в маске.
«В тот же срок, в какой Жак де Моле, великий магистр ордена тамплиеров, назначил предстать перед судом Господним своему судье, то есть через год и один день. Сегодня пятнадцатое ноября тысяча пятьсот тридцать четвертого года; значит, шестнадцатого ноября тысяча пятьсот тридцать пятого года, герцог Франческо Мария Сфорца, ты меня слышишь?»
И он простер руку в сторону человека в маске в знак вызова и угрозы. Если бы лицо герцога не было прикрыто маской, то несомненно стало бы видно, как он побледнел, ибо, конечно, это был сам герцог, пожелавший присутствовать при агонии своей жертвы. В это мгновение осужденный был победителем, а судья трепетал перед ним.
«Довольно, – сказал герцог, – ты можешь провести четверть часа, что тебе остались до свершения приговора, со святым отцом».
И он указал на священника.
«Постарайся уложиться в четверть часа, потому что тебе не отпущено ни одной минутой больше».
Потом, повернувшись к священнослужителю, он промолвил:
«Отец мой, выполняйте свой долг».
Затем герцог Сфорца вышел, уводя за собой обоих факельщиков и человека с пергаментом.
Но дверь за собой он оставил распахнутой, дабы ему и его солдатам можно было следить за каждым движением осужденного, от которого он отошел из уважения к тайне исповеди на такое расстояние, чтобы до него не доносились голоса.
Из-за решетки снова раздался вздох, заставив затрепетать сердце осужденного. Графиня надеялась, что осужденный и священник останутся наедине, и тогда, может быть – как знать? – мольбы и слезы, вид женщины, умоляющей на коленях спасти ее мужа, и ребенка, умоляющего спасти отца, убедят священнослужителя на секунду отвернуться и позволить графу бежать.
Это была последняя надежда моей матери, но и эта надежда рухнула… Эммануил Филиберт вздрогнул. Временами он забывал, что перед ним сын, рассказывающий о последних мгновениях жизни своего отца, и ему казалось, что он читает страницы какого-то страшного предания.
Но какое-нибудь слово внезапно возвращало его к действительности и заставляло вспомнить, что этот рассказ не вышел из-под холодного пера историка, что это сын повествует о предсмертных минутах родного отца.
– Итак, это была последняя надежда моей матери, но и эта надежда рухнула, – продолжал Одоардо, на минуту прервавший рассказ, когда он увидел, что Эммануил сделал какое-то движение, – поскольку с другой стороны, за дверью, она видела все то же зловещее зрелище, освещенное факелами и чадящими лампами в коридоре, страшное, как видение, и убийственное, как сама действительность. Около графа, как я уже сказал, остался один священник. Граф, не интересуясь, кем ему послан последний утешитель, опустился перед ним на колени. Началась исповедь, исповедь странная, потому что тот, кто должен был сейчас умереть, совсем, по-видимому, не думал о себе, а думал только о других; слова, казалось сказанные священнику, на самом деле предназначались жене и ребенку, и достигали Господа, пройдя через их сердца. Только моя сестра, если она еще жива, могла бы рассказать, как они обе плакали, слушая эту исповедь, потому что меня там не было; я, беззаботный мальчик, не ведавший, что происходило в трехстах льё от меня, играл, смеялся, а может быть, и пел в тот самый миг, когда мой отец на пороге смерти говорил заплаканной жене и дочери о своем отсутствующем сыне. Подавленный воспоминаниями, Одоардо на минуту прервал свой рассказ, потом, подавив вздох, продолжал:
– Четверть часа пролетели быстро. Человек в маске, держа часы в руке, следил за исповедью; когда же пятнадцать минут истекли, он сказал:
«Граф, время твоего пребывания среди живых истекло. Священник свое дело окончил, теперь очередь палача».
Священник отпустил графу грехи, поднялся, потом, подняв перед собой распятие, попятился к двери и дал дорогу палачу, вошедшему в камеру. Граф остался стоять на коленях.
«Есть ли у тебя последние просьбы к герцогу Сфорца или императору Карлу Пятому?» – спросил человек в маске.
«Нет, у меня есть просьбы только к Богу», – ответил граф.
«Значит, ты готов?» – спросил человек в маске.
«Ты же видишь, я стою на коленях».
Граф и в самом деле стоял на коленях лицом к мрачной двери, через решетку которой смотрели на него жена и дочь. Казалось, губы его еще шептали молитву, на самом же деле он шептал им последние слова любви, и это тоже было молитвой.
«Если вы не хотите, чтобы вас осквернила моя рука, граф, – послышался голос позади приговоренного, – отверните сами ворот рубашки. Вы дворянин, и я имею право коснуться вас только лезвием меча».
Граф, не отвечая, отвернул ворот, обнажив шею.
«Препоручите себя Богу!» – сказал палач.
«Господь всеблагой и милосердный, – произнес граф, – Господь всемогущий, в твои руки предаю душу свою!»
Не успел он договорить последнее слово, как во тьме просвистел, блеснув как молния, меч палача, и голова, отделившись от тела казненного, как бы в последнем порыве любви покатилась к зарешеченной двери.
В ту же секунду раздался приглушенный крик и послышался удар падающего тела.
Но присутствующие приняли этот крик за предсмертный хрип казненного, а удар – за шум от падения трупа на плиты камеры…
– Простите, монсеньер, – прервал сам себя Одоардо, – но, если вы хотите знать продолжение, прикажите дать мне стакан воды, – я чувствую, что сейчас потеряю сознание…
Эммануил Филиберт и сам видел, что тот, кто рассказал ему эту ужасную историю, побледнел и покачнулся; он бросился, чтобы поддержать его, усадил на стопу подушек и сам подал ему стакан воды, о чем тот просил.
По лбу принца катились капли пота, и, хотя он был солдат, привыкший к виду поля битвы, ему казалось, что сейчас он сам потеряет сознание вместе с несчастным, которому он оказывал помощь.
Вскоре Одоардо пришел в себя.
– Хотите слушать дальше, монсеньер? – спросил он.
– Я хочу услышать все, сударь, – ответил Эммануил, – для принцев, которым предстоит править, подобные рассказы весьма поучительны.
– Хорошо, – ответил молодой человек, – впрочем, самое страшное уже позади.
Он отер ладонью пот со лба, а может быть, и слезы с глаз и продолжал:
– Когда моя мать пришла в себя, все исчезло как видение, и, если бы она не очнулась на постели привратника, она могла бы подумать, что ей почудился ужасный сон. Она, видимо, строго-настрого наказала моей сестре не плакать из страха, что ее рыдания могут услышать, и поэтому бедная девочка, хотя и думала, что потеряла и отца и мать, смотрела на мать испуганными глазами, из которых текли слезы, но плач ребенка по матери был столь же беззвучен, как и по отцу. Тюремщика в комнате не было, была только его жена; она сжалилась над графиней и переодела ее в свою одежду, а мою сестру – в одежду своего сына, вышла с ними на рассвете и вывела их на дорогу в Новару; там она дала графине два дуката и препоручила ее Богу.
Мою мать, казалось, преследовало страшное видение.
Она не подумала ни возвратиться во дворец за деньгами, ни справиться о карете, ожидавшей графа на случай побега, она обезумела от страха. Единственной ее заботой было спастись – пересечь границу, покинуть земли герцога Сфорца. Она исчезла вместе с ребенком на дороге в Новару, и о ней больше никто ничего не слышал… Что сталось с моей матерью, с моей сестрой? Я ничего об этом не знаю. Весть о смерти моего отца застала меня в Париже. Сообщил мне ее сам король и заявил, что не оставит меня своим покровительством, а за убийство графа отомстит войной.
Я попросил у короля разрешения сопровождать его на эту войну. Вначале фортуна благоприятствовала французскому оружию: мы прошли через земли вашего отца, и король завладел ими, а потом мы прибыли в Милан.
Герцог Сфорца бежал в Рим к папе Павлу Третьему.
Было проведено расследование казни моего отца, но найти кого-либо, кто присутствовал при этом убийстве или участвовал в нем, не удалось. Через три дня после казни внезапно умер палач. Имя секретаря, зачитывавшего приговор, не было никому известно. Священника, исповедовавшего приговоренного, тоже никто не знал. Тюремщик бежал с женой и сыном.
Итак, несмотря на все розыски, я даже не нашел места, где покоилось тело отца. Со времени этих безуспешных поисков прошло двадцать лет, как вдруг я получил письмо из Авиньона.
Человек, подписавшийся лишь инициалом, приглашал меня немедленно приехать в Авиньон, если я хочу получить достоверные и полные сведения относительно смерти моего отца, графа Франческо Маравильи. Он также сообщал мне имя и адрес священника, которому он поручил привести меня к нему, если я откликнусь на его приглашение.
Получив письмо, я понял, что исполнилось мое самое заветное желание; я отправился немедленно и явился прямо к священнику; он был предупрежден и отвел меня к человеку, приславшему мне письмо. Это был тюремщик из миланской крепости. Он знал, где стояла карета со ста тысячами дукатов. Когда он увидел, что отец мой умер, он поддался искушению. Он отнес мою мать на постель, препоручив ее заботам жены, потом спустился со стены по веревочной лестнице, дошел до кареты, сел рядом с кучером, сказав, что пришел от имени моего отца, заколол его и, бросив в ров, продолжил путь в карете.
Добравшись до границы, он взял почтовых лошадей, доехал до Авиньона, продал карету, а поскольку никто и никогда не востребовал ничего из ее содержимого, присвоил сто тысяч дукатов и написал жене и сыну, чтобы они приехали к нему.
Но длань Господня была распростерта над этим человеком. Сначала умерла его жена, а еще через десять лет за женой последовал сын; потом он почувствовал, что близится и его час и придется держать ответ перед Господом за все свои земные дела. Под влиянием этих мыслей о Боге он раскаялся и вспомнил обо мне. Теперь вы понимаете, зачем ему понадобилось меня видеть.
Он хотел мне все рассказать и попросить у меня прощения, но не за смерть отца, потому что здесь он был ни при чем, а за убийство кучера и кражу ста тысяч дукатов. Что касается убитого, то здесь исправить что-либо было невозможно: преступление свершилось и человек был мертв.
Однако что касается ста тысяч дукатов, то тюремщик приобрел на них в Вильнёв-лез-Авиньоне замок и великолепные угодья и жил на доходы с них.
Я заставил его рассказать мне все подробности смерти моего отца, повторив их десять раз. Впрочем, та ночь ему самому показалась настолько ужасной, что ни одна ее подробность не ускользнула от его внимания, и он помнил все так, как если это произошло бы только вчера. К несчастью, о моей матери и сестре он не знал ничего, кроме того, что рассказала ему жена, потерявшая их из виду на дороге в Новару. Должно быть, они умерли от голода или усталости!
Я был богат и не нуждался в увеличении моего состояния, но в один прекрасный день могла найтись моя мать и сестра. Не желая бесчестить этого человека публичным признанием в совершенном им преступлении, я заставил его подписать дарственную на замок и угодья на имя графини Маравильи и ее дочери, и, насколько Господь дал мне силу и власть прощать, я ему простил.
Но на этом мое милосердие кончилось. Франческо Мария Сфорца умер в тысяча пятьсот тридцать пятом году, через год и один день после казни графа, то есть день в день, когда мой отец назначил ему явиться на суд Божий. Следовательно, им уже мне не нужно было заниматься: он был наказан за свою слабость, если не сказать преступление.
Но оставался император Карл Пятый, пребывавший на вершине власти, на пике славы, в апогее благоденствия! Он остался безнаказанным, и я решил покарать его сам.
Вы скажете мне, что те, кто носит скипетр и корону, подсудны только Богу, но иногда Господь, кажется, бывает забывчив.
Тогда о наказании должны помнить люди; я помнил, вот и все. Я только не знал, что император носит под одеждой кольчугу. Он тоже помнил! Вы хотели знать, кто я, и почему я совершил это преступление. Я – Одоардо Маравилья, и я хотел убить императора, потому что по его воле был ночью убит мой отец и умерли от холода и усталости моя мать и сестра!
Я все сказал. Теперь вы знаете правду, монсеньер. Я хотел убить и заслуживаю смерти; но я дворянин и хочу умереть как дворянин.
Эммануил Филиберт наклонил голову в знак согласия.
– Это справедливо, – сказал он, – и ваша просьба будет удовлетворена… Вы хотите остаться свободным до приведения приговора в исполнение? Говоря «остаться свободным», я имею в виду не быть связанным.
– Что для этого нужно сделать?
– Дать мне слово, что вы не будете пытаться бежать.
– Я его вам уже дал.
– Тогда повторите его.
– Я его повторяю. Но, пожалуйста, поторопитесь. Преступление имело свидетелей, я во всем признался. Стоит ли заставлять меня ждать?
– Не мне назначать час смерти человека. Все будет сделано по высочайшей воле императора Карла Пятого.
Потом, вызвав сержанта, Эммануил приказал:
– Отведите этого господина в отдельную палатку, и пусть он ни в чем не терпит нужды. Одного часового при нем достаточно: он дал мне слово дворянина. Ступайте!
Сержант удалился, уводя пленника.
Эммануил Филиберт проводил их глазами до выхода.
Потом он обернулся: ему показалось, что сзади послышался слабый шум.
На пороге второго отделения палатки стояла Леона. Занавес, разделявший помещение, упал за ней.
Шум падающего занавеса и привлек внимание Эммануила Филиберта.
Леона в мольбе сложила руки, и на лице ее были видны следы слез, пролитых во время рассказа арестованного.
– Что ты хочешь? – спросил принц.
– Я хочу сказать тебе, Эммануил, – ответила Леона, – я хочу сказать тебе: нельзя, чтобы этот человек умер!
Эммануил Филиберт нахмурился.
– Леона, – ответил он, – ты не думаешь, о чем просишь. Этот молодой человек виновен в ужасном преступлении, если не в совершении его, то в умысле.
– Неважно, – сказала Леона, обвивая руками шею возлюбленного, – я повторяю тебе, что этот молодой человек не умрет!
– Император решит его участь, Леона. Единственное, что я могу, точнее, что считаю возможным сделать, – это все рассказать императору.
– А я говорю, Эммануил, что если даже император приговорит этого молодого человека к смертной казни, ты добьешься его помилования, разве не так?.
– Леона, ты приписываешь мне такую власть над императором, какой у меня нет. Императорское правосудие идет своей дорогой. И если оно приговорит…
– Пусть приговорит, Одоардо Маравилья должен жить! Ты понимаешь? Так нужно, мой возлюбленный Эммануил!
– И почему так нужно?
– Потому, – ответила Леона, – что это мой брат!.. Эммануил удивленно вскрикнул.
Женщина, умершая от голода и усталости на берегу Сезии, ребенок, упорно хранивший тайну своего рождения и пола, паж, отказавшийся от алмаза Карла V, – все было объяснено тремя сорвавшимися словами Леоны об Одоардо Маравилье: «Это мой брат!»