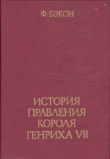Текст книги "Паж герцога Савойского"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 62 страниц)
Но она побоялась воскресить в памяти короля г-жу де Валантинуа и промолчала или, точнее, вернула разговор в прежнее русло.
– И тогда, если я буду регентшей, герцог де Гиз – главным наместником, а кардинал Лотарингский – первым министром королевства, мы берем все на себя.
– Все?.. Что вы хотите сказать этим: «Мы берем все на себя»?
– Разорвать договор, государь, и взять обратно сто девяносто восемь городов, Пьемонт, Брес, Ниццу, Савойю и Миланское герцогство.
– Да, – сказал король, – а я тем временем предстану перед Господом клятвопреступником, не сдержавшим обещания под тем предлогом, что он умирает… Это слишком большой грех, сударыня, и я на это не пойду… Если бы я остался жить, тогда другое дело… У меня было бы время раскаяться.
Потом, повысив голос, он крикнул:
– Господин де Вьейвиль!
– Что вы делаете? – спросила Екатерина.
– Я зову господина де Вьейвиля, ведь он, конечно, не пошел за герцогом Савойским.
– А зачем?
– Чтобы он за ним пошел. .;. Действительно, Вьейвиль услышал, что его зовут и вошел в комнату.
– Господин де Вьейвиль, – сказал король, – вы хорошо сделали, дождавшись второго приказа найти герцога Савойского, поскольку королева просила вас подождать. Так вот, я даю этот второй приказ… Ступайте немедленно, и чтобы через пять минут герцог Савойский и мадам Маргарита были здесь!
Он почувствовал, что слабеет, поискал глазами и увидел врачей: услышав, как он повысил голос, они подошли опять к постели.
– Вы только что дали мне несколько капель какой-то жидкости, вернувшей мне силы… Мне необходимо прожить еще час: пусть мне дадут еще несколько капель.
Везалий взял позолоченную ложку и накапал в нее из склянки пять-шесть капель алой жидкости, а Амбруаз Паре приподнял голову умирающего, просунув руки под подушки, и дал ему возможность проглотить их.
Тем временем г-н де Вьейвиль, не осмеливаясь ослушаться короля, пошел за герцогом Савойским и мадам Маргаритой.
Екатерина осталась стоять около постели; она улыбалась королю, но в сердце ее кипела ярость.
XVI. У КОРОЛЯ ФРАНЦИИ ТОЛЬКО ОДНО СЛОВО
Через пять минут герцог Савойский вошел в одну дверь, а мадам Маргарита – в другую.
Лица молодых людей вспыхнули от радости, когда они увидели, что раненый пришел в себя. И действительно, благодаря почти волшебной жидкости, которую Генриху дали выпить, состояние его, по сравнению с прежним летаргическим оцепенением, в котором они его оставили, заметно улучшилось.
Екатерина отступила на шаг, чтобы освободить Эммануилу и Маргарите место около постели раненого.
Они опустились на колени перед умирающим королем.
– Как хорошо, – сказал Генрих, глядя на них с нежной и грустной улыбкой, – вы так хороши, дети мои… Побудьте здесь.
– О государь, – прошептал Эммануил, – какая надежда!..
– О брат мой, – сказала Маргарита, – какое счастье!
– Да, – сказал Генрих, – счастье уже и то, что сознание ко мне вернулось, и я благодарю за это Господа… Но надежды нет, так не будем рассчитывать на несбыточное и будем действовать со всей возможной поспешностью… Эммануил, возьмите мою сестру за руку.
Эммануил повиновался; правда, рука Маргариты сама потянулась ему навстречу.
– Герцог, – продолжал Генрих, – я желал, чтобы вы женились на Маргарите, еще когда я был здоров… Сегодня, умирая, я не просто желаю этого, я этого требую.
– Государь… – повторил герцог Савойский.
– Добрый мой брат! – воскликнула Маргарита и поцеловала королю руку.
– Послушайте, – продолжал Генрих, придавая своему голосу величайшую торжественность, – послушайте,
Эммануил: вы не только владетельный принц благодаря тому, что я вернул вам ваши провинции; не только благородный дворянин благодаря вашим предкам; но вы еще и честный человек благодаря вашему прямому духу и великодушному сердцу… Эммануил, я обращаюсь к честному человеку.
Эммануил Филиберт поднял свою благородную голову, и в его глазах отразилась вся прямота его души; потом, твердо и нежно, как он это умел, сказал:
– Говорите, государь.
– Эммануил, – продолжал король, – только что подписан мир, для Франции этот мир невыгоден…
Герцог сделал какое-то движение, но король заговорил снова:
– Но это не важно, поскольку он подписан. Этот мир сделал вас союзником и Франции и Испании одновременно; вы двоюродный брат короля Филиппа, но вы становитесь дядей короля Франциска; ваша шпага теперь много тянет на весах, на которых Бог взвешивает судьбу держав; эта шпага разметала мои войска в Сен-Лоранской битве и опрокинула крепостные стены Сен-Кантена. Так вот, заклинаю вас: пусть эта шпага будет столь же справедливой, сколь ее владелец верен, и столь же грозной, сколь он мужествен. Если мир, который подписали король Филипп и я, нарушит Франция, пусть эта шпага обратится против Франции; если этот мир нарушит Испания, то пусть она обратится против Испании… Если бы место коннетабля было свободно, то, Бог мне свидетель, я отдал бы его вам как принцу, женившемуся на моей сестре, как рыцарю, защищающему подступы к моему королевству; к несчастью, это место занято человеком, у которого, может быть, я должен был бы его отобрать, но этот человек, в конце концов, верно мне служил или полагал, что верно служит. Но дело не в этом, вы и так сочтете себя связанным справедливостью и правом; так вот, если справедливость и право будут на стороне Франции, пусть ваши рука и шпага будут за Францию; если справедливость и право будут на стороне Испании, пусть ваши рука и шпага будут против Франции!.. Вы клянетесь мне в этом, герцог Савойский?
Эммануил Филиберт простер к Генриху руку.
– Верным сердцем, взывающим к моей верности, – произнес он, – я клянусь в этом!
Генрих облегченно вздохнул.
– Спасибо, – сказал он.
Спустя минуту, в которую он, кажется, мысленно возблагодарил Бога, он спросил:
– Когда будут выполнены отложенные до сих пор формальности, необходимые для вашего бракосочетания?
– Девятого июля, государь.
– Хорошо, тогда поклянитесь еще и в том, что буду ли я жив или мертв, около моей постели или на моей могиле ваша свадьба будет отпразднована девятого июля.
Маргарита бросила на Эммануила быстрый взгляд, в котором сквозили остатки тревоги.
Но он, наклонив голову к ней и поцеловав ее в лоб как сестру, сказал:
– Государь, примите же вторую клятву, как вы приняли первую… Я с равной торжественностью приношу вам их обе, и пусть Бог накажет меня в равной степени, если я нарушу одну или другую.
Маргарита побледнела и, кажется, была готова упасть в обморок.
В это мгновение кто-то робко и нерешительно приотворил дверь и в щель просунулась голова дофина.
– Кто там? – спросил король, чьи чувства, как это часто бывает у больных, обострились до крайности.
– О! Мой отец говорит! – воскликнул дофин; с него сразу слетела робость, и он бросился в спальню.
Лицо Генриха просветлело.
– Да, сын мой, – ответил он, – и я рад тебе, потому что мне надо тебе сказать нечто важное.
Потом он обратился к герцогу Савойскому:
– Эммануил, ты поцеловал мою сестру, которая будет твоей женой, а теперь поцелуй моего сына, который будет твоим племянником.
Герцог обнял мальчика, нежно прижал к груди и поцеловал в обе щеки.
– Ты помнишь обе клятвы, брат? – спросил король.
– Да, государь, одинаково хорошо и одну и другую, клянусь вам!
– Хорошо… теперь пусть меня оставят вдвоем с дофином.
Эммануил и Маргарита вышли из комнаты.
Но Екатерина осталась стоять на прежнем месте.
– Так что же? – сказал король, обращаясь к ней.
– Что, и я тоже, государь? – спросила Екатерина.
– Да, и вы тоже, сударыня, – ответил король.
– Когда король захочет меня видеть, он позовет меня, – сказала флорентийка.
– Когда наша беседа окончится, вы можете вернуться, позову я вас или нет… Но, – добавил он с грустной улыбкой, – вероятно, не позову, я чувствую огромную слабость… Но вы все равно возвращайтесь.
Екатерина хотела выйти сразу, но потом, видимо, передумала и, обогнув постель, наклонилась и поцеловала руку короля.
Потом она вышла, еще раз обведя комнату умирающего долгим обеспокоенным взглядом.
Хотя король слышал, как за Екатериной затворилась дверь, он выждал мгновение, а потом спросил у дофина:
– Ваша мать вышла, Франциск?
– Да, государь, – ответил дофин.
– Закройте дверь на засов и быстро возвращайтесь, поскольку я чувствую, что последние силы покидают меня.
Франциск поспешно повиновался; он задвинул засов и вернулся к постели короля:
– О государь, Боже мой, вы очень бледны!.. Что я могу для вас сделать?
– Прежде всего позовите врача, – сказал Генрих.
– Господа, быстрее, – крикнул дофин, обращаясь к врачам, – король зовет вас!
Везалий и Амбруаз Паре подошли к постели.
– Вот видите! – сказал Везалий своему собрату, которого он, видимо, предупредил, что королю вот-вот станет хуже.
– Господа, – сказал Генрих, – сил мне! Дайте мне сил!
– Государь… – сказал Везалий, колеблясь.
– У вас нет больше этого эликсира? – спросил умирающий.
– Есть, государь.
– Так в чем же дело?
– Государь, эта жидкость дает вашему величеству только кажущиеся силы.
– Не все ли равно, лишь бы это были силы!
– И злоупотребление ей может сократить жизнь вашего величества.
– Сударь, – прервал его король, – речь уже не идет о продлении моей жизни… Я хочу сказать дофину то, что должен ему сказать, и если с последним словом я умру, – это все, что я прошу.
– Тогда мне нужен приказ вашего величества: я уже сомневался, давая вам этот эликсир во второй раз.
– Дайте мне его третий раз, сударь, я так хочу! – сказал король. Голова его ушла в подушки, глаз закрылся, по лицу разлилась смертельная
бледность: можно было подумать, что он испускает дух.
– Но мой отец умирает, мой отец умирает! – воскликнул дофин.
– Поспешите, Андреас, – сказал Амбруаз, – король очень плох!
– Не бойтесь, король проживет еще три или четыре дня, – ответил Везалий.
И, не пользуясь на этот раз позолоченной ложечкой, он прямо из склянки налил несколько капель в рот короля.
Подействовал эликсир на этот раз медленнее, чем прежде, но не менее разительно.
Не прошло и несколько секунд, как у короля дрогнули лицевые мышцы, кровь, казалось, снова побежала по жилам, зубы разжались и открылся глаз, вначале мутный, но постепенно прояснившийся.
Король вдохнул воздух, или, скорее, вздохнул.
– О, – сказал он, – благодарение Богу… И он поискал взглядом дофина.
– Я здесь, отец мой, – сказал юный принц, на коленях подвигаясь к изголовью постели.
– Паре, – сказал король, – поднимите меня на подушках и положите мою руку ему на шею, чтоб я мог опереться на него, сходя в могилу.
Врачи все еще стояли около постели. Андреас Везалий с ловкостью, которую дает знание строения человеческого тела, подсунул под подушки валики с дивана и поднял Генриха так, чтобы Паре смог уложить вокруг шеи дофина его парализованную руку, уже холодную и безжизненную.
Потом врачи скромно отошли.
Король сделал усилие и его губы коснулись губ сына.
– Отец, – прошептал мальчик, и из глаз его потекли слезы.
– Сын мой, – сказал ему король, – тебе шестнадцать лет, ты мужчина, и я буду говорить с тобой как с мужчиной.
– Государь!..
– Скажу больше: ты король, потому что вряд ли я могу еще на что-нибудь рассчитывать, и я буду говорить с тобой как с королем.
– Говорите, отец! – сказал юноша.
– Сын мой, – продолжал Генрих, – я совершил в своей жизни много ошибок, иногда по слабости, но никогда – из злости или ненависти!
Франциск сделал попытку что-то сказать.
– Дай мне договорить… Мне следует исповедоваться тебе, моему преемнику, чтобы ты их не совершал.
– Если эти ошибки, мой отец, и существуют, – ответил дофин, – то их совершили не вы.
– Нет, дитя мое, я отвечаю за них перед Богом и людьми. Одна из последних и самых больших, – продолжал король, – была совершена по наущению коннетабля и госпожи де Валантинуа. Я был ослеплен, я ничего не понимал… Я прошу у тебя за это прощения, сын мой.
– О государь, государь! – воскликнул дофин.
– И эта ошибка – то, что подписан мир с Испанией… то, что я отдал Пьемонт, Савойю, Брес, Миланское герцогство и сто девяносто восемь крепостей; взамен же Франция получила только Сен-Кантен, Ам и Ле-Катле. Ты слушаешь?
– Да, отец.
– Только что здесь была твоя мать… она меня упрекала за эту ошибку и предлагала свои услуги, чтобы ее исправить…
– Как это, государь, – сказал дофин, встрепенувшись, – ведь вы уже дали слово…
– Правильно, Франциск, правильно, – сказал Генрих, – ошибка велика, но слово дано!.. Франциск, что бы тебе ни говорили, как бы ни настаивали, чем бы ни соблазняли – женщина ли будет умолять тебя в алькове, священник ли просить в исповедальне, прибегнут ли к волшебству и вызовут мой призрак, чтобы заставить тебя поверить, что приказ исходит от меня, – ради чести моего имени, а это слава и твоего имени, заклинаю тебя, ничего не меняй в Като-Камбрезийском договоре, сколь бы неудачен он ни был, не меняй в нем ничего именно потому, что он неудачен, и храни всегда на устах и в сердце изречение короля Иоанна: «У короля Франции только одно слово!»
– Отец, – сказал дофин, – честью вашего имени клянусь: я сделаю так, как вы хотите.
– А если твоя мать будет настаивать?..
– Я скажу ей, государь, что я столько же ваш сын, сколько ее.
– А если она прикажет?
– Я отвечу ей, что я король и что мне следует отдавать приказы, а не получать их.
И при этих словах юный принц выпрямился с величием, какое было свойственно всем Валуа.
– Хорошо, сын мой, хорошо! – сказал Генрих. – Вот что я хотел тебе сказать… А теперь – прощай! Я чувствую, что голос мой едва звучит, глаз закрывается, я слабею… Сын мой, над моим недвижным телом повтори клятву, которую ты только что принес, и пусть она свяжет тебя и с живым и с мертвым… Когда принесешь клятву, а я потеряю сознание, то есть умру, ты можешь отпереть двери твоей матери. Прощай, Франциск, прощай, мой сын… поцелуй меня в последний раз… Государь, вы король Франции!
И Генрих, уронив голову на подушку, остался недвижим.
Франциск, поворотливый, гибкий, как молодой тростник, наклонился вместе с ним, потом выпрямился, торжественно простер руку над неподвижным телом – с этого мгновения его можно было считать мертвым – и сказал:
– Отец! Я торжественно повторяю вам клятву блюсти мир, который вы подписали, сколь бы губителен он ни был для Франции! И ничего не добавлять, и ничего не отнимать от Като-Камбрезийского договора, кто бы и как бы на этом ни настаивал. И да примет Господь мою клятву, как ее приняли вы!.. У короля Франции только одно слово!
И, в последний раз поцеловав бледные и холодные губы отца (на них едва чувствовалось слабое дыхание), он пошел и отпер дверь королеве Екатерине; она неподвижно и прямо стояла на пороге и с нетерпением ожидала конца разговора, на котором ей не разрешено было присутствовать.
Девятого июля, около постели короля, в ком все еще теплилась жизнь, хотя это можно было определить только по слабому дыханию, едва туманившему зеркало, Эммануил Филиберт Савойский торжественно взял в жены Маргариту Французскую, герцогиню Беррийскую; венчал их кардинал Лотарингский, и весь двор присутствовал при церемонии. Закончилось это венчание при свете факелов немного после полуночи в церкви святого Павла.
На следующий день, 10 июля, около четырех часов пополудни – то есть в тот же час, в какой за десять дней до этого он был так злосчастно ранен графом Монтгомери – король испустил последний вздох: совершенно незаметно, как это и предсказывал Андреас Везалий.
Ему было сорок лет, три месяца и десять дней, и он процарствовал двенадцать лет и три месяца.
Он превзошел своего отца в том, что, мертвый, сдержал данное им Филиппу II слово, тогда как его отец, живой, не сдержал слово, данное им Карлу V.
В тот же день г-жа де Валантинуа, остававшаяся до последнего вздоха короля в Турнельском дворце, покинула его и уехала в свой замок Ане.
В тот же вечер весь двор переехал обратно в Лувр. Около тела короля остались оба врача и четыре священника: врачи, чтобы его набальзамировать, священники, чтобы читать над ним молитвы.
У наружных дверей встретились Екатерина Медичи и Мария Стюарт. Екатерина, привыкшая за двенадцать лет, что ей все уступают дорогу,
хотела пройти первой, но вдруг остановилась, потом сделала шаг назад и со вздохом сказала Марии Стюарт:
– Проходите, сударыня, вы – королева!
XVII. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ВЫПОЛНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Генрих II умер как настоящий король Франции, приподнявшись на смертном ложе, чтобы сдержать свои обещания.
Третьего июля 1559 года были отправлены королевские грамоты, по которым Эммануилу Филиберту возвращались его земли.
Чтобы вступить во владения ими, герцог тут же послал трех сеньоров, оставшихся ему верными в превратностях его судьбы. Это были его главный наместник в Пьемонте – Амадей де Вальперг, главный наместник в Савойе – маршал Шатам и главный наместник в Бресе – Филиберт де ла Бом, сеньор де Монфальконе.
Верность Генриха II слову привела в отчаяние всю французскую знать, голосом которой стал Брантом.
«Это дело, – пишет летописец, – было вынесено на обсуждение и вызвало много споров в совете. Одни считали, что Франциск II вовсе не обязан выполнять обещания, данные отцом, особенно по отношению к более слабой державе; другие держались мнения, что следует подождать совершеннолетия юного короля, что герцогиня Савойская и так принесла мужу слишком много благ и что выдать замуж десять дочерей Франции стоило бы короне меньше, чем ее одну.
Потому что, – добавляет сир де Брантом, – больший обязан быть щедр по отношению к равному, но не по отношению к меньшему. Больший выделяет долю, а меньший должен довольствоваться тем, что благоволит дать ему сильнейший, и этот последний вправе поступать так, как ему удобно».
Мораль, как вы видим, была проста и допускала широкие толкования. В наши дни ею тоже пользуются, но стараются не подводить под нее теорию.
Поэтому французы, занявшие Пьемонт двадцать три года тому назад, ни за что не хотели из него уходить и чуть не взбунтовались против королевского приказа.
Маршалу Бурдийону пришлось трижды посылать приказ освободить крепости, и все же, прежде чем передать их пьемонтским офицерам, он потребовал, чтобы этот приказ зарегистрировал Парламент.
Что же до Эммануила Филиберта, то, как бы ему ни хотелось вернуться в свои владения, его еще удерживали во Франции некоторые неотложные дела.
Прежде всего нужно было поехать в Брюссель, проститься с королем Филиппом II и сложить с себя наместничество над Нидерландами.
Филипп II назначил правительницей Нидерландов вместо Эммануила Филиберта свою незаконнорожденную сестру Маргариту Австрийскую, герцогиню Пармскую; потом, поскольку он уже давно отсутствовал в Испании, король решил туда вернуться вместе со своей молодой женой.
Эммануил Филиберт заявил, что расстанется с Филиппом II только тогда, когда, по его выражению, ему недостанет земли, чтобы за ним следовать, а потому проводил его до Мидделбурга, где 25 августа король и взошел на борт корабля.
Эммануил Филиберт вернулся в Париж, чтобы присутствовать на коронации юного короля.
А юный король в это время со всем двором отправился в замок Виллер-Котре, намереваясь якобы там отдохнуть, а на самом деле – чтобы развлекаться без помех: отцы, которые оставляют в наследство трон, редко оставляют по себе долгие сожаления.
«Король, – пишет г-н де Монпленшан, один из историков Эммануила Филиберта, – отправился поразвлечься в замок Виллер-Котре и взял с собой герцога Савойского, своего дядю, который там заболел лихорадкой».
Строительство замка Виллер-Котре, начатое при Франциске I, было только что завершено при Генрихе П. На фасаде, обращенном к церкви, и сейчас еще виден вензель Генриха II и Екатерины Медичи в окружении трех полумесяцев Дианы де Пуатье – странный союз! Это присоединение любовницы к супружеской жизни, казалось, однако, менее странным в то время, чем в нынешнее.
Добрая принцесса Маргарита, обожавшая своего красавца-герцога, сама сделалась его сиделкой, не желая, чтобы он принимал что бы то ни было из чьих-либо рук, кроме ее. На счастье, лихорадка герцога объяснялась усталостью и сожалениями о прошлом: Эммануил Филиберт обрел свое суверенное герцогство, но потерял сердце своего сердца. Леона вернулась в Савойю и в деревне Оледжо ждала 17 ноября – дня, в который они обещали друг другу видеться каждый год.
Наконец, могущественная фея, именуемая молодостью, победила болезнь; лихорадка исчезла вместе с последним лучом летнего солнца; 21 сентября герцог Эммануил смог сопровождать в Реймс юного короля Франциска и королеву Марию Стюарт (им обоим вместе тогда было тридцать четыре года) и присутствовать при их коронации.
Когда Господь взглянул во время церемонии на своего помазанника, то ему, наверное, стало жалко этого короля, которому предстояло прожить еще один год и умереть странной смертью, и эту королеву, которой пришлось прожить двадцать лет в плену и умереть кровавой смертью.
В другой книге, первые главы которой уже готовы note 49Note49
«Предсказание». (Примеч. автора.)
[Закрыть], мы постараемся описать это царствование, продолжавшееся четыре месяца и двадцать пять дней и вместившее столько событий.
Когда прошла коронация и король с королевой вернулись в Париж, Эммануил Филиберт счел свой долг по отношению к ним выполненным и простился со своим французским племянником, как прежде простился со своим испанским кузеном, чтобы вернуться в свое герцогство, где он столько лет не бывал.
Герцогиня Маргарита проводила мужа до Лиона, но там они расстались. Несчастное Савойское герцогство после двадцати трех лет иностранной оккупации, должно быть, находилось в ужасном состоянии, и герцог Эммануил испытывал естественное желание хоть немного привести свое государство в порядок, прежде чем показать его жене; к тому же приближался ноябрь, а с тех пор как он расстался с Леоной в Экуане, в его глазах стояла светлая дата 17 ноября – так кормчий не отрывает взгляда от единственной звезды, что светит в небе, затянутом тучами в ненастную ночь.
Шанка-Ферро проводил герцогиню обратно в Париж, а герцог, совершив краткую поездку в Брес, вернулся в Лион и поплыл на корабле вниз по Роне, где чуть было не погиб во время бури; он сошел на берег в Авиньоне и отправился в Марсель; в этом городе его ждал отряд савойских дворян под предводительством Андреа де Прована.
Этим храбрым дворянам, остававшимся всегда верными герцогу, не терпелось: они не смогли дождаться его возвращения и приехали встречать его, спеша засвидетельствовать свою преданность.
Во время праздников, которые Марсель дал в честь герцога Савойе кого, Эммануил Филиберт получил знак внимания от короля: Франциск II прислал своему дяде цепь ордена Святого Михаила. Впрочем, это не был такой уж редкий подарок: от короля Франции только что получили этот орден восемнадцать человек; среди них были и случайные люди, но двенадцать имели несомненные заслуги. «А потому эту цепь называли, – пишет историк, у кого мы заимствуем эти подробности, – ошейником для разных зверей!» Но герцог со своей обычной учтивостью взял ее, поцеловал и сказал:
– Все, что исходит от моего племянника, мне дорого, все, что исходит от короля Франции, для меня бесценно!
И он тут же надел его на шею вместе с орденом Золотого Руна, дабы показать, что одинаково ценит подарки короля Испании и короля Франции.
Из Марселя герцог отплыл в Ниццу. Ницца была единственным городом, оставшимся ему верным, когда он потерял все другие или когда все другие его покинули. Слово «Ницца» значит «Победа», а потому писатели того времени, великие остроумцы, не преминули сказать, что Победа осталась верной герцогу во всех его несчастьях.
С какой великой радостью и в то же время с какой великой гордостью появился Эммануил, будучи взрослым мужчиной, государем и победителем, в этом замке, видевшем его когда-то слабым ребенком и беглецом. Но мы не будем описывать его ощущений: еще не нашлось ученого, который бы взялся писать историю чувств.
Приехав в город, он получил донесения оставшихся ему верных людей из Пьемонта, Бреса и Савойи и только тогда смог составить себе представление о положении всех трех провинций: страна была разорена.
Заальпийские провинции, включенные в территорию Франции, имели незащищенные границы и разделялись надвое владениями герцога Немурского, зависимого от Франции.
Это были последствия политики Франциска I.
Франциск I, чтобы отделить от Карла III, отца Эммануила, даже самых близких его родственников, призвал к себе его младшего брата Филиппа, чьи владения занимали почти половину Савойи; потом он женил его на Шарлотте Орлеанской и пожаловал ему герцогство Немурское. Читатель, вероятно, помнит, что мы встречали в Сен-Жермене Жака де Немура, сына Филиппа, и что он был всецело предан интересам Франции.
С другой стороны, бернцы и валезанцы оспаривали у Эммануила Филиберта земли у озера Леман, которые они отобрали у его отца, и, поскольку их поддерживала Женева, этот очаг независимости и ереси, было очевидно, что с ними придется вести переговоры.
Кроме того, все крепости в Пьемонте, Бресе и Савойе мешали французам и были ими уничтожены, кроме крепостей тех пяти городов, где они должны были держать гарнизоны вплоть до рождения принцессой Маргаритой сына. Кроме того, французы определяли сумму налогов и взимали их, а следовательно, казна была пуста, вся обстановка герцогских дворцов разграблена, а что касается драгоценностей короны и наследственных драгоценностей, то герцог обратил в деньги все, чем он не дорожил, и передал в руки ростовщиков то, чем он дорожил, в надежде когда-нибудь это вернуть.
Чтобы противостоять этой нищете герцог сумел привезти с собой только пятьсот-шестьсот тысяч золотых экю, причем туда входила часть приданого принцессы Маргариты и выкупы Монморанси и Дандело.
Безусловно, отлучка и несчастья возымели свое обычное действие, уничтожив все привязанности и заставив забыть все долги: знать, не видевшая Эммануила с его детства, забыла своего герцога и превратилась в некую вольницу. Такое часто происходило в пятнадцатом и шестнадцатом веках, причем это случалось и с могущественными и почитаемыми государями, и тем более с теми, кто не мог защитить себя и уж, разумеется, поддержать и защитить других.
Так, например, Филипп де Коммин покинул герцога Бургундского и перешел к Людовику XI; Таннеги дю Шатель и виконт де Роган, подданные герцога Бретонского, стали служить Франции, а Дюрфе, подданный французского короля, наоборот, перешел к герцогу Бретонскому.
И более того, многие дворяне, оставаясь савойцами, получали жалованье от короля Франциска или от короля Филиппа и носили французскую или испанскую перевязь, и, если сильных мира сего разъедала, словно сердечная проказа, неблагодарность, то слабыми владело равнодушие и забвение.
Дело в том, что пьемонтские города мало-помалу свыклись с присутствием французов. Впрочем, победители вели себя довольно скромно: подати взимались в строго необходимом размере, никакой местной полиции не существовало, и каждый мог жить по своему разумению; большая часть должностей продавалась, и чиновники, спеша вернуть себе затраченное, почти не преследовали хищений, сами подавая пример в этом.
У Брантома по этому поводу мы читаем:
«Во времена Людовика XII и Франциска I в Италии не было ни одного наместника и губернатора провинции, кто бы, пробыв два-три года в своей должности, не заслужил, чтобы ему за его лихоимства и вымогательства отрубили голову. Без всех неблаговидных дел и великих несправедливостей, что мы там совершили, Миланское герцогство осталось бы за нами, а так мы потеряли все!»
Из этого следовало, что все, кто был предан своим государям, находились в тени или опале, потому что оставаться верным Эммануилу Филиберту, генералу воюющих с Францией австрийской, фламандской и испанской армий, значило открыто признать французов врагами и угнетателями.
Те несколько дней, что он провел в Ницце, были сплошным праздником: дети, увидевшие отца после долгого отсутствия, отец, увидевший детей, которых он считал потерянными, не выражают свою радость и свою любовь более нежно! Эммануил Филиберт положил в сокровищницу крепости триста тысяч золотых экю на восстановление городских стен и на то, чтобы заложить на скалистом хребте, отделяющем порт Вильфранш от порта Лимпия, замок Монталбан, который, из-за его малых размеров, венецианский посол Липпомано называл объемной моделью настоящей крепости. Потом герцог отправился в Кони – город, вместе с Ниццей оставшийся ему самым верным, и, чтобы сохранить эту верность, когда не хватало пушек, отливший их за счет городской казны. Эммануил вознаградил Кони: герб города был разделен на четыре части белым крестом Савойи, а горожане получили право называться гражданами.
Ноу него были и более важные заботы: точно так же как во Франции были гугеноты, принесшие стране немало потрясений в царствование Франциска II и Карла IX, у Эммануила были реформаты в Пьемонтских Альпах.
Женева с 1535 года приняла лютеранство и вскоре стала главным оплотом учеников Кальвина, но Альпийский Израиль существовал с десятого века.
Около середины десятого века эры Христовой, по традиции считавшегося последним веком перед концом света, когда полмира дрожало от страха, предчувствуя этот конец, в Италии появилось несколько христианских семейств с Востока, ведущих свой род от павликиан – секты, которая отделилась от манихеев. Из Италии, где их называли paterini, откуда произошло название патарены, они проникли в долины Прагелато, Люцерна и Сен-Мартена.
Они прижились в отдаленных ущельях, как дикие цветы, и жили в чистоте и простоте, никому не ведомые, в горных расщелинах, никому, как они полагали, не доступных. Душа их была свободна, как птица в небесной лазури, а совесть чиста, как снега на вершинах гор Роза и Визо, этих европейских сестер гор Фавор и Синай. Патарены не признавали основателем своего вероучения ни одного из новейших ересиархов: они утверждали, что доктрина церкви первых веков сохранилось у них во всей своей чистоте; ковчег Господень, говорили они, покоится на горах, где они живут, и, в то время как римскую церковь захватывает волна заблуждений, среди них продолжает гореть божественный факел. Поэтому они называли себя не реформатами, а реформаторами.
И в самом деле, эта церковь с очень строгими нравами (ее приверженцы носили платье без шва, как у Христа) свято сохраняла дух, обычаи и обряды первых христиан. Ее законом было Евангелие, а культ, проистекавший из этого закона, был самым простым из всех существовавших в человеческом обществе: члены общины были связаны братской любовью и собирались только для совместной молитвы. Единственным их преступлением – а чтобы преследовать этих людей, следовало обвинить их в каком-то преступлении! – было то, что они утверждали, будто Константин, дав папам огромные богатства, развратил христианское общество; утверждая это, они опирались на два изречения Христа: первое – «Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову», и второе – «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». И это преступление навлекло на них преследования только что созданной инквизиции.