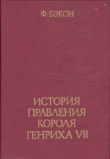Текст книги "Паж герцога Савойского"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 62 страниц)
Однако ныне, помимо недостатка сил, испытываемого мною, меня одолевают усилившиеся приступы болезни. К счастью, в ту минуту, когда Бог отнял у меня мою мать, мой сын вступил в возраст, когда он уже может управлять. Теперь, когда силы мне изменили и я близок к смерти, мне не приходится выбирать между жаждой власти и благом и покоем моих подданных. Вместо немощного старика, чья лучшая часть уже сошла в могилу, я оставляю вам полного сил правителя, снискавшего уважение в расцвете молодости и добродетелей. Поклянитесь же в том, что вы сохраните к нему ту же любовь и верность, с какими вы относились ко мне, честно храня их. Особенно же берегитесь ересей, ибо они окружают вас со всех сторон и нарушают ваше братство, которое должно вас объединять, а если вы увидите, что они произросли среди вас, поспешите вырвать их с корнем и отбросьте как можно дальше.
А теперь еще несколько последних слов о себе; к уже сказанному добавлю, что я совершил много ошибок: то ли по невежеству в юности, то ли из гордости – в зрелом возрасте, то ли из-за прочих слабостей, свойственных человеческой природе. И, тем не менее, заявляю здесь, что никогда умышленно сознательно и по собственному желанию не наносил кому-либо оскорбления и ни над кем не совершил насилия, но когда такое совершалось и я об этом узнавал, то всегда возмещал за это, как сейчас на глазах всех сделаю это по отношению к лицу, присутствующему здесь, и прошу ожидать этого возмещения с терпением и милосердием.
И обращаясь к дону Филиппу, который по окончании его речи бросился ему в ноги, он произнес:
– Сын мой, если бы вы стали владетелем стольких королевств и провинций только после моей смерти, то и в этом случае, несомненно, я заслужил бы от вас благодарность уже лишь за то, что оставил столь богатое и умноженное моими трудами достояние. Но, поскольку это богатейшее наследство сегодня досталось вам не вследствие моей смерти, а по моей собственной воле, поскольку ваш отец пожелал умереть прежде, чем тело его будет опущено в могилу, чтобы вы еще при его жизни могли пользоваться благами от этого наследства, прошу вас – и я имею право просить вас об этом, – отдать любви к вашим подданным и заботам о них все, что вам кажется, вы должны мне, ибо я ускорил ваше вступление во власть.
Другие короли радуются тому, что дали жизнь детям и оставили им королевство; я хотел отнять у смерти честь сделать вам этот подарок, надеясь получить двойное удовольствие: подарив вам жизнь, подарить и корону. Немногие захотят последовать моему примеру, как немногие в прошлые века оставили нам примеры, достойные подражания; но, во всяком случае, меня одобрят, когда увидят, что ваши первые шаги сделают вас достойными этих примеров; и успехи ваши умножатся, сын мой, если вы сохраните мудрость, присущую вам до сих пор, если в душе вашей будет обитать страх Божий, если вы будете защищать католическую религию, правосудие и законы, составляющие самую мощную силу и надежную опору государства. И наконец мне остается пожелать, чтобы вы были счастливы в детях и могли бы передать им свою власть и могущество свободно и без всякого принуждения, как это делаю я!
Произнеся последние слова, то ли потому, что он действительно закончил речь, то ли от волнения Карл V замолчал; положив руку на голову стоявшего перед ним на коленях сына, он в тишине застыл на мгновение неподвижно, и только слезы обильно струились по его лицу.
После минуты молчания, еще более выразительной, чем произнесенная им речь, силы, по-видимому, готовы были ему изменить; он протянул руку к своей сестре, в то время как дон Филипп, поднявшись с колен, обнял его, чтобы поддержать.
А королева Мария вынула из кармана хрустальный пузырек, наполненный какой-то розовой жидкостью, вылила его содержимое в маленькую золотую чашу и поднесла ее императору.
Пока император пил, все собрание шумно волновалось. Среди присутствующих мало нашлось людей, близких к трону или далеких от него, чьи сердца не были бы тронуты, чьи глаза не заволокли бы слезы.
Это действительно было потрясающее зрелище, преподанное миру: властитель, воитель, цезарь, после сорока лет обладания такой властью, какую мало кому из людей давало Провидение, добровольно сошел с трона и, устав телом и обессилев духом, вслух признал перед своим наследником тщету земного величия.
Но присутствующих ждало еще более величественное зрелище, обещанное императором. Это было зрелище покаяния человека, публично признающего совершенную ошибку и просящего прощения у того, кому она нанесла вред.
Император понял, что именно этого от него ждут, и, собрав все свои силы, осторожно отстранил от себя сына.
Присутствующие увидели, что он собирается снова заговорить, и умолкли.
– Дорогие друзья, – сказал император, – я только что обещал при всех дать возмещение человеку, которому нанес обиду. Будьте же все свидетелями: после того как я похвалялся тем, что почитал своими добрыми делами, я повинил себя в совершенном мною зле.
И он повернулся к незнакомцу в великолепных одеждах, на которого уже давно все обратили внимание.
– Одоардо Маравилья, – сказал он твердым голосом, – подойдите.
Молодой человек, к которому было обращено это приглашение, сделанное столь категорично, побледнел и, пошатываясь, подошел к Карлу V.
– Граф, – сказал ему император, – я причинил вам вольно или невольно великое горе. Ваш отец был жестоко умерщвлен в миланской тюрьме. Когда я вспоминал об этом, он представлялся мне в дымке сомнений. Теперь покойный является мне как призрак, облаченный в саван из угрызений совести. Граф Маравилья, перед лицом всех, на виду у людей и Бога, в ту минуту, когда я снимаю с себя императорскую мантию, уже тридцать шесть лет обременяющую мои плечи, я смиренно склоняюсь перед вами и прошу вас не только простить меня, но и быть моим заступником пред Господом, который скорее снизойдет к настояниям жертвы, чем к мольбам убийцы.
Одоардо Маравилья вскрикнул и упал на колени.
– Великий император, – сказал он, – тебя недаром весь мир зовет Августом. О да, я прощаю тебя от своего имени и от имени моего отца! Да, Бог простит тебя! Но у кого, августейший император, должен просить прощения я, если я сам больше не могу простить себя?
Поднявшись с колен и оборачиваясь к присутствующим, он продолжил:
– Господа, вы видите перед собой человека, который хотел убить императора и которого император не только простил, но и попросил у него прощения. Король дон Филипп, – добавил он, склонившись в поклоне перед тем, кого отныне следовало называть Филиппом II, – убийца отдает себя в ваши руки.
– Сын мой, – промолвил Карл V, которому силы изменили во второй раз, – поручаю вам этого человека: пусть его жизнь будет для вас священна!
И он почти без сознания упал в кресло.
– О, мой возлюбленный Эммануил, – прошептал паж герцога Савойского, проскользнувший к своему господину благодаря тому, что обморок императора произвел некоторую суматоху в зале, – как ты добр, как ты велик! Насколько во всем, что сейчас произошло, я узнаю тебя!
И прежде чем Эммануил Филиберт успел этому воспротивиться, Леоне – Леона с переполненным сердцем и со слезами на глазах поцеловала ему руку почти настолько же с почтением, насколько с любовью.
Церемония, на минуту прерванная неожиданным событием, о котором только что было рассказано и которое было одним из самых трогательных в этот торжественный день, должна была возобновиться, ибо, чтобы отречение было полным, после того как Карл V отдал корону, Филипп II должен был ее принять.
Филипп, жестом обещав выполнить просьбу отца, снова смиренно склонился перед ним и по-испански – на языке, на котором многие из присутствующих не говорили, но который почти все понимали – ответил, и в голосе его в первый раз послышалось какое-то волнение:
– Я не заслужил и не надеялся никогда заслужить, о непобедимейший император и мой добрейший отец, такую горячую отцовскую любовь, какой, конечно, и в мире никогда не было, а если и была, то она никогда не приводила к подобным итогам, и это одновременно наполняет меня смущением из-за моих столь малых достоинств и гордостью и уважением перед вашим величием. Но, поскольку вам было угодно благодаря вашей августейшей доброте обойтись со мной столь нежно и великодушно, проявите такую же доброту, мой дражайший отец, и пребудьте в убеждении, что я со своей стороны сделаю все от меня зависящее, чтобы ваша ко мне милость была одобрена всеми и всем приятна, и буду стараться управлять так, чтобы штаты смогли убедиться в привязанности, какую я всегда к ним питал.
С этими словами он несколько раз поцеловал руку своего отца, а тот, прижимая его к сердцу, сказал:
– Да ниспошлет тебе Небо, мой дорогой сын, драгоценнейшее из своих благословений и свое божественное содействие.
Тут дон Филипп последний раз прижал к губам руку отца, вытер с глаз скорее всего отсутствующую слезинку, поднялся, повернулся к представителям штатов, поклонился им, держа шляпу в руке – все в зале были с обнаженными головами, сидел и оставался в шляпе только император, – и произнес по-французски несколько слов (мы передаем их точно, чтобы не упустить ни одного оттенка).
– Господа, чтобы полнее выразить благоволение и любовь, что я к вам испытываю, я хотел бы лучше говорить на языке этой страны, чем я это умею, но, поскольку моего умения недостаточно, я поручаю это епископу Аррасскому: он сделает это за меня.
Тотчас же Антуан Перрено де Гранвель, тот самый, кто позже стал кардиналом, взял слово и, передавая чувства государя, стал всячески превозносить старание дона Филиппа о благе своих подданных и его решимость следовать во всем мудрым и добрым наставлениям, данным ему императором.
Потом в свою очередь поднялась королева Мария, сестра императора, управлявшая Нидерландами двадцать шесть лет, и в нескольких словах передала в руки племянника управление страной.
После этого король дон Филипп поклялся соблюдать права и привилегии своих подданных, а все члены ассамблеи, принцы, гранды Испании, рыцари ордена Золотого Руна, представители штатов от своего имени или от имени тех, кого они представляли, поклялись ему в повиновении.
Когда обе клятвы были произнесены, Карл V поднялся, усадил короля дона Филиппа на свой трон, возложил ему на голову корону и громко сказал:
– Боже мой, сделай так, чтобы корона не стала для твоего избранника терновым венцом!
Потом он сделал шаг к двери.
И тут же дон Филипп, принц Оранский, Эммануил Филиберт и другие принцы и вельможи, сколько их там было, кинулись к нему, чтобы его поддержать, но он сделал знак Маравилье, и тот подошел к нему нерешительно, ибо не понимал, чего хочет от него император.
А император хотел, уходя, опереться на плечо того самого Маравильи, отца которого он приговорил к казни и который во искупление этого кровавого злодеяния хотел убить его.
Но другая рука императора безжизненно висела вдоль его тела.
– Государь, – сказал Эммануил Филиберт, – позвольте моему пажу Леоне быть второй опорой вашего величества, и честь, которую вы ему окажете, я буду считать оказанной мне.
И он подтолкнул Леоне к императору. Карл посмотрел на пажа и узнал его.
– А! – воскликнул он, поднимая руку, чтобы опереться на подставленное ему плечо. – Это тот молодой человек с алмазом?.. Значит, ты хочешь помириться со мной, красавец-паж?
И, посмотрев на свою руку, на которой из-за болей он оставил только одно золотое кольцо на мизинце, он сказал:
– Ты много потерял, красавец-паж, оттого что так долго ждал, и вместо алмаза получишь это простое кольцо. Правда, оно с моим вензелем; может быть, это послужит тебе возмещением.
И, сняв с мизинца кольцо, он надел его Леоне на большой палец, поскольку с любого другого на этой изящной руке оно бы упало.
Потом он вышел из зала, сопровождаемый любопытными взглядами и приветственными криками. Но взгляды были бы еще любопытнее, а возгласы громче, если бы присутствующие могли догадаться, что этот император, сошедший с трона, христианин, идущий к уединению, грешник, склонившийся от прощения, движется к своей уже близкой могиле, опираясь не только на сына, но и на дочь несчастного Франческо Маравильи, кого он, в одну мрачную сентябрьскую ночь, двадцать лет тому назад, приказал казнить в камере миланского замка.
Это шло само раскаяние, поддержанное молитвой, то есть это было зрелище, по словам Иисуса Христа, наиболее угодное на земле в глазах Господа.
Дойдя до расположенной в стороне уличной двери, где его ожидал мул, на котором он приехал, император не захотел, чтобы молодые люди его провожали, и отослал Одоардо к его новому господину дону Филиппу, а Леоне – к его старому хозяину Эммануилу Филиберту.
А затем без всякой охраны, без всякой свиты, предшествуемый только конюхом, ведшим в поводу смирное животное, он поехал к своему домику в Парке, так что ни один человек, встретивший его на темной дороге, не узнал бы в этом скромном путнике того, чье отречение в эту минуту занимало весь Брюссель и вскоре должно было занять весь мир.
Доехав до ворот домика в Парке, стоявшего на том месте, где теперь разместился дворец палаты представителей, Карл V увидел, что решетка не заперта.
Конюху осталось только толкнуть ее, и мул, всадник и слуга оказались во дворе.
Тогда, подведя мула по приказу императора как можно ближе к дверям дома, чтобы путь до гостиной был как можно короче, конюх снял его с седла и отнес на порог.
Дверь дома тоже была открыта.
Император, поглощенный размышлениями, которые нашему читателю легче представить, чем нам пересказать, не обратил внимания на это обстоятельство. Опираясь одной рукой на палку, стоявшую там, где он оставил ее два часа назад, то есть за дверью, а другой – на слугу, он доковылял до гостиной: стены ее были обиты для тепла тканью, пол устлан толстым ковром, а в камине горел яркий огонь.
Гостиная была освещена только языками пламени, жадно вившегося вокруг поленьев, пожирая их; но полутьма больше, чем яркий свет, соответствовала настроению, в каком пребывал августейший император.
Он лег на кушетку и, отослав конюха, снова стал вспоминать события своей жизни, наполнившие полвека – и какие полвека! – когда жили Генрих VIII, Максимилиан, Климент VII, Франциск I, Сулейман и Лютер. Он старался припомнить весь пройденный путь, поднимаясь по течению лет, словно путешественник, что в конце жизни поднимается вверх по реке с цветущими и благоуханными берегами, по которой он спускался вниз в дни своей молодости.
Это было длинное, прекрасное и чудесное путешествие; он двигался среди поклонов придворных, приветственных криков и коленопреклоненных толп, сбежавшихся посмотреть на избранника судьбы.
Вдруг, посреди видений, обступивших его, – видений скорее не человека, но Бога, в камине с треском разломилась головешка, один ее кусок упал в золу, а другой выкатился на ковер, и от него тут же повалил густой дым.
Этот случай, столь обыденный, а может быть, вследствие самой своей обыденности, вернул Карла V к действительности.
– Эй, – позвал он, – кто здесь дежурит? Быстро ко мне! Никто не ответил.
– Кто-нибудь есть в прихожей? – в нетерпении воскликнул экс-император, ударив палкой о пол.
На этот призыв также никто не отозвался.
– Быстро кто-нибудь поправьте огонь, да поторопитесь! – воскликнул Карл V еще более нетерпеливо.
Все та же тишина.
– О, – прошептал он, держась за мебель, чтобы добраться до камина, – уже один и всеми покинут!.. Если Провидение хотело, чтобы я раскаялся в содеянном, оно быстро дало мне урок!
И сам, взяв щипцы искалеченными руками, он с великим трудом поправил огонь, который здесь больше некому было привести в порядок.
Все, начиная с принцев и кончая лакеями, толпились вокруг нового короля дона Филиппа.
Император уже затоптал последние угли, дымившиеся на ковре, как вдруг в прихожей раздались шаги и в проеме Двери в полутьме обозначилась человеческая фигура.
– Наконец-то! – прошептал император.
– Государь, – сказал вошедший, видя, что Карл V принимает его за кого-то другого, – прошу прощения у вашего величества за то, что я вошел без доклада, но, обнаружив все двери открытыми и не видя в прихожих никого, кто мог бы обо мне доложить, осмелюсь доложить о себе сам.
– Так доложите о себе, сударь, – произнес Карл V, как видно быстро приобретая навыки жизни обычного частного лица. – Итак, кто вы?
– Государь, – ответил почтительнейшим тоном незнакомец, склоняясь до земли, – я Гаспар де Шатийон, сир де Колиньи, адмирал Франции и чрезвычайный посланник его величества короля Франции Генриха Второго.
– Господин чрезвычайный посланник его величества короля Генриха Второго, – ответил, улыбаясь с некоторой горечью, Карл V, – вы ошиблись дверью. Вы теперь должны иметь дело не со мной, а с королем Филиппом Вторым, вот уже девять месяцев моим преемником на троне Неаполя и вот уже двадцать минут – на троне Испании и обеих Индий.
– Государь, – столь же почтительно ответил Колиньи, кланяясь вторично, – какие бы изменения не произошли в судьбе короля Филиппа Второго девять месяцев или двадцать минут тому назад, вы останетесь для меня навсегда избранником Германии, величайшим, священнейшим и августейшим императором Карлом Пятым, и, поскольку письмо моего короля адресовано вашему величеству, позвольте вашему величеству его и вручить.
– В таком случае, господин адмирал, – сказал Карл V, – помогите мне зажечь свечи, поскольку восшествие на престол моего сына Филиппа Второго лишило меня, по-видимому, всех слуг.
И император с помощью адмирала принялся зажигать вставленные в канделябры свечи, чтобы прочесть письмо короля Генриха II, а может быть, и для того, чтобы поскорее увидеть человека, который уже три года был его стойким противником.
Гаспар де Шатийон, сир де Колиньи, был в описываемое нами время высоким и хорошо сложенным человеком лет тридцати восьми-тридцати девяти, с живым взглядом и мужественным лицом. Честный и бесстрашный, он пользовался уважением короля Франциска I, короля Генриха II, а потом и Франциска II.
Чтобы подло убить подобного человека, сколь ни безмерна была резня 24 августа 1572 года, нужно было соединить наследственную ненависть герцога Генриха Гиза с лицемерием Екатерины Медичи и слабостью Карла IX.
Эта ненависть, в то время, когда мы вывели на сцену прославленного адмирала, уже начинавшая разделять его со старым другом Франсуа де Гизом, зародилась в битве при Ранти. В молодости эти два великих полководца, которые, объединив свои дарования, могли бы совершить много удивительного, были тесно связаны: у них были общие развлечения, общие труды, общие упражнения. Когда они изучали древность, они брали себе в пример не только тех, кто оставил прекрасные образцы мужества, но и тех, кто оставил прекрасные образцы братской дружбы.
Это взаимное расположение молодых людей заходило так далеко, что, по словам Брантома, они носили одинаковые украшения и цвета. Если король Генрих II отправлял посланца к императору Карлу V и этот посланец не был коннетаблем Монморанси, то это мог быть только адмирал де Колиньи или герцог де Гиз.
Император разглядывал адмирала с некоторой долей восхищения. Все историки того времени утверждают, что невозможно было представить себе человека, более отвечавшего образу великого полководца.
Но в то же мгновение Карлу V пришло на ум, что Колиньи был послан в Брюссель не с тем, чтобы вручить ему письмо, которое он держал в руке, а скорее для того, чтобы доложить при французском дворе, что именно произошло в Брюссельском дворце 25 октября 1555 года. Поэтому первым вопросом императора к Колиньи, после того как, долгим взглядом рассмотрев посланца Генриха II, он удовлетворил свое любопытство, было:
– Когда вы приехали, господин адмирал?
– Утром, государь, – ответил Колиньи.
– И вы привезли мне…
– Вот это письмо от его величества короля Генриха Второго.
И он подал письмо императору.
Тот взял его и несколько раз неудачно пытался сломать печать, так как его руки были искалечены подагрой. Тогда адмирал предложил свои услуги. Карл V со смехом протянул ему письмо.
– Хорош рыцарь, – сказал он, – чтобы участвовать в турнирах и ломать копья, господин адмирал, вот только печать сломать не может!
Адмирал вернул Карлу V распечатанное письмо.
– Нет, нет, – сказал император, – читайте, господин адмирал: зрение у меня не лучше, чем руки. Я полагаю, что вы, как и я, оцените, насколько правильно я поступил, передав всю силу и могущество в руки более молодые и ловкие.
Особенное ударение император сделал на последнем слове.
Адмирал ничего не ответил и начал читать письмо. Все время пока длилось чтение, Карл V, утверждавший, что он ничего не видит, пожирал его пронзительным взглядом.
Письмо было всего-навсего уведомлением короля Франции императору о том, что он посылает ему окончательную разработку условий перемирия: предварительно это было сделано пять или шесть месяцев тому назад.
Прочтя письмо, Колиньи достал из кармана камзола пергаменты, подписанные полномочными представителями и скрепленные королевской печатью Франции.
Это был обыкновенный обмен бумагами: Карл V уже послал ранее Генриху II аналогичные бумаги, подписанные полномочными представителями Испании, Германии и Англии и скрепленные имперской печатью.
Император взглянул на эти политические соглашения и, как бы предвидя, что и года не пройдет, как они будут нарушены, положил их на большой стол, покрытый черным сукном, а затем, опершись на руку адмирала, чтобы вернуться на место, сказал:
– Господин адмирал, не чудо ли совершает Провидение, позволяя сегодня мне, слабому и удалившемуся от света, опереться на руку того, кто в пору расцвета моего могущества чуть не одолел меня?
– О государь, – ответил адмирал, – Карла Пятого мог одолеть только один человек – он сам, и если нам, пигмеям, было дано бороться с гигантом, то только для того, чтобы Господь с избытком явил миру нашу слабость и ваше могущество.
Карл V улыбнулся. Было видно, что услышать этот комплимент из уст такого человека, как адмирал, ему весьма приятно.
И все же, усевшись и сделав знак Колиньи, чтобы он тоже сел, Карл V сказал:
– Довольно, адмирал, довольно! Я больше не император, не король, не князь: надо кончать с лестью мне. Переменим тему разговора. Как чувствует себя мой брат Генрих?
– Прекрасно, государь! – ответил адмирал, повинуясь приглашению сесть, сделанному императором уже третий раз.
– Очень рад за него, – сказал Карл V, – рад всем сердцем и не без причины: я горжусь тем, что по материнской линии происхожу от цветущей ветви, которая несет и поддерживает самую знаменитую корону мира. Но, – продолжал он, якобы стараясь свести разговор к обыденным вещам, – мне все же рассказывали, что мой возлюбленный брат начинает седеть, хотя мне все кажется, что еще и трех дней не прошло, как совсем ребенком, без намека на бороду, он был в Испании. А ведь с тех пор минуло уже двадцать лет!
И Карл V тяжело вздохнул, будто только эти произнесенные им слова открыли ему неохватные горизонты прошлого.
– Конечно, государь, – ответил адмирал на вопрос императора, – у его величества короля Генриха появились седые волосы, но один-два, не больше. Но разве они не бывают и у людей помоложе?
– Да, вы правду говорите, дорогой адмирал! – воскликнул император. – Вот я тут расспрашиваю вас о первых седых волосах моего брата Генриха, а сейчас я расскажу вам историю своих. Мне было почти столько же лет, сколько ему сейчас, – тридцать шесть или тридцать семь. Я возвращался из Ла-Гулетты и, приехав в Неаполь… Вам известно, господин адмирал, какой прекрасный город Неаполь и какие прелестные и очаровательные дамы там живут?
Колиньи с улыбкой поклонился.
– Как и другие мужчины, – продолжал Карл V, – я хотел заслужить их благосклонность. Наутро же по приезде я вызвал брадобрея завить меня и надушить. Этот человек подал мне зеркало, чтобы я мог следить за всей этой процедурой. А в зеркало я давно не смотрелся. Война, которую я вел с турками, союзниками моего доброго брата Франциска Первого, была тяжелой. И вдруг я воскликнул: «Эй, друг мой брадобрей, а это что?» – «Государь, – ответил тот, – два-три седых волоска». Нужно сказать, что льстец лгал – их было не два-три, как он утверждал, а добрая дюжина. «Быстро, быстро, мастер, – закричал я, – вырвите эти волосы, чтобы ни одного не осталось!» Он это и сделал, но знаете, что из этого получилось? А то, что, когда некоторое время спустя мне захотелось снова посмотреться в зеркало, я заметил: вместо одной удаленной серебряной нити у меня появилось десять. Таким образом, если бы я вздумал вырвать и эти, то раньше чем через год я бы стал белым как лунь! Поэтому передайте моему брату Генриху, господин адмирал: пусть он всячески бережет свои три седых волоса и ни в коем случае не позволяет их вырвать, даже если это будет сделано прекрасными ручками госпожи де Валантинуа.
– Не премину, государь, – смеясь, ответил Колиньи.
– Да, кстати о госпоже де Валантинуа, – продолжал Карл V, доказывая этим переходом в разговоре, что он не чужд сплетен двора Генриха II, – какие новости о вашем Дражайшем дядюшке великом коннетабле, господин адмирал?
– Превосходные, – ответил адмирал, – хотя у него голова сплошь белая.
– Да, – заметил Карл V, – голова у него белая, но он по натуре словно лук-порей – голова белая, а все остальное – зеленое. Он же должен еще, как и делает, служить прекрасным придворным дамам… Ах да, совсем забыл – а мне бы не хотелось отпускать вас, дорогой адмирал, прежде чем я не расспрошу обо всех, – как поживает дочь нашего старого друга Франциска Первого?
Карл V с улыбкой выделил слова «нашего старого друга».
– Вашему величеству угодно говорить о мадам Маргарите Французской?
– Ее по-прежнему называют четвертой грацией и десятой музой?
– Да, государь, и с каждым днем она становится все более достойна этих титулов, потому что оказывает покровительство нашим лучшим умам – господам л'Опиталю, Ронсару и Дора.
– Э, – промолвил Карл V, – похоже, что наш брат Генрих Второй, возревновав ее к своим соседям-королям, хочет сохранить это сокровище для себя одного: я до сих пор не слышал о планах замужества для мадам Маргариты, а ей должно быть… (Карл V сделал вид, что ищет в памяти) что-то около тридцати двух лет.
– Да, государь, но ей и двадцати не дашь: она расцветает и молодеет с каждым днем!
– Это доля роз – зеленеть и цвести с каждой новой весной, – ответил Карл V. – Да, кстати, о розах и бутонах: скажите, дорогой адмирал, что происходит при французском дворе с нашей юной шотландской королевой? Не могу ли я помочь уладить ее дела с моей снохой королевой Англии?
– О государь, здесь нет ничего срочного, – ответил адмирал, – и вашему величеству, столь хорошо знающему возраст наших принцесс, известно, что королеве Марии Стюарт едва исполнилось тринадцать лет; и она – я думаю, что не раскрываю государственной тайны, сообщая об этом вашему величеству, – предназначена дофину Франциску Второму, но свадьба не может и не должна состояться раньше, чем через год или два.
– Подождите, подождите, дорогой адмирал, мне нужно кое-что вспомнить, – сказал Карл V, – кажется, я должен был сделать какое-то предупреждение моему брату Генриху Второму, хотя оно и основывается на предположениях кабалистики… Ах да! Вспомнил! Но сначала не можете ли вы сказать мне, дорогой адмирал, что стало с молодым сеньором по имени Габриель де Лорж, граф де Монтгомери?
– Да, конечно, могу: он сейчас при дворе, в большой милости у короля и занимает пост капитана шотландской гвардии.
– В большой милости? – переспросил задумчиво Карл V.
– Вы что-нибудь имеете против этого молодого сеньора, государь? – почтительно спросил адмирал.
– Нет… Но выслушайте одну историю.
– Слушаю, государь.
– Когда я проезжал через Францию с позволения моего брата Франциска Первого, направляясь на подавление мятежа моих возлюбленных земляков и подданных в Генте, король Франции оказал мне, как вы сами можете вспомнить, хотя в это время вы были совсем молоды, всевозможные почести: так, он послал навстречу мне в Фонтенбло дофина с толпой молодых вельмож и пажей. Надо вам сказать, дорогой адмирал, что ехать через Французское королевство меня заставила жестокая необходимость и я предпочел бы любой другой путь. Было сделано все возможное, чтобы заставить меня усомниться в честности короля Франциска Первого, да и я сам, признаюсь, побаивался – как потом выяснилось, напрасно, – что мой французский брат воспользуется случаем, чтобы отомстить за Мадридский договор. Вот поэтому-то я и взял с собой, как будто человеческое знание в состоянии противостоять Божьему промыслу, ученейшего человека, известнейшего астролога, с первого взгляда определявшего по лицам людей, исходит ли от них угроза для свободы и жизни тех, кто подвергает свою жизнь и свободу опасности, находясь рядом с ними.
Адмирал улыбнулся.
– Прекрасная предосторожность, – сказал он, – достойная такого мудрого императора, как вы, но ваше величество могли убедиться, что иногда прекрасная предосторожность может стать напрасной.
– Постойте, сейчас вы все узнаете… Итак, мы ехали по дороге из Орлеана в Фонтенбло, как вдруг увидели, что навстречу нам движется блестящий кортеж. Это был, как я уже сказал вам, дофин с толпой вельмож и пажей. Сначала, издали, увидев только пыль, поднятую копытами лошадей, мы решили, что это военные, и остановились. Но вскоре сквозь облако пыли заблестел шелк, стал переливаться бархат и засверкало золото. Стало очевидно, что этот отряд не имеет враждебных намерений, а напротив, является почетным эскортом. Итак, мы продолжали путь, полностью положившись на честное слово короля Франциска Первого. Вскоре обе кавалькады встретились и дофин, подъехав ко мне, приветствовал меня от имени своего отца. Сделал это он так изящно и слова его пришлись так кстати, чтобы всех успокоить – нет, не меня, видит Бог, которому я посвятил свою жизнь, я ни на минуту не подозревал своего брата, – что я захотел тут же обнять юного принца. Пока мы нежно обнимались, а это продолжалось, я думаю, целую минуту, отряды смешались, и вельможи и пажи из свиты господина дофина, кому, несомненно, было любопытно на меня посмотреть, потому что я никогда не производил в мире много шума, окружили меня, стараясь подъехать ко мне как можно ближе. Тут-то я и заметил, что мой астролог – его звали Анджело Поликастро, а был он итальянец из Милана, – поставил свою лошадь так, чтобы полностью прикрыть меня слева. Мне показалось слишком дерзким со стороны этого человека затереться в столь блестящую и богатую знать.