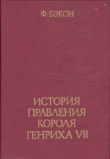Текст книги "Паж герцога Савойского"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 62 страниц)
IX. НОВОСТИ ИЗ ШОТЛАНДИИ
Двадцатого июня в Париж въехала не менее роскошная кавалькада, чем кортеж герцога Альбы; она также прибыла из Брюсселя по той же дороге и через те же ворота.
Возглавлял ее герцог Эммануил Филиберт, будущий супруг мадам Маргариты Французской, герцогини Беррийской.
В Экуане всадники сделали остановку. Герцог и его паж вошли в какой-то дом, где их, по-видимому, ждали, потому что дверь перед ними отворилась.
Дом стоял за чертой города, шагах в ста от проезжей дороги, и весь был укрыт зеленью.
Сопровождающие ничуть не обеспокоились отсутствием принца; они расположились по другую сторону дороги и стали ждать.
Через два часа принц появился один; по его грустной улыбке было видно, что он сейчас принес большую жертву.
Кто-то из сопровождающих тихо заметил, что пажа, с которым он никогда не расставался, при нем не было.
– Итак, господа, – промолвил Эммануил, – нас ждут в Париже. Вперед! Потом он обернулся назад, будто просил у того, кого он оставил, последней поддержки, чтобы выполнить мучительный долг, и, пустив лошадь в галоп, занял свое место во главе эскорта, растянувшегося по парижской дороге.
В Сен-Дени Эммануил Филиберт встретил своего бывшего пленника – коннетабля, явившегося к нему от имени короля, как до того он явился к герцогу Альбе, чтобы оказать жениху честь и принести ему поздравления.
Эммануил Филиберт принял поздравления учтиво, но лицо его было печально и серьезно. Чувствовалось, что он едет в Париж, оставив свое сердце где-то в пути.
Между Парижем и Сен-Дени Эммануил Филиберт увидел, что им навстречу движется многочисленный отряд: очевидно, это был предназначенный ему кортеж, и герцог выслал вперед капитана своей гвардии Робера де Ровера.
Отряд состоял из двухсот савойских и пьемонтских дворян, одетых в черный бархат с золотыми цепями на груди; вел его граф де Ракони.
Этот отряд занял место позади эскорта Эммануила Филиберта.
Когда кортеж подъехал к заставе, можно было увидеть, как оруженосец, несомненно ожидавший его, пришпорил коня и ускакал в сторону предместья Сент-Антуан. Это был гонец, посланный королем, чтобы предупредить его о приезде принца.
У бульвара кортеж повернул налево и направился в сторону Бастилии. Король ожидал принца у крыльца Турнельского дворца, держа за руку свою сестру мадам Маргариту; за ними, на первой ступени, стояла королева Екатерина со своими пятью детьми, а еще выше амфитеатром располагались принцессы и состоявшие на королевской службе дворяне и дамы.
Эммануил Филиберт остановил коня в десяти шагах от крыльца и спешился; приблизившись к королю, он хотел приложиться к его руке, но тот раскрыл ему объятия со словами:
– Поцелуйте меня, дражайший брат! Затем он представил ему мадам Маргариту.
Мадам Маргарита была одета в платье из пунцового бархата с белыми прорезями на рукавах; на ней было единственное украшение – великолепный, отделанный эмалью пояс с пятью золотыми ключами, который ей передал в Лувре торговец от имени ее будущего мужа.
Когда Эммануил Филиберт подошел к ней, щеки ее стали такими же пунцовыми, как платье.
Она протянула ему руку, и, так же как торговец в Лувре, принц в Турнеле опустился на одно колено и поцеловал эту прекрасную царственную руку.
Потом король представил его по очереди королеве, принцам и принцессам. Каждый, чтобы оказать ему честь, надел драгоценность из короба пьемонтского торговца: поскольку за оплатой никто не явился, эти украшения были сочтены подарками жениха.
Госпожа де Валантинуа украсила себя диадемой из трех бриллиантовых полумесяцев; г-жа Диана де Кастро надела арабский браслет; мадам Елизавета – жемчужное ожерелье, белее которого была ее шея, а дофин Франциск прицепил к поясу свой великолепный флорентийский кинжал, который ему удалось вытащить из дубового стола, куда он был всажен могучим торговцем.
Только Мария Стюарт не могла похвастаться своим драгоценным ковчежцем и оставила его в молельне, лучшим украшением которой он стал; через тридцать лет в ночь перед ее смертью в замке Фотерингей он примет святую облатку, привезенную из Рима, и ею она причастится в день своей казни.
Эммануил Филиберт в свою очередь представил королю сеньоров и дворян, сопровождавших его.
Это были графы Горн и Эгмонт, отличившиеся: один в Сен-Лоранской битве, другой – при Гравелине; оба они умрут спустя девять лет как мученики реформатской веры на одном эшафоте по приговору герцога Альбы, который сейчас им улыбается и ждет, когда, вслед за королем Франции, придет его очередь пожать им руки.
Это был Вильгельм Нассауский, красивый молодой человек двадцати шести лет, с лицом, окрашенным печалью (из-за нее он позднее получил кличку «Молчаливый»); его называли иначе принц Оранский, потому что в 1545 году он унаследовал Оранжское княжество от своего дяди Рене Нассауского.
Наконец, это были герцоги Брауншвейгские и графы Шварцбург и Мансфельд, которые оказались счастливее, чем другие упомянутые нами исторические персонажи: их смерть не принесла мрачной известности ни эшафоту, ни убийце.
И вдруг, словно в этом собрании мужчин и женщин, заранее отмеченных судьбой, кого-то еще не хватало, на бульваре показался всадник, скакавший во весь опор; увидев великолепное сборище перед Турнельским дворцом, он остановил коня, соскочил на землю, бросил поводья своему оруженосцу и молча стал ждать, когда к нему обратится король.
Всадник мог быть спокоен: он ехал таким бешеным аллюром, он так умело остановил коня на полном скаку, так красиво спешился, что Генрих, сам очень хороший наездник, не мог этого не оценить.
Поэтому, вытянув голову над окружающей его блестящей толпой, король воскликнул:
– А вот и Лорж, капитан нашей шотландской гвардии, кого мы с тремя тысячами человек послали на помощь вашей матушке, дорогая Мария, и, чтобы этому дню достало всех радостей, он привез нам новости из вашего Шотландского королевства! Ну, подойди же сюда, Монтгомери, – продолжал король, – подойди! И хотя у нас сегодня большие празднества и увеселения, осторожнее с головешками! Пословица гласит, что не следует играть с огнем.
Стоит ли объяснять, что король Генрих намекал на случай, произошедший с Жаком де Монтгомери, отцом Габриеля: во время потешной осады особняка Сен-Поль, который Монтгомери оборонял от короля Франциска I, он попал горящей головней в подбородок короля, и нанесенная им рана на сто последующих лет ввела моду на короткие волосы и длинные бороды.
Монтгомери подошел к Генриху II; в эту минуту он и не подозревал, что гораздо более серьезное происшествие, чем то, что случилось из-за его отца с королем-отцом, случится из-за него самого с королем-сыном во время турнира, которого король Генрих ждал с такой радостью.
Монгомери привез из Шотландии хорошие политические новости и плохие – религиозные. Елизавета Английская не предпринимала ничего против своей соседки, границы оставались спокойными; но внутри вся Шотландия была объята пламенем.
Этим пламенем была реформа, а поджигателем был Джон Нокс.
В минуту, когда Габриель де Лорж, граф де Монтгомери, произнес это имя, во Франции оно мало что говорило. Действительно, что за дело было до этой маленькой страны элегантному двору Валуа, кочующему из Лувра в Турнель, а из Турнеля в Фонтенбло; что за дело было до нее Франциску I с его герцогиней д'Этамп, Леонардо да Винчи, Андреа дель Сарто, Бенвенуто Челлини, Россо, Приматиччо, с его Рабле, Бюде, Ласкари и Маро; что значила она для Генриха II с его герцогиней де Валантинуа, Ронсаром, Филибером Делормом, Монтенем, де Безом, дю Белле, Амьо, канцлером л'Опиталем, Жаном Гужоном, Серлио, Жерменом Пилоном, Екатериной Медичи и ее фрейлинами; что за дело было до нее всему этому блестящему, легкомысленному, храброму и безбожному миру – людям, в чьих жилах струилась, словно из двух источников, итальянская и французская кровь, людям, без конца смешивавшим историю с романом, а рыцарство – с политикой, людям, претендовавшим на то, чтобы сделать из Парижа Рим, Афины и Кордову одновременно; что за дело было до нее всем этим королям, принцам, принцессам, дворянам, скульпторам, художникам, писателям, архитекторам, над которыми блистала радуга славы, искусства и поэзии; что за дело было им до того, что происходило в том уголке света, который они считали краем цивилизованной земли, у бедного, невежественного, грубого народа, расцениваемого ими как придаток к французской короне, как безделушка, ценная не работой, а металлом, подвешенная к застежке цепи, которую королева носит на поясе?
Эта земля может однажды взбунтоваться против своего юного короля Франциска или против своей юной королевы Марии Стюарт? Ну и что же! Тогда французы погрузятся на золоченые ладьи, как Вильгельм, когда он отправился завоевывать Англию, или как Рожер, когда он поплыл завоевывать Сицилию! Шотландия будет покорена, ей вместо цепи наденут на ногу золотой браслет и поставят ее на колени перед внучкой Эдуарда и дочерью Якова V!
Итак, Габриель де Лорж несколько исправил мнение французского двора о Шотландии: он поведал удивленной Марии Стюарт, что главным ее врагом была не прославленная королева Англии Елизавета, а бедный священник-отступник, порвавший с папством, по имени Джон Нокс.
Монтгомери видел этого Джона Нокса во время народного мятежа; сохранив ужасные впечатления об этом человеке, он попытался возвести священника, в глазах будущей королевы Шотландии, на ту высоту, на которой тот остался в его памяти.
Он следовал за ним во время этого мятежа, о котором сам Нокс рассказывал так:
«Я видел, как идол Дагона note 46Note46
Распятие. (Примеч. автора.)
[Закрыть] был повержен на землю и как священники и монахи бежали со всех ног, побросав посохи, митры, стихари, разорвав облачения в лохмотья; серые монахи открывали рты, черные монахи вопили, ризничие, прихрамывая, взлетали, как вороны, и счастливы были те, кто сумел добраться до своего логова, потому что никогда еще подобная паника не охватывала это антихристово племя!..»
Человек, раздувший ветер, который поднял подобную бурю, должен был быть, да и был, титаном.
И в самом деле, Джон Нокс был одной из тех стихий в облике человеческом, которые появляются во время великих религиозных или политических потрясений.
Если они родились в Шотландии или Англии во время пресвитерианской реформы, их зовут Джон Нокс или Кромвель.
Если они родились во Франции во время политической реформы, их зовут Мирабо или Дантон.
Джон Нокс родился в Восточном Лотиане в 1505 году, следовательно, в то время ему было пятьдесят четыре года. Он уже собирался принять сан, когда от Вормса до Эдинбурга прозвучали слова Лютера; Джон Нокс со всей неистовой силой своего темперамента тут же начал проповедовать против папы и обедни. В 1552 году он был назначен капелланом короля Англии Эдуарда VI, но с воцарением Марии Кровавой был вынужден покинуть Великобританию и укрыться в Женеве, у Кальвина. Когда Мария умерла и к власти пришла Елизавета, он счел, что настала благоприятная минута, и вернулся в Шотландию, привезя с собой тысячи экземпляров памфлета, отпечатанного еще в Женеве и направленного одновременно против регентства Марии Лотарингской и грядущего воцарения Марии Стюарт note 47Note47
Этот памфлет был озаглавлен: «Против правления женщин». (Примеч. автора.)
[Закрыть].
В его отсутствие древо реформы, посаженное им, разрослось и его тень покрывала три четверти Шотландии.
Когда он уезжал, его родина была католической, теперь она была протестантской.
Этого человека Марии следовало бояться.
Но разве Мария могла чего-нибудь бояться?
Шотландия была от нее далеко не только в пространстве, но и во времени. Что ей было за дело до Шотландии, ей, жене дофина Франции; ей, снохе
короля, которому едва ли исполнился сорок один год, могучего, крепкого и горячего, как юноша; ей, супруге молодого человека девятнадцати лет?
Каково было наихудшее предсказание, которое можно было ей сделать? Двадцать лет царствования ее свекра, сорок лет жизни ее мужа-короля. Тогда никто еще не знал, что Валуа умирают молодыми!
Зачем ей была нужна эта дикая роза, взросшая на скалах, – корона Шотландии, – если впереди у нее была корона Франции, которую, по словам императора Максимилиана, Бог дал бы своему второму сыну, если бы он у него был?
Да, конечно, существовал гороскоп, который был составлен одним прорицателем в день рождения короля Генриха II, гороскоп, над которым так насмехался коннетабль и который король отдал на хранение г-ну д'Обеспину; этот гороскоп гласил, что король Генрих II умрет на дуэли или на поединке. И существовал роковой знак на лбу Габриеля де Лоржа, сильно беспокоивший императора Карла V до того момента, как его астролог не сказал ему, что этот знак угрожает только принцу, у которого в гербе есть цветок лилии.
Но какова была вероятность того, что один из самых могущественных государей христианского мира будет когда-либо сражаться на дуэли? И какова была вероятность того, что Габриель де Лорж, граф де Монтгомери, один из самых преданных королю дворян, капитан шотландской гвардии его величества, практически спасший ему жизнь во время охоты на кабана в Сен-Жерменском лесу, о чем мы рассказали читателю, поднимет когда-либо отцеубийственную руку на короля, чья смерть разбивала все его надежды?
И ни действительность, ни предсказания, ни настоящее, ни будущее не могли даже невольно омрачить очаровательных лиц этого радостного двора, когда большой колокол собора Парижской Богоматери возвестил, что все, даже сам Господь, готово к первому венчанию из двух, которые должны были проводиться; это было венчание короля Филиппа II, представленного герцогом Альбой, с Елизаветой Французской, которую называли Елизаветой Мира, потому что эта свадьба должна была принести мир воевавшим странам.
X. СОСТЯЗАНИЯ НА УЛИЦЕ СЕНТ-АНТУАН
Итак, 27 июня 1559 года большой колокол собора Парижской Богоматери, сотрясая старые башни времен Филиппа Августа, торжественно возвестил о венчании короля Испании с дочерью короля Франции.
Герцог Альба, в сопровождении принца Оранского и графа Эгмонта, представлял, как мы уже сказали, короля Филиппа II.
Когда бедная Елизавета дошла до паперти кафедрального собора, ноги у нее подкосились и, чтобы ввести ее в собор, пришлось подхватить ее под руки и почти нести до нефа. Вели ее граф Эгмонт и Вильгельм Оранский – два человека, отмеченные судьбой: один погиб на эшафоте по приговору герцога Альбы, другой – от пули Балтазара Жерара, оказавших року такую страшную услугу.
Эммануил смотрел на нее с сочувственной улыбкой, смысл которой понимал только Шанка-Ферро, единственный, кто знал, что герцог оставил в Экуане.
После церемонии все вернулись в Турнельский замок, где их ждал большой обед. После был дан концерт, а вечером Эммануил Филиберт открыл бал с молодой королевой Испании, единственным утешением которой было то, что она не увидит своего царственного супруга еще несколько дней; Жак де Немур танцевал с принцессой Маргаритой, Франсуа де Монморанси – с Дианой де Кастро, а дофин, которого следовало бы назвать первым, – с Марией Стюарт.
Здесь на время объединились друзья и враги; самая яростная вражда если и не угасла, то утихла на время.
Но, тем не менее, друзья и враги составляли две разные группы.
Первую – коннетабль со всеми своими сыновьями; Колиньи и Дандело со своими дворянами.
Вторую – Франсуа де Гиз со всеми своими братьями: кардиналом Лотарингским, герцогом Омальским, герцогом д'Эльбёфом… Имена остальных из шести сыновей одного отца забыты.
Первые чувствовали себя победителями, выглядели весело и радостно.
Вторые были мрачны, серьезны, и вид у них был угрожающий.
В толпе вполголоса говорили, что если на следующий день кто-нибудь из Монморанси столкнется на ристалище с кем-нибудь из Гизов, то это будет уже не состязание, а настоящее сражение.
Но Генрих принял меры предосторожности.
Он запретил Колиньи и Дандело дотрагиваться до других щитов, кроме своего собственного, и щитов Жака де Немура и Альфонса д'Эсте.
Такой же приказ был отдан Данвилю и Франсуа де Монморанси.
Гизы хотели сначала уклониться от участия в этих празднествах, герцог Франсуа ссылался на необходимость посетить свои владения, но Екатерина Медичи и кардинал Лотарингский отговорили его от этого решения, опасного, как всякое решение, принятое под влиянием досады и гордости.
Итак, герцог де Гиз остался, и дальнейшие события показали, что он поступил правильно.
Разошлись в полночь. Герцог Альба проводил Елизавету до ее спальни, положил свою правую ногу на кровать, прикрыв ее простыней, через несколько мгновений вытащил ее из постели, поклонился и вышел. Брак был заключен.
На следующий день весь двор, кроме короля, был разбужен фанфарами; только король Генрих не спал – так он хотел наконец открыть турнир, который обещал ему столько радости и о котором он столь долго мечтал.
Поэтому, хотя турнир открывался лишь после завтрака, с самого рассвета король Генрих II бродил от ристалища к конюшне, чтобы полюбоваться своими прекрасными лошадьми, к которым Эммануил Филиберт добавил великолепный подарок – девятнадцать лошадей под седлами и в полных боевых доспехах.
Когда настал час трапезы, зачинщики и судьи позавтракали отдельно от других за круглым столом: он должен был напоминать стол короля Артура, и им прислуживали дамы.
Четыре дамы, прислуживавшие именитым сотрапезникам, были: королева Екатерина, принцесса Маргарита, юная королева Мария и герцогиня де Валантинуа.
После завтрака мужчины прошли в свои покои, чтобы надеть доспехи.
На короле были превосходные латы миланской работы с золотыми и серебряными узорами, шлем, увенчанный королевской короной и изображающий саламандру с распростертыми крыльями; на щите его, так же как на том, что висел на бастионе, был изображен полумесяц, блистающий на чистом небе, с девизом:
«Donee Шит impleat orbem!»
Цветами его были белый и черный – между прочим, это были цвета, принятые Дианой де Пуатье после смерти своего мужа г-на де Брезе.
На г-не де Гизе были боевые латы – те же, что и при осаде Меца. На латах были видны вмятины от пяти пуль – их можно видеть и сегодня в Парижском артиллерийском музее, где эти латы хранятся; эти пять пуль герцог получил при осаде Меца, но все они расплющились о спасительную сталь.
На щите его, так же как на щите короля Генриха, было изображено небо, но не такое чистое: белое облачко затуманивало золотую звезду.
Его девизом было:
«Сияет, но сокрыта».
Его цвета были белый и алый. «Это были цвета одной дамы, которой он служил и которую я мог бы назвать, – говорит Брантом, – она была фрейлиной».
К несчастью, Брантом эту даму так и не назвал, и мы, в силу неведения, в каком он нас оставил, вынуждены быть такими же скромными, как он.
На г-не де Немуре были латы миланской работы, – подарок Генриха II, – а на его щите был изображен не то ангел, не то амур – кто именно, различить было трудно – с букетом цветов и следующий девиз:
«Ангел или амур, он прилетает с неба!»
Этот девиз намекал на одно происшествие, случившееся с красавцем-герцогом в Неаполе в день праздника Святых Даров.
Он ехал по улице вместе с другими французскими сеньорами, как вдруг по проволоке, натянутой, чтобы вызвать нужный эффект, из окна спустился ангел и подарил ему роскошный букет от имени одной дамы.
Отсюда и девиз: «Ангел или амур, он прилетает с неба!»
Его цвета были желтый и черный, что, по словам того же Брантома, означает «Наслаждение и стойкость», или «Стойкость в наслаждении», «так как в ту пору, как рассказывали, он наслаждался любовью с одной из самых красивых на свете дам, а в силу этого должен был по справедливости проявлять по отношению к ней стойкость и верность, ибо нигде нельзя было встретить и обладать женщиной прекраснее ее».
И наконец, герцог Феррарский, молодой принц, в то время еще малоизвестный, а позже печально прославившийся тем, что засадил на семь лет в сумасшедший дом Торквато Тассо. Он был одет в великолепные венецианские латы. На его щите был изображен Геракл, повергающий Немейского льва, со следующим девизом:
«Кто силен, тот бог».
Его цвета были желтый и красный.
В полдень ворота отворились. В одно мгновение все места на подмостках были заняты дамами, сеньорами и дворянами, имена которых давали им право присутствовать на празднестве.
Потом заполнилась и королевская ложа.
В первый день победителя должна была награждать г-жа де Валантинуа. Призом служила великолепная цепь, украшенная рубинами, сапфирами и изумрудами, которые разделяли три золотые полумесяцы.
Полумесяц, как известно, был гербом прекрасной г-жи де Валантинуа.
На второй день победитель получал приз из рук мадам Маргариты.
Призом служил боевой турецкий топор великолепной работы, подаренный Франциску I Сулейманом.
Третий день – самый почетный – был отдан Екатерине Медичи.
Призом служила шпага с рукоятью и гардой работы Бенвенуто Челлини.
В полдень с находящегося напротив королевской ложи балкона, на котором расположились музыканты, зазвучали фанфары.
Наступило время состязаний.
Первыми на ристалище, как стайка птиц, выпорхнули пажи.
Каждый зачинщик имел двенадцать пажей, одетых в шелк и бархат цветов своего хозяина; всего их было сорок восемь.
Затем появились оруженосцы, по четверо на каждого зачингцика; они должны были подбирать сломанные копья и помогать сражающимся, если в том появится нужда.
И наконец, выехали четверо судей, в доспехах с ног до головы, с опущенным забралом, на лошадях, тоже в доспехах, с попонами, волочившимися до земли.
Каждый из них держал в руках жезл. Они остановились перед боковыми барьерами и застыли неподвижно, как конные статуи.
Над четырьмя воротами бастиона зачинщиков появились трубачи и протрубили вызов на все четыре стороны света.
Одна труба ответила, и из ворот залы нападающих выехал рыцарь в полных доспехах, с опущенным забралом, с копьем у стремени.
На его шее блистала цепь ордена Золотого Руна, и по этой награде, полученной им в 1546 году от Карла V вместе с императором Максимилианом, Козимо Медичи, великим герцогом Флорентийским, Альбертом, герцогом Баварским, Эммануилом Филибертом, герцогом Савойским, Оттавио Фарнезе, герцогом Пармским, и Фердинандом Альваресом, герцогом Альбой, можно было сразу узнать Ламораля, графа Эгмонта.
Перья на его шлеме были белые и зеленые: это были цвета Сабины, графини Палатинской, герцогини Баварской, с которой он обвенчался пять лет тому назад в Шпейере в присутствии императора Карла V и Филиппа II, короля Неаполитанского, и которую любил нежно и преданно до самой смерти.
Он продвигался вперед, управляя лошадью с тем изяществом, что создало ему славу первого наездника испанской армии, причем эта слава была столь громкой, что король Генрих II, в этом отношении не имевший себе равных, как говорили, ей несколько завидовал.
Проехав три четверти ристалища, он приветствовал ложу королевы и принцесс – копье склонилось до земли, а корона на шлеме коснулась шеи лошади – и дотронулся древком копья до щита короля Генриха П.
Затем, под громкие звуки фанфар, он заставил коня, пятясь, пройти всю длину ристалища и, оказавшись с другой стороны барьера, направил копье горизонтально.
Поскольку это был куртуазный поединок, противники должны были, согласно обычаю, целиться только в торс, или, как тогда говорили, «между четырьмя членами».
Как только Эгмонт направил копье, король в полном вооружении выехал верхом.
Даже если бы Генрих не был королем, ему хлопали бы не менее дружно. Трудно было себе представить всадника, лучше сидевшего на коне и державшегося в стременах, более крепкого и в то же время более изящного, чем король Франции.
Как и граф Эгмонт, он держал в руке копье наизготове. Заставив лошадь сделать пируэт, чтобы приветствовать королеву и принцесс, он повернулся к сопернику и зацепил копье за нагрудный крюк.
В ту же минуту оруженосцы подняли барьеры, и судьи, видя, что противники готовы, в один голос воскликнули:
– Съезжайтесь!
Всадники только и ждали этого мгновения, чтобы ринуться друг на друга.
Оба одновременно ударили копьем прямо в грудь противника.
И король и граф Эгмонт были столь умелыми наездниками, что ни один не вылетел из седла, но удар был так силен, что граф потерял стремя, а копье сотряслось, выскользнуло у него из рук и упало в нескольких шагах от него. Копье же короля разлетелось на три или четыре куска, оставив у него в руках совершенно бесполезный обломок.
Кони, испуганные ударом и грохотом, дрожа, остановились и присели на задних ногах.
Генрих далеко отбросил обломок копья.
Ристалище гремело аплодисментами зрителей, а в это время два оруженосца перескочили через барьер: один поднял копье графа Эгмонта, другой подал новое копье королю.
Противники заняли свои места и снова направили копья. Опять прозвучали трубы, барьеры отворились, и судьи второй раз крикнули:
– Съезжайтесь!
На этот раз сломались оба копья. Генрих, словно дерево под порывом ветра, откинулся на круп коня; Эгмонт потерял оба стремени и вынужден был ухватиться за луку седла.
Король выпрямился, граф выпустил луку, и оба всадника, оправившись от страшного удара, снова твердо сидели в седлах.
Вокруг них валялись обломки копий.
Оруженосцы подобрали эти обломки, а противники вернулись каждый за свой барьер.
Им дали новые копья, более крепкие, чем прежние.
И кони и рыцари проявляли нетерпение; кони были все в мыле и ржали – очевидно, бег и фанфары возбудили благородных животных больше, чем шпоры, и они ощущали себя участниками сражения.
Затрубили фанфары. Все зрители кричали от радости и хлопали в ладоши, как тогда, когда веком позже Людовик XIV появился в балете «Четыре времени года» в роли Солнца.
Генрих в виде средневекового воина, а Людовик XIV в виде комедианта одинаково выражали наиболее полно Францию своего времени: первый – Францию рыцарственную, другой – Францию галантную.
Приветственные крики почти заглушили возглас «Съезжайтесь!».
Удар был еще сокрушительнее, чем первые два: Генрих II потерял одно стремя, копье графа Эгмонта разлетелось на куски, но копье короля осталось целым.
Удар был так силен, что лошадь графа встала на дыбы, подпруга лопнула, седло скользнуло по наклоненной спине коня, и – странное дело! – граф оказался на земле.
Поскольку он остался на ногах, то это падение, избежать которого было невозможно, еще более выявило искусство и ловкость замечательного всадника.
Тем не менее граф, поклонившись Генриху II и признав себя побежденным, учтиво отдал себя на милость победителя.
– Граф, – сказал ему в ответ король, – вы пленник герцогини де Валантинуа. Сдавайтесь на ее милость, вашу судьбу будет решать она, а не я.
– Государь, – промолвил граф, – если бы я знал, что мне уготовано столь сладостное рабство, я бы сдался в плен в первый же раз, когда сражался с вашим величеством.
– И вы сберегли бы мне немало людей и денег, господин граф, – ответил король, решившийся не уступать в этом обмене любезностями, – поскольку избавили бы меня от Сен-Лорана и Гравелина!
Граф удалился, а через несколько минут поднялся на балкон и опустился на колени перед герцогиней де Валантинуа, и она связала ему руки великолепным жемчужным ожерельем.
В это время король, уже трижды обменявшийся ударами, отдыхал, уступив место герцогу де Гизу, второму зачинщику.
Герцог де Гиз вышел на поединок с графом Горном, и, хотя герцог слыл одним из лучших бойцов своего времени, во всех трех заездах его преимущества над фламандским генералом были не слишком велики.
При обмене третьим ударом Горн, с той же учтивостью, что и граф Эгмонт, признал себя побежденным.
Потом наступила очередь Жака де Немура. Он сражался против испанца по имени дон Франсиско Ригоннес; при первом ударе копья испанец потерял стремя, при втором опрокинулся на круп лошади, на третьем был вышиблен из седла и упал на землю.
Впрочем, это был единственный испанец, участвовавший в турнире; наши запиренейские соседи знали, что они слабее нас в этом виде борьбы, и не хотели рисковать своей репутацией, уже подорванной поражением дона Франсиско Ригоннеса.
Оставался герцог Феррарский. Он съехался с Дандело. Шансы их были приблизительно равны, но суровый защитник Сен-Кантена, уезжая с поля, признался, что предпочитает настоящую битву на шпагах с врагом Франции всем этим играм, ибо ему, человеку, уже год назад примкнувшему к реформатской религии, они кажутся чем-то языческим.
Поэтому он заявил, что не будет больше сражаться и что вместо него выступит его брат Колиньи, если тот на это согласен.
И, так как Дандело был человек твердый, он сдержал данное себе слово. Первый день закончился сражением четырех зачинщиков против четверых нападающих; этими четырьмя нападающими были: Данвиль против короля, Монтгомери против герцога де Гиза, герцог Брауншвейгский против Жака де Немура и граф Мансфельд против Альфонса д'Эсте.
Если не считать короля, чье преимущество – то ли из учтивости противника, то ли на самом деле – было очевидным, остальные соперники были приблизительно равны.
Генрих был вне себя от радости!
Правда, он не слышал, что вполголоса говорили люди вокруг него, и в этом нет ничего удивительного: короли часто не слышат и того, что говорится во всеуслышание.
А вполголоса говорили о том, что коннетабль – слишком хороший придворный, чтобы не научить своего старшего сына, как нужно обращаться с королем, даже когда ты держишь в руке копье!