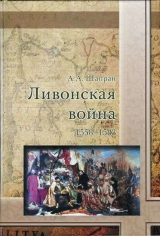
Текст книги "Ливонская война 1558-1583"
Автор книги: Александр Шапран
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 48 страниц)
Уступив Баторию, Москва не утратила надежды взять реванш на шведском фронте. При дворе Грозного шла подготовка к походу на северные районы Ливонии. Начать следовало с возвращения своего, недавно потерянного, но, безусловно, главным объектом промысла должна была стать Нарва. Именно поэтому в Киверовой Горке московская сторона, как могла, старалась не затрагивать Швецию в своих договорных обязательствах. До сих пор это ей удавалось, как удалось уже после Киверовой Горки отклонить предложение Антония Поссевина о посредничестве и с северным соседом. Там Москва не нуждалась в услугах папского легата, считая Швецию не таким уж грозным противником, склонить которого к выгодному для русской стороны миру можно будет силой оружия. Здесь московскую дипломатию ждал очередной просчет, и, очевидно, не малая в том заслуга того же иезуита. Закончив примирение Грозного с Баторием и получив от русских отказ в таком же посредничестве с еще одним их соперником, видя готовность Москвы обрушиться на Швецию, папский посол принялся за главную цель своей миссии – за попытку склонить русского царя к объединению с римской церковью. А в зависимости от успеха, или, напротив, неуспеха в этом начинании, иезуит планировал так или иначе содействовать развитию русско-шведского конфликта.
Вернувшись после дипломатических баталий из Киверовой Горки в Москву, папский посол, уже немало постаравшийся к выгоде польской стороны, приступил к основной задаче. Поскольку основанием для духовного объединения выставлялась идея общей борьбы против мусульманской Турции, ее союзников и сателлитов, то иезуит начал с попытки поднять русского царя на старого врага Москвы, вассально зависимого от Стамбула крымского хана, понимая, что султан не оставит того без своей защиты и покровительства. Римский посол полагал, втянув Русь в новую, обещавшую стать изнурительной войну, получить для своей игры лишние козыри. Попавшая в тяжелую ситуацию Москва скорее пойдет на духовное единство со своим союзником. Здесь, надо сказать, также в первую очередь преследовались интересы Речи Посполитой. В завершившейся войне Литва постоянно страдала от татарских набегов, оставалась такая угроза для нее и на все обозримое будущее. Москве с этой стороны в последние годы было спокойнее. После разгрома орды при Молодях крымцы вот уже в течение десяти лет серьезно не покушались на московские пределы. Во весь последний период Ливонской войны, несмотря на его напряженность, Москве удавалось держать на окском оборонительном рубеже солидные контингенты войск, что и гарантировало там безопасность. Теперь, после прекращения военных действий на западе против основного соперника, война против Крыма и его вероятного заступника, Турции, была бы войной больше за интересы своего вчерашнего противника. Пытаясь подбить к такой войне Грозного, папский посол начал свои увещевания так:
«Король Стефан велел тебе сказать, что он желает Московской земле прибытка, а не завладеть ею хочет, чтоб всяким московским торговым людям был вольный проезд через его земли, а литовским людям точно также во все московские земли, чтоб оба государства всякими прибытками полнились. Король Стефан хочет идти на Перекопского (крымского хана – А. Ш.), чтоб тот вперед христианской крови не разливал, говорит: Перекопский с обоих нас, государей, берет деньги, а наши земли воюет беспрестанно. Стефан-король пойдет на него с одной стороны, а с другой пошел бы на него государь московский или рать свою послал. Когда король пойдет сам на Перекопского, то государь прислал бы к нему в обоз человека доброго посмотреть, как он пойдет против Перекопского мстить за кровь христианскую. А что мы теперь с обеих сторон даем Перекопскому деньги, то лучше эти деньги отдать своим людям и защитить христианство от басурман. Королевским бы людям ходить против Перекопского через государеву землю, как по своей земле, а государевым людям ходить через королевскую землю, по воде и по суше, как по своей земле, чтобы между государями было все заодно. Король говорил также, что он, Стефан, на государстве пришелец, ни поляк, ни литвин, родом венгерец, пришел он на то, чтоб правду и любовь сыскать, а христианство освободить от басурман, чтоб при его государствовании не было от Перекопского разлития крови христианской».
У русского царя после заключения мира с Баторием не было особой заинтересованности в расположенности к нему вчерашнего посредника, а потому Грозный отвечал просто:
«Нам теперь нельзя послать рать свою на Перекопского, потому что наши люди истомились от войны с королем Стефаном, да и потому, что послы наши писали из Крыма о мире, который они заключили с ханом. Мы не знаем еще, на каких условиях заключен этот мир, и если король хочет стоять с нами заодно на басурман, то он бы приказал об этом со своими послами».
И хотя посла по-прежнему принимали с почестями, оказывая все знаки уважения, иезуит не мог не чувствовать, что при московском дворе в нем более не нуждаются, а за его посредническую миссию особой благодарности не испытывают. А по-иному и не могло быть, и на русской стороне прекрасно понимали, что старания Поссевина были направлены не на ее пользу, и что выгод от мира с Баторием Москва не получила никаких. Слишком явно благоволил иезуит противнику, чтобы сейчас, после Киверовой Горки, русские люди к нему могли питать надежду и доверие. И все же папский посол, может быть и не окрыленный надеждой на большой успех, но довел до конца попытку склонить царя к соединению церквей. Уже потерпев неудачу в подстрекательстве к войне с Крымом, что означало провал в организации союза против турок, Поссевин буквально навязал-таки Грозному разговор о вере.
Грозный долго противился, мотивируя тем, что подобные разговоры ведут к вражде, ибо каждый будет отстаивать свою правоту, и спор перерастет в ругань. Посол настаивал на диспуте, уверяя, что разговор о вере не может быть бранным. При этом иезуит вызывал русского царя к такому разговору наедине, на что царь парировал тем, что о таких важных делах он не только не принимает решения без своих думных людей, но даже и не обсуждает их. «Мы с тобою говорить готовы, – отвечал Грозный, – только не наедине: нам без ближних людей в это время как быть? Да и то порассуди: ты по наказу наивышнего папы и своею службою между нами и Стефаном-королем мирное постановление заключил, и теперь между нами, дал Бог, христианство в покое; а если мы станем говорить о вере, то каждый по своей вере и ревнитель, каждый свою веру будет хвалить, пойдет спор, и мы боимся, чтоб от того вражда не воздвиглась».
Антоний стоял на своем. «Ты государь великий, – льстил он Грозному, – а мне, наименьшему вашему подданному, как бранные слова говорить? Папа Григорий XIII, сопрестольник Петра и Павла, хочет с тобою, великим государем, быть в соединении веры, а римская с греческою одна. Папа хочет, чтоб во всем мире была одна церковь: мы бы ходили в греческую, а славяне греческой веры приходили бы в наши церкви. Если греческие книги не сполна в твоем государстве переведены, то у нас есть подлинные греческие книги, Иоанна Златоустого собственноручные и другие великих святителей. Ты будешь с папою, цесарем и другими государями в любви и будешь не только на прародительской вотчине, в Киеве, но и в Цареграде государем будешь; папа, цесарь и все государи о том будут стараться».
Ловкий иезуит, похоже, знал чувствительные струнки русских государей, иначе бы он не упомянул Киева, который всегда оставался заветной, сказочной целью хозяев кремлевского трона. Но здесь, надо думать, папский посол хватил через край, на этот раз он перехитрил самого себя, и упоминание Киева сыграло обратную роль. Римский ставленник только что способствовал потере Россией добытого ею большой кровью, а тут вдруг он обещает, что стоит только московскому властелину признать над собой духовное владычество папы, как тот же Киев, который на сегодняшний день есть принадлежность польской короны, станет московским достоянием. Причем ради этого, по уверениям посла, будут стараться все христианские государи. Следовательно, и Стефан Баторий тоже. Выходит, что король Речи Посполитой будет стараться, чтобы Киев перешел из его державы в Московскую. И уж совсем ни к чему зарвавшийся иезуит преподнес царю в подарок и Царьград. Всеми этими перегибами он только навредил себе. На такие, не столько заманчивые, сколько не реальные перспективы, Грозный, понимая цену всей этой сладкоречивой словесной казуистике, отвечал, что ему хватает своих земель, а на другие он не замахивается. Здесь русский царь откровенно кривил душой, он еще толком не вылез из войны, причиной которой стало именно замахивание на чужую землю. Но Грозный иногда знал, что и где говорить, и сейчас он разыгрывал роль, далеко не похожую на роль агрессора. А потому на все следовавшие одна за другой уловки полномочного представителя Св. престола русский царь отвечал:
«Нам с вами не сойтись о вере: наша вера христианская с издавних лет была сама по себе, а римская церковь сама по себе; мы в христианской вере родились и Божьею благодатью дошли до совершенного возраста, нам уже пятьдесят лет с годом, нам уже не для чего переменяться и на большее государство хотеть; мы хотим в будущем принять малое, а в здешнем мире и целой вселенной не хотим, потому что это к греху поползновение; нам, мимо своей веры истинной, христианской, другой веры хотеть нечего. Ты говоришь, что ваша вера римская с греческою одна, но мы держим веру истинную, христианскую, а не греческую; греческая слывет потому, что еще пророк Давид пророчествовал: от Эфиопии предварит рука ее к Богу, а Эфиопия все равно что Византия, Византия же просияла в христианстве, потому и греческая слывет вера; а мы веру истинную, христианскую исповедуем, и с нашею верою христианскою римская вера во многом не сойдется, но мы об этом говорить не хотим, чтоб не было сопротивных слов. Да нам на такое великое дело и дерзнуть нельзя без благословения отца нашего и богомольца митрополита и всего священного собора. Ты, Антоний, хочешь говорить; но ты затем от папы прислан, и сам ты поп, так ты и смело говоришь».
В результате не обошлось без оскорблений, так что Грозный царь оказался прав, когда предупреждал, что не стоит поднимать вопрос о вере, ибо все закончится бранью. Поведя речь о различии в догматах веры и заостряя больше внимания на внешних особенностях и проявлениях, царь увлекся до того, что, согласно своему неукротимому нраву, быстро дошел до резких выражений, чересчур страстно стал обличать порядки римской церкви, при этом досталось и самому папе. Особенно он нападал на папскую гордыню, в пользу которой римские первосвященники предпочли смирение. Зная натуру Грозного, его характер и ревностное отношение к божественному происхождению своей власти, можно понять, что более всего в римской церкви его раздражало главенство духовной власти над властью светской. Он даже мысленно не мог мириться с тем, что римский первосвященник вознесен над монархами, что ему воздаются почести большие, чем те, что воздаются королям и императорам, отчего он уподоблен Христу. Обвиняя блюстителя апостольского престола в том, что он живет не по учению Христа и не по апостольским заповедям, царь, распалившись, договорился до того, что назвал папу не пастырем, а волком.
«Если уже папа – волк, то мне нечего больше говорить», – только и мог на последний выпад своего царственного собеседника ответить Поссевин.
Разгорячившийся царь спохватился слишком поздно, и все чем он мог загладить грубость, то это напомнить собеседнику о своем предупреждении, что споры о вере без ругательств не обойдутся. При этом он даже, по-видимому, не заметил того, что ругательства имели место только с его стороны.
Не подвигнув русского царя к войне против вассально зависимого от Турции Крыма и еще меньше преуспев в вопросе соединения церквей, то есть, не достигнув главных целей своей миссии, Поссевин снова, было, заикнулся о постройке в Москве католического храма и, кроме того, просил Грозного для более тесного сближения русских с Западом отпустить нескольких молодых людей в Рим для обучения наукам. Но и здесь римский посланник столкнулся со стеной непонимания, и на последнюю его просьбу царь отвечал:
«Теперь в скорости таких людей собрать нельзя, которые бы к этому делу были годны; а как, даст Бог, наши приказные люди таких людей наберут, то мы их к папе пошлем. А что ты говорил о венецианцах, то им вольно приезжать в наше государство и попам их с ними, только бы они учения своего между русскими людьми не плодили и костелов не ставили: пусть каждый остается в своей вере; в нашем государстве много разных вер; мы не у кого воли не отымаем, живут все по своей воле, как кто хочет, а церквей иноверных до сих пор еще в нашем государстве не ставливали».
И хотя встречи и беседы царя с послом продолжались, прений о вере больше не было, причем табу на эту тему разговоров исходило исключительно от царя. Грозный попросил лишь иезуита изложить отличие в верах, как он их понимает, письменно, поскольку присланную папой книгу о Флорентийском соборе никто на Москве не может перевести на русский язык. Посол исполнил просьбу и, покидая Москву, оставил царю рукопись о своем видении различий между католической и православной религиями. Перед отъездом посла царь предложил иезуиту посетить митрополичье богослужение в Успенском соборе, на что тот отказался.
В первых числах марта 1582 года Антоний Поссевин отправился в обратный путь. Надо полагать, посол остался неудовлетворенным своей миссией. В главных намерениях Рим потерпел неудачу, и сейчас отправленный с иезуитом к папе гонец вез грамоту от русского царя, содержание которой, ни к чему не обязывая обе стороны, лишний раз убедительно показывало, что все старания блюстителя Св. престола оказались напрасными.
«Мы грамоту твою, – писал Иван Васильевич Григорию XIII, – радостно приняли и любительно выслушали; посла твоего, Антония, с великою любовию приняли; мы хотим быть в братстве с тобою, цесарем и с другими христианскими государями, чтоб христианство было освобождено из рук мусульманских и пребывало в покое. Когда ты обошлешься с цесарем и со всеми христианскими государями и когда ваши послы у нас будут, то мы велим своим боярам договор учинить, как пригоже. Прислал ты к нам с Антонием книгу о Флорентийском соборе, и мы ту книгу у посла твоего велели взять; а что ты писал к нам и посол твой устно говорил нам о вере, то мы об этом с Антонием говорили».
Итоги папского посольства и Обусловленное ими состояние самого посла кратко и в то же время очень верно охарактеризовал историк Д.И. Иловайский, когда говорил, что «неутешительные впечатления увозил с собой из Москвы иезуит Поссевин: все его хлопоты и дипломатические способности разбились о непоколебимую преданность русских своему православию и сильную нелюбовь к латинству, в чем Иван Васильевич явился верным представителем своего народам.
Можно ли этим считать дипломатическую миссию римского представителя исчерпанной? Последующие события не снимают с повестки дня этот вопрос.
Что же произошло дальше?
В войне на западе оставалось исполнить последний аккорд, и на него в Москве делали высокую ставку. Впечатления от всех поражений последних лет, отдачу завоеванного большой кровью и унизительный Ям Запольский мир – все можно было сгладить победным финалом над Швецией. Если бы Грозному удалось тогда отвоевать у нее хоть что-нибудь из Балтийских берегов с ливонскими гаванями, пусть даже всего только одну Нарву, история простила бы ему многие прегрешения и забыла бы про горечь последних неудач. Но и здесь судьба не благоволила России.
Поначалу, казалось, ситуация для Москвы складывалась вполне благоприятно. Договор в Киверовой Горке гарантировал мир с Речью Посполитой сроком на десять лет, следовательно, лишал шведскую сторону союза и поддержки со стороны Батория. Больше того, к весне 1582 года отношения Польши со Швецией обострились до крайности, так что недавние союзники могли легко стать врагами. Причиной такого поворота дел стали претензии Речи Посполитой на всю Ливонию, в том числе и на ту ее часть, которой на тот момент владела Швеция. Приняв от русских воевод контролируемые теми ранее районы Ливонии и поставив в городах и замках гарнизоны своих войск, польский король намеревался то же самое проделать и с северной частью орденских владений, занятых шведами. Он написал тогда Юхану шведскому вызывающее послание, требуя очистить занятые орденские земли, грозя в противном случае войной. «Ты воспользовался моими успехами, – заявлял Баторий, – и присвоил себе Нарву с другими городами немецкими, собственность Польши», на что шведский король отвечал: «Что приобретено кровью нашей, то наше. Я был в поле, еще не видя знамен твоих. Вспомни, что вся Европа трепетала некогда имени готов, коих мы наследовали и силу и могущество: не боимся меча ни русского, ни седмиградского».
Швеция была готова встать между двух огней. С одной стороны на нее, получив последнее послание от шведского короля, намеревался идти Баторий, бросивший тогда Юхану открытый вызов: «возьму, чего требую», с другой стороны в очередной поход против Швеции из Новгорода уже выступили московские полки.
В начале лета 1582 года воеводы Хворостинин и Катырев-Ростовский двинулись в направлении Яма, имея конечной целью Ивангород и Нарву, а воевода Андрей Шуйский вел войска на север, за Неву, в Финляндию, причем успех сопутствовал русским на обоих направлениях. Сначала весть о победе пришла в Москву из Вотской пятины, когда под селом Лялицы воевода Хворостинин наголову разбил пытавшегося заступить русским дорогу неприятеля. В сентябре шведы осадили Орешек, крепость на Ореховом острове, что в истоках Невы. Мы помним баталии вокруг этой твердыни тех же соперников в прошлые времена, теперь история была готова повториться. Орешек запирал выход из Ладоги в Неву и, напротив, открывал ворота к Балтийскому побережью. Сейчас невское устье, благодаря победам неприятеля в последней кампании, находилось в руках шведов, но они намеревались закрепить успех тем, что отрезать Русь и от невского русла. Во главе осадного корпуса под Орешком стоял генерал Делагарди, тот самый, перед которым ранее не устояли Нарва и Ивангород. На этот раз удача отвернулась от генерала. Отчаянные приступы не удавались, гарнизон отбивал все попытки взять крепость штурмом, а тем временем к театру событий из Новгорода спешил Андрей Шуйский. Узнав о приближении русских, Делагарди снял осаду и поспешно отступил.
Победа под Лялицами и успешная оборона Орешка открывали хорошие перспективы для развития наступления. Перед Хворостининым лежал открытый путь на Ям и далее на Ивангород, а бежавший с невских берегов шведский генерал оставил без малейшей защиты перешеек и южные районы Финляндии. Как вдруг неожиданно Москва остановила военные действия. Что же произошло?
Еще в конце июня 1582 года в Москву из Речи Посполитой прибыло королевское посольство для подтверждения заключенного в Киверовой Горке перемирия. Посольство состояло из тех же самых лиц, что мы видели на переговорах в зиму 1581–1582 гг., во главе с князем Збаражским. Совершенной неожиданностью для Москвы стало то, что в условиях договора польская сторона выставляла русской стороне требование не воевать против Швеции во все время десятилетнего перемирия с Польшей. Требование звучало категорически; без признания его Москвой Речь Посполитая наотрез отказывалась ратифицировать Ям Запольское перемирие, что грозило возобновлением войны.
Анализируя складывавшуюся с начала последней военной кампании на русско-литовском участке фронта военно-политическую ситуацию, напрашивается вывод, что неожиданная для русских инициатива польско-литовской стороны на самом деле была задумана заранее и, отнюдь, не стала плодом результатов последних военных действий Москвы против Швеции. Равно как к ней не могли привести и ухудшения польско-шведских отношений.
То, что шведы не уступят Баторию контролируемую ими северную часть Ливонии, было понятно и ранее. Не за то они более десяти лет насмерть стояли против Москвы, чтобы сейчас все отдать другой стороне, пусть даже и считавшейся союзной. Как понятно и то, что шведы и литовцы могли между собой оставаться союзниками лишь до тех пор, пока у них есть общий враг – Россий. В Польше и в Литве прекрасно понимали, что этот враг обратит все свои силы против Швеции, едва лишь вылезет из войны с Речью Посполитой. И его упорное не упоминание о шведской стороне на переговорах в Киверовой Горке не ушло из поля зрения королевских послов. Только с московской наивностью и доверчивостью можно было рассчитывать на то, что противник не придает этому моменту должного значения. А противник хорошо подыгрывал московским простакам, делая вид, что не понимает, к чему клонится дело, и давая им тем самым основания надеяться на последующее единоличное разбирательство с северным соседом.
А последующих вариантов, решающих судьбу Северной Ливонии, могло быть не так уж много.
В том случае, если все оставить в русско-польском договоре так, как оно было постановлено первоначальным вариантом в Киверовой Горке, то, заключив его, обе стороны набросились бы на Швецию, и поскольку та представлялась значительно слабее и России и Польши, то последние поделили бы контролируемые ей районы Ливонии между собой в пропорции, кому сколько удалось бы отхватить. При этом между Россией и Речью Посполитой столкновения быть не могло, поскольку они связаны только что заключенным на 10 лет мирным соглашением. Вот этого варианта более всего и хотелось Москве. Там, конечно, понимали, что солидная доля наследства досталась бы и Польше, но потерпевшую от последней поражение в очном споре Москву устраивал такой исход. Наверняка близлежащие к русским границам территории достались бы ей, а это Нарва – морские ворота в Европу. Зато такой вариант не устраивал Батория. Ведь в этом случае ему, победителю, пришлось бы делиться Северной Ливонией с побежденным русским царем.
Другой вариант мог иметь место в том случае, если сейм не поддержит короля и в этой войне. Кстати, так оно и вышло, и королю было отказано в финансировании войны не только против Московского государства, но и против Швеции. Тогда для Польши реально возникало опасение завоевания русскими всех районов Ливонии, занятых сейчас шведами, а это уже полный дипломатический провал. Пусть уже тогда лучше шведы владеют Северной Ливонией. При всех взаимных противоречиях и разнице интересов у западных соседей России было одно общее стремление – недопущение русских к морю. К тому же Речь Посполитая всегда предпочла бы иметь большее соседство со Швецией, чем с непредсказуемым и неукротимым московским самодержцем.
Наконец, был еще один вариант, заранее предусматривающий для Москвы запрет военных действий против Швеции. Но при этом оставалась большая вероятность, что русские не пойдут на такое условие, и тогда заключение мира в Киверовой Горке ставилось бы под сомнение или существенно затягивалось. А мы помним, в каком состоянии находилась тогда королевская армия, да и вся противная сторона, которой мир был нужен не меньше, чем Москве. На польской стороне понимали, что не стоит заранее выдвигать условие, с которым можно было повременить и огласить его тогда, когда в том будет нужда. Царские послы не затрагивали в своих договоренностях Швецию, королевские делали вид, что им не ведом этот примитивный прием. В окружении Батория знали, что русские не пойдут на шведа сразу после выхода из войны с Речью Посполитой. Им потребуется какое-то время на восстановление сил. Правда, такое же время для восстановления сил требовалось и польско-литовской стороне, но не забудем, что на той стороне этих сил изначально было больше, иначе бы она не вышла победителем. Мобилизация активности обеих сторон произойдет не раньше, чем придет пора подтверждать достигнутое в Киверовой горке соглашение. И когда такая пора пришла, польская сторона огорошила русскую новым требованием. Это было как снег на голову. Не подчиниться ему значило продолжить войну теперь уже и против Швеции и против Речи Посполитой одновременно. Сейм отказал королю в финансировании наступательной войны, но он целиком поддержал заключенный сторонами в Киверовой Горке мир, в том числе и в той его части, что требует от Москвы отступиться от Швеции. А это значит, что, не приветствуя войну, цель которой захват чужой территории, сейм не откажет в военной поддержке Швеции, потому как в противном случае в результате завоевания Москвой Северной Ливонии Речь Посполитая вынуждена будет расширить свои границы с потенциальным агрессором.
В этом плане, рассматривая последний ход литовской дипломатии, встает вопрос: а не была ли эта инициатива внушена королевским людям римским иезуитом? Если так, а оно согласуется с его общей миссией и отвечает его позиции в польско-русском конфликте, то это его самая большая заслуга в посредничестве. Вообще говоря, трудно поверить в то, что королевские люди на переговорах в Киверовой Горке с такой простотой сумели обойти московских послов. Нет, Речь Посполитая не страдала недостатком дипломатического искусства, и ее тонкий ход никого бы не Удивил, если бы со стороны Польши участие в переговорах принимали действительно люди из посольского ведомства. Но ведь в Киверовой Горке королевскую сторону представляли люди, далекие от дипломатии. Король послал их туда прямо из осадного лагеря из-под Пскова, выбрав тех, кто был у него поблизости, что называется, под рукой. Это были военные люди, оторвавшиеся от боевых действий, вынужденные окунуться в непривычную для себя атмосферу несвойственной им политической деятельности. Один только Гарабурда, далеко не самый первый человек в делегации, представлял там из себя дипломатический корпус Речи Посполитой. В другом бы случае такие поспешные действия короля вызвали удивление. Что мешало ему вызвать опытных дипломатов из Кракова или Вильно? Ведь в Киверовой Горке должна была решаться проблема особой государственной важности. Все объясняется просто, если вспомнить, что переговоры вел Антоний Поссевин. А король с первой встречи с ним понял, чью сторону держит этот так называемый посредник.
Мы никогда не узнаем действительную роль Поссевина в последней инициативе Речи Посполитой, да это и не так важно. Важно то, что шведская кампания внезапно прекратилась, чему, кроме требований Батория оставить Швецию в покое, способствовали и иные обстоятельства. Главное из них то, что мир с самим Баторием оставался очень непрочным и грозился быть нарушенным в любую минуту. Насколько быстро и точно выполнила условия Ям Запольского договора русская сторона, освободив все занимаемые ею места в Ливонии, настолько долго и неохотно уходили польские и литовские гарнизоны из занятых ими ранее русских мест. Демаркация границы проходила очень напряженно, сопровождаясь постоянными оскорблениями московских чиновников. Литовские воеводы держали себя вызывающе, не признавали границ там, где это было более чем ясно, в нарушение договоренностей занимали русские места и погосты и даже пытались ставить на русской территории крепости. Особенно они препятствовали размену пленных, требуя за именитых московских пленников выкупа, что шло вразрез с условиями перемирия. Русская сторона обращалась с жалобами напрямую к Баторию, тот то обещал разобраться и посодействовать, то, обвиняя царских людей, оправдывал своих. Одним словом, обстановка царила такая, что до разрыва перемирия и вспышки новой бойни оставался один шаг.
Другим обстоятельством, способствовавшим прекращению всякой войны, стали внутренние неурядицы.
В конце лета 1582 года вспыхнул бунт в казанском краю. Озлобление местных жителей разного рода притеснениями, произволом царской администрации, мздоимством чиновников и жестокостью полицейского режима привело к восстанию луговых черемисов, которых поддержали ногайцы, татары и другие недавние подданные Московского государства, прозванные в нем инородцами. С первых лет включения их в свою державу Москва повела политику, за которую позже получит прозвище «тюрьмы народов». Движение приняло такой размах, что казанский воевода князь Туренин не только не сумел справиться с ним, но и не мог высунуться из города и вынужден был отсиживаться за крепостными стенами. Царю на подавление восстания пришлось бросить целую армию во главе с лучшими воеводами Иваном Воротынским и Дмитрием Хворостининым.
В таких печальных и тревожных обстоятельствах, царивших внутри страны, в бушевавшей на ее западных рубежах четверть века Ливонской войне была, наконец, поставлена последняя точка.
Если раньше мы отмечали, что местом заключения мира с польско-литовской стороной стала не соответствовавшая важности такого мероприятия заброшенная деревушка, то в еще большей степени такое несоответствие относится к месту перемирия со Швецией. Собственно говоря, там и места никакого нет, в том смысле, что нет не то чтобы города, но и какой-нибудь деревеньки вроде Киверовой Горки. Больше того, там не было никакого населенного пункта и рядом, чтобы позже можно было назвать его именем заключаемый тогда мир, как это стало с Ямом Запольским. Местом подписания договора о перемирии России со Швецией стала лужайка на берегу речки Плюсы, что в Вотской Пятине на самом западном краю Новгородской земли, куда съехались представители обеих воюющих сторон, решившие все проблемы за один день 5 августа 1583 года, отчего и сам заключенный тогда дипломатический акт вошел в историю как Плюсский мирный договор. Согласно ему, Россия признавала шведскими владениями все занятые ею районы Северной Ливонии и, что самое важное, оставляла за Швецией Ивангород, Ям, Копорье с южным побережьем Финского залива, с устьями рек Наровы и Луги. Кроме того, к Швеции отходили земли на Карельском перешейке, а также охватывающие с запада, севера и северо-востока Ладожское озеро, включая и город Корелу. За Московским государством оставалась лишь южная часть перешейка, так что граница со Швецией проходила тут сейчас чуть севернее невской поймы.
Для Московского государства это означало почти полную потерю выхода к Балтийскому морю, того самого, которым до войны владела Россия. В целом Ям Запольское и Плюсское перемирия по результатам всей войны означали для Москвы признание своего поражения; они как бы подводили итог общей деятельности русского царя Ивана IV, явились обобщенным показателем его царствования, результатом всей его политики.








