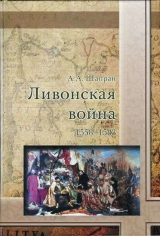
Текст книги "Ливонская война 1558-1583"
Автор книги: Александр Шапран
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 48 страниц)
Сохранившиеся источники единодушны во мнении, что бойня, разгоревшаяся при штурме Сокола, по упорству обеих сторон не знала себе равных, может быть даже за всю историю той войны. За горящими стенами россияне встретили густые колонны нападавших плотным ружейным и артиллерийским огнем, затем, вдруг перейдя в контратаку, отбросили литовцев и наступавших с ними ландскнехтов от крепости и отчаялись на вылазку. Какое-то время битва продолжалась за стенами вне крепости, но тут сказалось превосходство противника в силах, и русские вынуждены были отступить под защиту того, что осталось от стен. Преследовавшая их немецкая пехота ворвалась внутрь крепости, и злая сеча продолжилась там. К тому времени от непрекращающегося обстрела в крепости не осталось ни одного здания, которое не было бы охвачено пламенем, так что приходилось одновременно сражаться и с наседавшим врагом и с пожаром. В отличие от полоцкого взятия, здесь нападавшие не диктовали ультиматумов, не предлагали капитуляции, а потому ожесточенная битва закончилась почти полным истреблением русского гарнизона. Число павших с русской стороны превысило четыре тысяч человек, в том числе в бою погиб воевода Шейн. Другой воевода, Шереметев, и с ним всего несколько десятков воинов, преимущественно раненых, попали в плен.
Таким образом, гарнизон Сокола, на который первоначально возлагалась задача деблокирования Полоцка, был чуть ли ни полностью уничтожен. И если взятие Полоцка означало освобождение от русских войск всех ранее занятых районов Литвы, то падение Сокола – крепости на старой довоенной русско-литовской границе – выводило королевскую армию на российскую территорию.
Уже сразу после падения Сокола отдельные польские и литовские отряды устремились в рейды по Смоленской области и по Северской Украине. Операцию на Смоленщине возглавил оршанский староста Кмита. На Северской Украине ту же роль исполнял князь Острожский, повоевавший русские селения от Стародуба до Почепа. А тем временем главное королевское войско, вступивши в московские пределы и продолживши завоевания, без особых трудов заняло крепости Козьян, Туровль, Нещерду, Ситну. В результате в десятилетиями отлаживаемой системе обороны на русско-литовской границе, которая до начала кампании не вызывала у московского военного руководства никакой тревоги, вдруг образовалась серьезная брешь. В руках противника оказался ряд русских крепостей.
Неспокойно в лето и осень 1579 года было и на северных границах. Шведы нападали на русские владения в районе Ижоры и в Карелии; пытались они и осаждать Нарву, но безуспешно.
А Грозный царь во все время летне-осенней кампании простоял в Пскове, где вся его деятельность сводилась к получению донесений об очередном поражении и о потерях. Все, на что хватило тогда у Ивана Васильевича мужества, это поручить государственному дьяку Андрею Щелкалову без потери достоинства и в то же время без приукрас объявить в Москве о своих поражениях. Щелкалов выполнил эту не совсем приятную миссию, и хотя он и не опустился до приукрас, но совсем без ретуширования истинной картины дело не обошлось. И вот спустя шестнадцать лет после того, как над столицей несколько суток подряд гудел праздничный звон колоколов в честь взятия Полоцка, теперь московский люд услышал:
«Добрые люди! Знайте, что король взял Полоцк и сжег Сокол: весть печальная, но благоразумие требует от нас твердости. Нет постоянства в свете; счастье изменяет и великим государям. Полоцк в руках у Стефана: вся Ливония в наших. Пали некоторые россияне: пало гораздо больше литовцев. Утешимся в малой невзгоде воспоминанием столь многих побед и завоеваний царя православного!»
Действительно, тогда русским людям только и оставалось, что вспоминать дни былой славы.
Еще до взятия противником Сокола, сразу после своей полоцкой победы король отправил русскому царю грамоту, где утверждал, что все его, Батория, старания направлены исключительно на сохранение мира, в чем он и преуспел, найдя понимание всех соседей, кроме Московской державы, царь которой продолжает настаивать на Ливонии. А потому король вынужден взяться за оружие. «Так как нам не годилось, – поясняет далее свои поступки Баторий, – исполнить это требование, то мы сели на коня и пошли под отчинный наш город Полоцк, который Господь Бог нами и возвратил: следовательно, кровь христианская проливается от тебя».
Вся грамота была выдержана в довольно дерзкой и грубой форме, а в заключение король требовал отпустить гонца, привозившего полгода назад царю объявление войны.
Когда в ставке Грозного читали эту грамоту, уже пал и Сокол, и враг вступил на русскую землю, о чем было небезызвестно царю. Грозный не замедлил с ответом, но насколько изменился тон царского послания! В нем еще сквозят штрихи высокомерия, но спеси явно поубавилось, а главное, русский царь отвечает на грубые выпады соперника довольно миролюбиво, и что совсем стало новым, он соглашается называть короля Речи Посполитой братом, а не соседом, как раньше.
«Другие государи, твои соседи, – писал Грозный Баторию, – согласились с тобою жить в мире, потому что им так годилось; а нам как было пригоже, так мы с тобою и сделали; тебе это не полюбилось; а гордым обычаем грамоты мы к тебе не писывали и не делывали ничего. О Лифляндской же земле и о том, что ты взял Полоцк, теперь говорить нечего; а захочешь узнать наш ответ, то для христианского покоя присылай к нам послов великих, которые бы доброе дело между нами попригожу постановить могли. Мы с тобою хотим доброй приязни и братства и по всем своим границам запретили вести войну; распорядись и ты также по всем своим границам, пока послы великие между нами братство и добрую приязнь поставят; бояре наши били нам челом, чтоб мы кровопролития в христианстве не желали, и велели им ссылаться с твоими панами; мы на просьбу их согласились».
Далее, в той же грамоте царь предлагал решить судьбу пленных и заканчивал просьбой присылки в Москву больших послов: «Не хочу возражать на упреки: ибо хочу быть в братстве с тобою. Даю опасную грамоту на твоих послов, коих ожидаю с доброжелательством. Между тем да будет тишина в Ливонии и на всех границах! А в залог мира отпусти всех пленников российских, на обмен или выкуп».
Тогда же Грозный велел отпустить задержанного с лета гонца Батория, которому от имени царя объявили:
«Пришел ты к нам от своего государя с грамотою, в которой Стефан-король многие укоризненные слова нам писал и нашу перемирную грамоту с тобою к нам прислал: людей, которые с такими грамотами приезжают, везде казнят, но мы, как господарь христианский, твоей убогой крови не хотим и, по христианскому обычаю, тебя отпускаем».
Но новому витку переговоров состояться было не суждено, и причина та, что сами переговоры были нужны только русской стороне, король Речи Посполитой в них не нуждался. Он отказался отправлять своих дипломатов в Москву, несмотря на то, что русский царь, как мы видели, с первым же гонцом, снабдил противную сторону опасной грамотой и вообще был готов на многие уступки. Иван соглашался отправить своих больших послов в Литву, но все эти подготовительные мероприятия ни к чему не привели, король лишь тянул время, готовясь к новой кампании.
В зиму 1579–80 гг. Баторий разродился новой законодательной инициативой, призванной увеличить численность его армии, и сумел протащить эту инициативу через сейм. Согласно новому закону, в Речи Посполитой объявлялся дополнительный набор в войска крестьян из королевских имений, откуда под знамена призывался каждый двадцатый человек. Причем закон этот устанавливался только на время войны, а по ее окончании и по возвращении к мирному труду призывавшийся освобождался от всех повинностей вместе со всем своим потомством.
Грозный также лихорадочно пытался найти новые средства для ведения войны. У русского царя не было недостатка в людях, во всяком случае, такого острого, как у его противника, главная нужда царя была в деньгах. Источником пополнения казны могла бы стать церковь с ее несметными богатствами, но Грозный помнил, как провалилась его инициатива отчуждения церковных владений в пользу государства во времена реформ Избранной рады. Трудности затянувшейся войны и последние поражения вернули царя к этому предмету.
В январе 1580 года царь собрал в Москве высших иерархов русской церкви, объявив им, что государство Московское, а с ним и православие в опасности. В напыщенном обращении к созванному собору Грозный назвал себя с сыновьями спасителями отечества, правда, причислив при этом к своей компании некоторых воевод из знатных фамилий, чего раньше, стремясь размежеваться с боярской верхушкой, никогда не делал. Чего хочет царь, церковники поняли сразу, когда тот еще не добрался до главного предмета своего выступления. А понять это можно было, едва только Грозный начал созывать отцов церкви в столицу: казна пустеет, содержать войско нечем, монастыри богатеют, а потому государство требует пожертвований от духовенства. Вопрос был сложным и скользким, и к нему не один раз возвращались правители русской державы. В первых главах нашего повествования мы рассказывали, как на этом предмете потерпел поражение дед Грозного, Великий московский князь Иван III, как не мог преодолеть сопротивления церкви, когда встал вопрос о ее имущественных правах, сам Грозный в первые годы своего царствования, но на этот раз проблему удалось сдвинуть с мертвой точки. Конечно, не в полном объеме, но все же задача пополнения государственной казны за счет церкви, хоть и частично, но была решена. Тёперь новым указом Грозного от церквей и монастырей отходили в казну все земли и села, принадлежавшие ранее княжеской знати и когда-то либо выкупленные церковью, либо отошедшие к ней каким-то другим путем.
Но больше всего царь, нутром чуявший надвигавшуюся катастрофу, жаждал мира. Но мира не выходило. В марте 1580 года Баторий в ответе Ивану на его последнюю грамоту сообщал:
«Мы к тебе послов своих посылали, но ты отправил их с необычным и к доброй приязни непригожим постановлением, а твои послы, бывшие у нас, ничего доброго не постановили: так после этого теперь нам посылать к тебе послов своих непригоже; присылай ты своих к нам, и присылай немедленно. А что пишешь об освобождении пленных, то сам рассуди, приличное ли теперь к тому время? А нужды им у нас никакой нет».
При этом королевская сторона снабжала русскую опасной грамотой, но даже в самой этой грамоте царь узрел какое-то нарушение обычаев, а потому в очередном послании своему краковскому корреспонденту отвечал:
«Мы послов твоих приняли и отпустили по прежним обычаям, по неволе они ничего не делали, бесчестья и нужды им никакой не было. А наши послы у тебя ничего не постановили потому, что ты не хотел подтвердить постановленного твоими послами у нас, вставил новое дело, наших послов обесчестил, принял их не по прежним обычаям и без дела к нам отослал, а потом прислал к нам гонца Лопатинского с грамотою, и какие речи написал ты в этой грамоте – сам знаешь… В московских перемирных грамотах были слова разные, внесенные в них с ведома и согласия твоих послов. Ты мог отвергнуть сей договор; но для чего же укоряешь нас обманом? Для чего без дела выслал наших послов из Кракова, и столь грубо, и писал к нам в выражениях столь язвительных? Забудем слова гневные, вражду и злобу…. Если нам теперь все эти дела между собою поминать, то никогда христианство покою не получит, так лучше нам позабыть те слова, которые прошли между нами в кручине и в гневе; ты бы, как господарь христианский, дело гневное оставил; а пожелал бы с нами братской приязни и любви; а мы со своей стороны все дела гневные оставили, и ты бы, по обычаю, отправил к нам своих послов».
Но самым острым оставался вопрос о том, где должны состояться переговоры. Король не желал отправлять своих людей в Москву, русский царь был уже согласен перенести переговоры в Краков или в Вильно, хоть это и шло несколько против его самолюбия. Не можем утверждать точно, понимал ли Грозный, что переговорам не суждено было состояться нигде и что Баторий просто тянет время, нужное ему для подготовки нового похода, но, так или иначе, в той же грамоте, что мы цитировали выше, русский царь писал:
«Не в Литве и не в Польше, а в Москве издревле заключались договоры между сими державами и Россиею. Не требуй же нового! Здесь мои бояре с твоими уполномоченными решат все затруднения к обоюдному удовольствию государств наших».
Но отправленному с этой грамотой в Литву специальным эмиссаром царя дворянину Нащокину наказывалось, что в случае несогласия короля на выдвигаемые Москвой условия в смысле места проведения переговоров, а тем паче в случае готовности Батория открыть военные действия, соглашаться на присылку московских дипломатов в Вильно. Тогда же Нащокин и сопровождавшие его люди получили следующую инструкцию:
«Будет в чем нужда, то они должны приставам говорить об том слегка, а не браниться и не грозить; если позволят покупать съестные припасы, то покупать, а не позволят – терпеть; если король о царском здоровье не спросит и против царского поклона не встанет, то пропустить это без внимания, ничего не говорить; если станут бесчестить, теснить, досаждать, бранить, то жаловаться на это приставу слегка, а прытко об этом не говорить, терпеть».
Думается, нет нужды заострять здесь специально внимание читателя на том, насколько поубавилось гонору и спеси у русского царя. За какой-то год от непомерной заносчивости Грозного не осталось и следа. Забыв про элементарное достоинство, он опустился чуть ли ни до полной потери самоуважения. Но унижение не помогло. Встретив Нащокина, Баторий отвечал, что дает царю пять недель сроку для присылки послов в Литву. В Москве на ультиматум короля отреагировали положительно, но пять недель оказались слишком малым сроком для того, чтобы снарядить посольство и чтобы оно успело добраться до Литвы. Большие московские послы находились на пути в Вильно, когда стало известно, что польский король вторгся в пределы России. «Назначенный срок минул, – прочитал Грозный в очередном вызове, – ты должен отдать Литве Новгород, Псков, Смоленск, Великие Луки, а также всю Ливонию, если желаешь мира».
Начиналась кампания 1580 года.
Безусловно, Стефан Баторий был не настолько наивен, чтобы всерьез рассчитывать на Новгород, Смоленск и другие русские города, названные им русскому царю как плату за мир. Король был умным, тонким, а главное, трезвым политиком, а потому не строил иллюзий, понимая, что Речи Посполитой при всех ее блестящих победах никогда не удержать за собой требуемых от царя исконно русских земель и городов, и рассчитывал лишь на то, что реально. А реальной перспективой победы могла быть только Ливония. Но, как мы уже говорили, будучи тонким политиком и блестящим военным стратегом, Баторий ясно видел кратчайший путь к овладению Ливонией. Для этого надо было устроить русскому царю порядочную трепку на его земле, чтобы тот при его политической близорукости почувствовал угрозу ее отторжения. И тогда московский самодур поступится Ливонией, лишь бы не потерять своего, кровного. А воевать в Ливонии, занимаясь ее поочередным опустошением, без серьезных терзаний владений противника, значило продолжать бойню еще лет двадцать, до полного изнеможения.
Но так думал король, но не Речь Посполитая. Конечно, кто-то в соседнем государстве разделял мнение Батория, Но большинство тамошнего общества не было настроено на большую войну, имеющую целью захват русских территорий, ратуя лишь за освобождение своей земли и за утверждение за собой Ливонии. Но своя земля была уже освобождена, прогулки по землям бывшего Ордена, как бессмысленные, были не по душе королю, а потому все дальнейшие его начинания теперь встречались его подданными в штыки. В первую очередь, Баторию приходилось выбивать у сейма средства на ведение войны. Пока это, благодаря ораторскому искусству одного из сторонников короля, канцлера Замойского, кое-как удавалось. Но все же отпускаемых средств не хватало, и королю приходилось вкладывать свои личные. В этом поддерживал его брат, князь седмиградский, ссужая деньги и присылая свои воинские отряды. В результате к новой кампании польский король собрал более чем пятидесятитысячную армию и снова двинул ее к русским рубежам.
В Москве тоже, как могли, готовились к предстоящим схваткам с врагом, но поскольку инициатива была полностью упущена, наиболее острым стал вопрос о месте дислокации войск. Владеющий инициативой король мог неожиданно появиться на любом участке русской границы, а потому московское командование было вынуждено растянуть свои силы на всем ее протяжении. А при тогдашней неповоротливости армии и при тех средствах передвижения об оперативной переброске частей войск не могло быть и речи, отсюда эффективность обороны своих рубежей оставляла желать лучшего. Кроме того, в последние годы Ливонской войны стало особенно сказываться отставание русской военной машины от западных аналогов. Это отставание проявлялось и раньше, с первых кампаний войны, но не так явственно и остро, и могло компенсироваться численностью, внезапностью, то бишь вероломством, и, конечно, упорством и стойкостью русских воинов, то есть нещадной эксплуатацией человеческого фактора, к чему веками привыкло прибегать русское государство. Но вот с началом последнего этапа войны, связанного с появлением на исторической сцене Стефана Батория, всех этих показателей стало явно недостаточно. Обилие в королевской армии западного наемного элемента, профессионального, опытного, закаленного, с которым не шли ни в какое сравнение московские ратники, к большей части которых уже в силу самого принципа организации русского войска было неприменимо даже понятие профессионализма, лишало московское воинство перспектив на победу. То же самое касалось военачальников всех рангов. Полководца, равного по военным талантам Стефану Баторию, тогда трудно было найти во всей Европе. Понятно, что такой главнокомандующий не мог держать на офицерских постах своей армии кого угодно, а потому тщательно отбирал каждого. Московское же воинство и тут не знало профессионализма, воеводские должности занимались согласно «породе», где ранг командира строго соответствовал знатности его фамилии. А потому командный состав русской армии был не только не знаком даже с азами военного искусства, но никогда и не слышал о таком. Правда, было среди русских воевод немало талантливых самородков, причем некоторые из них могли считаться весьма незаурядными полководцами, но такие в нашем отечестве всем его правителям были не нужны, а потому наше отечество всегда старалось от них избавляться. А что касается именно Грозного царя, то с его приемами правления такие самородки неизменно кончали жизнь на плахе или в тюремном застенке.
Не гнушался русский царь в столь сложно складывающейся для него обстановке поиском союзников и заступников. Здесь наибольшие свои усилия он по-прежнему направлял в сторону Германского императора, продолжая пытаться подбить того на совместную борьбу против Батория, и писал даже папе в Рим, упрашивая усовестить польского короля, но все такие усилия пока оставались напрасными. Как метко подметил насчет последних шагов царя историк Карамзин, «имея силу в руках, но робость в душе, Иоанн унижался исканием чуждого, отдаленного вспоможения, ненужного и невероятного». Вырваться из международной изоляции Москве так и не удалось. Все, что смог тогда московский властелин, это издать и разослать по церквам и монастырям грамоту, взывающую православных к молитве Всевышнему за заступничество:
«Здесь на нас идет недруг наш, литовский король, со многими силами; мы к нему посылали о мире с покорением, но он с нами мириться не хочет и на нашу землю идет ратью. И вы бы пожаловали, молили Господа Бога и пречистую богородицу и всех святых, чтоб Господь Бог отвратил праведный свой гнев, движущийся на нас, и православного христианства державу сохранил мирну и целу, недвижиму и непоколебиму, а православному бы христианству победы дал на всех видимых и невидимых врагов».
Летом 1580 года королевская армия числом до пятидесяти тысяч человек расположилась у местечка Чашники, невдалеке от литовско-русской границы. В июле, перейдя границу, она двинулась в направлении города Великие Луки. Как мы помним, король давал Грозному пять недель для присылки послов, по истечении которых, даже зная, что русское посольство уже направляется в Литву, вторгся в пределы Московского государства. Тут, очевидно, дело не в принципиальности короля, не пожелавшим продлить отведенный для присылки послов срок, а в том, что он наверняка знал: договориться ни о чем не удастся, а упускать удобное для кампании летнее время не хотел. Правда, он снова сообщил о своем походе в Москву, добавив, что послы могут явиться к нему в лагерь, где бы он ни был.
Еще общим с кампанией прошлого года стало то, что король снова объявился там, где его не ждали. Только в августе на русской стороне стало ясно, что польско-литовская армия следует к Великим Лукам. Собственно говоря, направление вторжения имело мало значения. Грозный растянул свои силы так, что король прорвал бы русскую оборону в любом ее месте, но все же это направление стало наиболее неожиданным. Путь от Чашников до Великих Лук пролегал по непроходимым лесам и заболоченным равнинам. Королевское войско двигалось медленно, просекая путь в лесных дебрях, наводя мосты и строя гати, зато было вознаграждено тем, что прежде чем русские его обнаружили, оно, оставив позади себя даже ту призрачную линию обороны, вдруг совершенно неожиданно появилось перед русскими крепостями Усвят и Велиж, стоящими на самой границе.
Две небольшие русские крепости не надолго задержали противника под своими стенами. Баторий начал с Велижа. Пользуясь тем, что крепость деревянная, он приказал стрелять по ней калеными ядрами и не бросал людей на штурм даже тогда, когда крепость превратилась в горящий факел. Чудом уцелевшие остатки гарнизона вырвались из пламени и сдались. Усвят, также деревянный, последовал примеру Велижа, не дожидаясь обстрела и пожара. Здесь действия короля лишний раз подтверждают приводимые нами выше рассуждения, что он не рассчитывал всерьез и надолго овладеть русскими областями, они нужны были ему только как разменная монета за Ливонию. Понятно, что Баторий не хотел в кровопролитных штурмах губить своих людей, потому он и предпочел просто сжечь крепости. Но если бы он только собирался оставить эти земли за собой, то он нуждался бы и в крепостях на этой земле. Они были бы ему в этом случае дороже людей, и он не стал бы так оберегать жизнь воинов и жечь ради этого крепости, которые ему наверняка пригодятся в будущем.
От Усвята королевская армия двинулась на север, в середине августа она подошла к Великим Лукам и осадила город.
Тут события почти в точности повторили то, что год назад можно было наблюдать под Полоцком. Брошенный на поддержку Великим Лукам, располагавший большими силами, воевода князь Хилков остановился по соседству, под Торопцом, что в 50 верстах восточнее Великих Лук. Так и не решившись вступить в открытую баталию с польским королем, он простоял там, не двинувшись более в сторону Великих Лук ни на шаг, так что осажденные и тут остались предоставленными самим себе. Город этот, впрочем, как и Полоцк, являй собой довольно сильную крепость. Его опоясывали мощные укрепления, а гарнизон, возглавляемый воеводой Воейковым, насчитывал до семи тысяч человек. Крепость располагала большими арсеналами оружия и боеприпасов. Но, как и в предыдущих операциях, король не спешил со штурмом, тем более что он уже распознал пассивную тактику московского командования, а потому знал, что помощи осажденным извне оказано не будет.
Баторий приказал вести непрерывный обстрел города зажигательными снарядами, но устроить большой пожар, зажечь стены и башни так, чтобы защитники не могли их быстро потушить, долго не удавалось. А тем временем в королевскую ставку прибыли русские послы Сицкий и Пивов. Король встретил посольство в шатре, демонстративно нарушив весь принятый ритуал: не встал, когда послы кланялись ему от царя, не снял шапку, не ответил на приветствие, не спросил о царском здоровье. Послы заявили, что им велено править посольство в литовской земле, а не в государевой, а потому они возложенную на них миссию выполнять не будут. Баториево окружение в довольно грубой форме требовало от послов либо делать то, зачем их послали, либо отправляться назад. В конце концов, московские дипломаты согласились править посольство, но с условием, если король снимет с города осаду. Польско-литовская сторона отказала и в этом. Наконец, послы приступили к обязанностям: русская сторона уступала Литве Курляндию и еще 24 ливонских города, но требовала от короля возвратить Полоцк и признать за Москвой удерживаемую ею на то время часть Ливонии, а это Нарва, Дерпт и некоторые другие места. Чуть позже послы отказались и от претензий на Полоцк, но на всем остальном продолжали настаивать. Баторий же требовал всей Ливонии, а помимо того, Великих Лук, Новгорода, Смоленска, Пскова.
Послы заметили королевской стороне, что они не уполномочены брать на себя такие проблемы, а потому было решено послать гонца в Москву, доложить царю о последних требованиях противника. Гонец был отправлен, но король не собирался ждать его возвращения, а потому бомбардировка города продолжалась, пока, наконец, 5 сентября не взорвалась одна из крепостных башен. Очевидно, ядро через одну из пробоин попало в хранившийся в башне пороховой склад. Взрыв был такой силы, что до основания разрушил саму башню и снес значительную часть соседней стены. Видя это, противник, не ожидая приказа, бросился на приступ. Венгерская и польская пехота, немецкие ландскнехты ворвались в горящий город и устроили там страшную резню. В результате защитники крепости погибли все до единого, мало кто остался в живых и из жителей.
Овладение польско-литовским королем Великими Луками имело в той войне для Речи Посполитой такое же значение, какое имело для России овладение Грозным в 1563 году Полоцком. В результате победы в руках короля оказался важный стратегический узел, где, пересекаясь, сходились пути из Литвы и из Ливонии на Псков, Новгород и Смоленск.
Великие Луки были ключом всего северо-запада России. Крепость играла связующую роль в системе обороны большого региона, а окружающая ее территория представляла собой удобный плацдарм для наступления как на новгородско-псковский русский север, так и на центральные области Московского государства. И недаром Великие Луки явились единственной крепостью на русской земле, которую по взятии король велел немедленно восстановить. Судя по всему, она нужна была ему для успешного завершения войны.
И как после взятия королем год назад Полоцка очередь дошла до посланных ему на выручку и бесполезно простоявших поблизости воевод Шереметева и Шейна, так и теперь, покончив с Великими Луками, Баторий обратил оружие против стоявшего у Торопца Хилкова. Для этой операции король отрядил часть своих сил, поставив во главе их воеводу Збаражского. Тот 1 октября вышел к Торопцу и в открытой битве нанес русскому воеводе полное поражение. Победа королевских войск под Торопцом лишала южные новгородские районы последней защиты.
А вот дальше польский король допустил стратегическую ошибку, разделив свою армию надвое и поведя наступление одновременно в двух направлениях: на Смоленск и на Новгород. Наверноё, такое решение короля следует объяснить охватившей его победной эйфорией, вызванной последними, крупными удачами. Да и трудно было не поддаться такому соблазну, видя вокруг себя открытую, незащищенную территорию противника. Но главное обстоятельство, толкнувшее Батория на такое решение, которое в другой обстановке могло бы называться безрассудным, – это абсолютная пассивность русской стороны, какая-то напавшая на нее апатия, и, судя по всему, полная потеря воли высшим руководством.
Собственно говоря, просчет короля был не так уж и велик. Неудача подстерегла его воеводу только на Смоленском направлении. Сюда король отрядил корпус своих войск, в составе которого находилось всего девять тысяч человек. Во главе корпуса Баторий поставил оршанского старосту Филона Кмиту. Вряд ли противник рассчитывал с такими силами взять Смоленск, крепостная мощь которого намного превосходила все, с чем королевским войскам до сих пор в этой войне приходилось иметь дело. Скорее всего, поход Кмиты под Смоленск преследовал более разведывательные цели, нежели какие-то другие, когда вступать в большие сражения с крупными контингентами войск противника не следовало, но литовский воевода нарушил это правило, за что и поплатился. Со своими мизерными силами Кмита прошел от Витебска до самого Смоленска беспрепятственно, то есть оказался практически уже в глубоком русском тылу, не встретив сопротивления. Ну а дальше искушение взяло верх, и литовский воевода решил повоевать смоленские предместья. Но приблизительно в пяти верстах от города его вдруг встретили русские полки во главе с воеводой И.М. Бутурлиным. Противник вступил, было, в битву, но, не выдержав натиска, отступил к обозу и приготовился к обороне. Баталию остановила ночь. Ночью Кмита понял бесперспективность оборонительного боя: он находился в глубине русских владений с ничтожными силами, а помощи ждать было неоткуда. Во всяком случае, быстрой помощи. Литовский командующий сознавал, что окружить его лагерь имевшему значительный перевес Бутурлину не составит большого труда, и тогда вырваться будет трудно. А потому ночью оршанский староста приказал своему воинству сняться с позиций и отступил. Утром русские не обнаружили противника и бросились за ним вдогонку. Настигнуть уходящих удалось в сорока верстах от Смоленска у деревни Настасьино, на Спасских Лугах. Бутурлин с марша атаковал не готовое к бою, отступающее войско противника и разгромил его наголову. Остатки литовского корпуса спасались бегством. Победителям достались 10 пушек, 50 затинных пищалей и множество пленных. Свои трофеи Бутурлин отослал в Москву. Иван Грозный на радостях щедро наградил победителей. Победа при Настасьино в то горькое для русского царя время стала единственным его утешением. Победа была незначительная, не решавшая стратегических задач, не менявшая общего положения дел на фронте, но все-таки победа. Среди сыпавшихся на русского царя как из рога изобилия неудач, военных поражений, дипломатических провалов, вдруг весть о хоть каком-то успехе. Не исключено и то, что последняя удача, пусть даже такая маленькая, породила в душе царя надежду на изменения к лучшему, но серия последовавших вслед за тем новых неудач перечеркнула ее, поставив все на свои прежние места. Дело в том, что на другом направлении польско-литовского наступления, на новгородском, где боевыми действиями своих войск руководил сам король, обстановка для русской стороны продолжала складываться из рук вон плохо.








