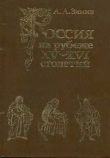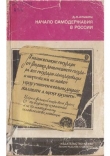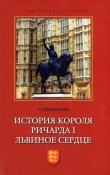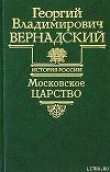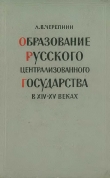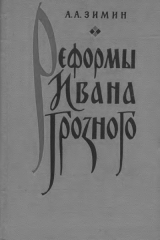
Текст книги "Реформы Ивана Грозного. (Очерки социально-экономической и политической истории России XVI в.)"
Автор книги: Александр Зимин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Рост товарного производства приводил к росту имущественного неравенства на посаде. Наряду с «серед-ними» посадскими людьми выделялась верхушка («лучшие» люди) и беднота («молодчие» люди). В Серпухове в 1552 г. было 514 дворов «молодчих» и 109 дворов «середних» людей [612]612
П. Симеон, указ. соч., стр. 152; ср. Н. Д. Чечулин, указ. соч., стр. 177.
[Закрыть].
Уже к началу XVI в. процент «лучших» и «середних» людей в городах Новгородской земли не превышал 20–25 % [613]613
А. Г. Ильинский, Городское население Новгородской области в XVI в. («Историческое обозрение», т. IX, СПб., 1897, стр. 221, ср. 232).
[Закрыть]. Основную массу городского населения, следовательно, составляла беднота. Расслоение посадских людей отразилось и в законодательстве середины XVI в. Если Судебник 1550 г. приравнивал черного городского «молодчего» человека к крестьянину (установив штраф ему за бесчестье в 1 рубль), то за оскорбление «середнего» человека платили 5, а за «больших» торговых людей даже 50 рублей.
В верхушку торгово-ремесленной части городов, своеобразный городской патрициат, наделенный особыми льготами и привилегиями, входили гости и торговые люди суконной и гостиной сотен.
Видными московскими гостями в 20–30-х годах XVI в. были: новгородский купеческий староста В. Н. Тараканов [614]614
ПСРЛ, т. VI, СПб., 1853, стр. 281. О нем подробнее см. В. Г. Сыроечковский, Гости-сурожане, М.—Л., 1935, стр. 113; А. П. Пронттейн, указ. соч., стр. 145.
[Закрыть], а также Д. И. Сырков [615]615
ПСРЛ, т. VT, стр. 282; в 1518 г. упоминаются гости Юрий Бобынин и его брат Алексей (М. Н. Тихомиров, Из «Владимирского Летописца» – «Исторические записки», кн. 15, 1945, стр. 296).
[Закрыть]. Сыновья последнего Федор и Алексей в середине XVI в. были очень крупными торговцами. Называя Федора Сыркова «знатным и именитым человеком», Альберт Шлихтинг пишет, что «можно видеть 12 монастырей, выстроенных и основанных им же на свой счет» [616]616
А. Шлихтинг, Новое известие о России времен Ивана Грозного, Л., 1934, стр. 30. О постройках Федора Сыркова в 30-х – начале 60-х годов см. А. П. Пронштейн, указ. соч., стр. 146–147.
[Закрыть]. В. Сузин вел долгие годы (во всяком случае с 1541 г.) торговые операции с торговыми людьми г. Вильно [617]617
Сб. РИО, т. LIX, № 28, стр. 439–440.
[Закрыть]. Нам известны и другие гости 30–40-х годов XVI в. Так, гость И. М. Антонов в 1534/35 г. дал в Троице-Сергиев монастырь двор в Москве [618]618
Троице-Сергиев м., кн. 520, л. 166 об. – 168 об.
[Закрыть].
Гости-сурожане, исчезающие в первой половине XVI в. в Москве в связи с упадком крымской торговли, продолжают еще встречаться среди новгородского купечества [619]619
ААЭ, т. I, № 205.
[Закрыть]. Еще в 1548 г., во время пожара на Нутной улице, сгорел один сурожский двор [620]620
ПСРЛ, т. III, СПб., 1841, стр. 153; А. П. Пронштейн, указ. соч., стр. 144–145.
[Закрыть].
Являясь крупнейшими представителями русского купечества, гости вместе с тем были и своеобразными великокняжескими агентами по торговым делам. Именно поэтому многие из них вливались в состав господствующего класса феодалов, становились крупными землевладельцами, занимали видное место в правительственном аппарате, как это было не только с Головиными, Ховриными и Траханиотовыми, но и с менее знатными купцами – Дьяконовыми, сыном Сильвестра Анфимом [621]621
Анфим Сильвестров был близок к печатнику и казначею X. Тютину. Вместе с ним он вел торговые операции с иноземцами (Сб. РИО, т. LIX, стр. 439). В 1550/51 г. он выступал послухом в меновной грамоте Тютина на московский двор (Троице-Сергиев м., кн. 530, Москва, № 2). Да и сам Анфим в 1556 г. приобрел в «Новом городе» в Москве двор, ранее принадлежавший Троицкому монастырю (АИ, т. I, № 164).
[Закрыть], Алексеем и Федором Сырковыми и др.
Из числа торговых людей – сведенцев из Смоленска [622]622
В 1549 г. упоминаются «сведенцы смольняне, паны московские»; см. также «смолнян, которые на Москве и в Смоленске живут» (ДАИ, т. I, № 116, стр. 164; ААЭ, т. I, № 223). Подробнее о сведенцах см. С. В. Бахрушин, Научные труды, т. I, стр. 103.
[Закрыть]образовалась к середине XVI в. часть столичного купечества – «суконная сотня», т. е. привилегированная торговая корпорация, ведшая торговлю с Западом («сукна» привозились именно оттуда). Во главе ее стоял особый «суконничий староста» [623]623
АН, т. I, № 164.
[Закрыть]. Некоторые из видных купцов-смольнян брали на откуп взимание таможенных пошлин (например, Ф. Кадигробов в 1551 г. на рынке в Холопьем торгу) [624]624
РИБ, т. XXXII, № 182; о том, что Ф. Кадигробов был «смолнянином» см. грамоту 1549 г. (там же, № 172).
[Закрыть]. У торговых людей скапливались довольно значительные денежные средства [625]625
С. Герберштейн, например, отмечал, что купцы из г. Дмитрова имели «великие богатства» (С. Герберштейн, указ. соч., стр. 122).
[Закрыть].
В 20-х годах XVI в. жители Нарвы писали в Ревель, характеризуя несколько преувеличенно рост русских городов: «Вскоре в России никто не возьмется более за соху, все бегут в город и становятся купцами… Люди, которые года два тому назад носили рыбу на рынок или были мясниками, ветошниками и садовниками, сделались пребогатыми купцами и финансистами и ворочают тысячами» [626]626
Г. Гильдебранд, указ. соч., Приложения, стр. 93.
[Закрыть]. Но обогащение верхушки было лишь одной стороной процесса расслоения посадских людей.
Характерной чертой товарного производства в первой половине XVI в. было увеличивающееся применение наемного труда в промышленности. Этот факт, несомненно, связан с расслоением посадских людей и постепенным сложением своеобразного предпролетариата, лишенного средств производства и продающего свой труд. К середине XVI в. целый ряд отраслей промышленности пе обходился без наемного труда. Так, кузнечные «казаки» известны в качестве молотобойцев в кузнечном производстве Серпухова [627]627
См. соображения, сделанные Б. А. Колчиным в его работе «Обработка железа в Московском государстве в XVI в.», стр. 194.
[Закрыть]. Л. В. Данилова и В. Т. Пашуто считают, что «наемный труд применялся главным образом не в промышленности, а в строительном деле, торговле и транспорте» [628]628
Л. В. Данилова, В. Т. Пашуто, указ. соч., стр. 134.
[Закрыть]. Вследствие недостаточности сравнительного материала это утверждение остается гипотетичным, хотя фактов об участии «казаков» в транспортных операциях у нас немало. «Казаки» помогали погружать соль на судна и разгружать судна с товаром в Каргополе и в Турчасове, получая «наем». Они же взвешивали соль на весах. При этом казаков было в этих посадах примерно по 60 человек [629]629
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 3096. Еще в 1546 г. карго-польцы, онежане и жители других двинских земель привозили в Турчасово соль, где ее «бьют в рогожи казаки» (РИБ, т. XXXII, № 163).
[Закрыть]; они были подведомственны таможникам. Очевидно, вербовались они из местного населения («А которые каргопольские казаки не похотят быти у таможников, и таможникам держати казаков белозерцев» [630]630
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 3096. Еще в 1546 г. карго-польцы, онежане и жители других двинских земель привозили в Турчасово соль, где ее «бьют в рогожи казаки» (РИБ, т. XXXII, № 163).
[Закрыть]. В таможенной грамоте было указано, чтобы, «оприч каргопольцев – городских людей и посадских людей и становых и волостных, белозерцы и Вологодцского уезда крестьяне» не нанимались «соли во-зити в судех». В Устюжне в 1542/43 гг. товар взвешивали особые «робята» [631]631
ЦГАДА, Городовые книги по Устюгу Великому, № 1, л. 55–65. На Двине в 1560 г. товары взвешивались пудовщи-ками и их «робятами». Категорически запрещалось приезжим купцам для подъема использовать своих «казаков» (ЛЗАК, вып. XXXIV(I), Л., 1927, стр. 201–202).
[Закрыть].
В 1521 г. «наймиты» работали на «паусках» (речных судах), приезжавших в Дмитров [632]632
РИБ, т. XXXII, № 103.
[Закрыть]. Казаки – «дрововозы», получавшие «наем», существовали в середине XVI в. и в Холмогорах и двинских посадах, где наемные люди сгружали там же хлеб из лодей и погружали на них соль [633]633
Архив ЛОИИ, ф. Николаевского-Корельского монастыря. № 937, л. 4, 5, 15 об.
[Закрыть].
Рост товарно-денежных отношений оказывал воздействие и на феодальную деревню. Здесь происходил процесс обезземеливания и обнищания крестьянства, приводивший к пополнению кадров наемных людей и к развитию применения наемного труда в хозяйствах крупных феодалов. «Детеныши» или «казаки» трудились как на монастырских промыслах, так и в сельском хозяйстве.
В середине XVI в. Николаевский-Корельский монастырь нанимал на посаде «казаков» для обработки своей пашни [634]634
«Саватей старец в Неноксу ездил казаков наймовати на страду» (Архив ЛОИИ, ф. Николаевского-Корельского монастыря, № 937, л. 6 об.).
[Закрыть]. У этого монастыря были «наймиты» мельники и «жерновщики» [635]635
Архив ЛОИИ, ф. Николаевского-Корельского монастыря, № 937, л. 10.
[Закрыть]. Очевидно, они работали в течение сезона– лета (см. о плате «наймитам летовым») [636]636
Архив ЛОИИ, ф. Николаевского-Корельского монастыря, № 937, л.21 об.
[Закрыть]. В 1543/44 г. в селе Спасском Кирилло-Белозерского монастыря был «двор коровей монастырский, а живут в нем дети монастырские» [637]637
А. X. Горфункель, указ. соч., стр. 93.
[Закрыть]. Кирилловские детеныши выполняли основные сельскохозяйственные работы: «Весне дети ратаи взорют целизну яровое поле», затем «робята изборонят», после чего «в паренину ратаи взорют» и т. п. Это описание сельскохозяйственных работ, как установил А. X. Горфункель, относится примерно к середине XVI в. [638]638
А. X. Горфункель, указ. соч., стр. 93.
[Закрыть]Казаки из окрестных земель («выремские», «сумские») работали в 1548 г. в Соловецком монастыре. Были случаи, когда сюда приходили и казаки «незнаемые» [639]639
ААЭ, т. I, № 221, стр. 210–211.
[Закрыть].
Наемный труд применялся и Троице-Сергиевым монастырем при работе его варниц. Так, в 1545 г. в Нерехте были «варницы и двор монастырской и казачьи дворы и лавки на торгу», у Соли Переяславской и у Соли Галицкой тоже были «казачьи дворы» [640]640
Троице-Сергиев м., кн. 527, л. 256–257 об. В 1542 г. «ка-заки-приходцы» поражались «в варницы, и в поворы и в водоливы» за Троицкий монастырь в Новой Соли на Холуе (ААЭ, т. I, № 200, стр. 179).
[Закрыть]. «Казаки» работали на постройке ограды Троице-Сергиева монастыря в 1540 г. [641]641
ААЭ, т. I, № 190, стр. 167.
[Закрыть]В 1548 г. в новгородском архиепископском доме для обработки пашни была наемная «мельнитцкая дружина», получавшая жалование [642]642
И. К. Куприянов, указ. соч., стр. 41.
[Закрыть].
В 1531 г. «казаки» за небольшую сдельную плату выполняли небольшие вспомогательные работы во псковской Завеличской церкви (чистили погреб и др.) [643]643
И. П. Сахаров, Расходная книга псковской Завеличской церкви, стр. 1, 2.
[Закрыть]Около 1553 г. детеныши были в костромском Ипатьеве монастыре, где они получали «наем», «шубы», «сапоги» [644]644
«Сборник Археологического института», кн. б, отд. II, стр. 127, 129 (величина «найма» – 7 алтын).
[Закрыть]. «Дети деловые», очевидно, работали на монастырской пашне.
Изучению характера феодального найма уделила внимание А. М. Панкратова [645]645
См. А. М. Панкратова, Наймиты на Руси в XVII в., стр. 200–215; см. ее же, О роли товарного производства при переходе от феодализма к капитализму («Вопросы истории», 1953, № 9, стр. 59 и след.).
[Закрыть]. Отмечая некоторый рост численности «наймитов» уже с XV в., она считала, что для XV–XVI вв. нельзя еще говорить об изменении характера эксплуатации наемного труда – его феодальная основа оставалась непоколебленной. Расширение применения наемного труда связано с ростом товарного производства, вызывавшего потребности в рабочей силе для ремесла, как и для хозяйства феодалов, приспосабливавшихся к товарным отношениям [646]646
А. М. Панкратова справедливо писала: «Барщинная система хозяйства» сделала наемный труд «жизненно необходимым» (А. М. Панкратова, Наймиты на Руси в XVII в., стр. 202.
[Закрыть]. Вместе с тем рост товарного производства приводил к усилению имущественного неравенства на посаде и среди крестьянства. Происходит обезземеливание крестьянства и обнищание посадских людей; из этой среды и появляются «наймиты», «казаки» и «детеныши» [647]647
А. М. Панкратова, Наймиты на Руси в XVII в., стр. 204.
[Закрыть]. Сфера применения наемного труда еще была узка. Из приведенного выше материала видно, что она ограничивалась хозяйством крупных феодалов [648]648
А. М. Панкратова, Наймиты на Руси в XVII в., стр. 203.
[Закрыть]и посадом (соляная и железоделательная промышленность в первую очередь).
Вопрос о форме эксплуатации детенышей в Волоколамском монастыре по Книге ключей впервые был поставлен М. Н. Тихомировым. Он указал, что большинство «детенышей», несомненно, принадлежало к зависимым монастырским людям [649]649
М. Н. Тихомиров, Монастырь-вотчинник XVI в., стр. 149.
[Закрыть]Одним из доказательств зависимости является, по мнению автора, система поруки, гарантировавшая их службу за взятые вперед из монастырской казны деньги; они могли уйти до срока, только «уплатив полученные деньги» [650]650
М. Н. Тихомиров, Монастырь-вотчинник XVI в., стр. 150.
[Закрыть]. Эти выводы вызвали возражение Б. Д. Грекова, который утверждал, что мы имеем дело с «текучей массой монастырских работников» [651]651
Б. Д. Греков, Крестьяне на Руси, кн. 2, стр. 150–153 и след.
[Закрыть]. Детеныши – «одна из многочисленных категорий наемных людей». Зависимость их от господина была «очень относительна». Причем, как правило, замечал Б. Д. Греков, заработная плата детенышу выдается после выполнения работы, а не вперед [652]652
Б. Д. Греков, Крестьяне на Руси, кн. 2, стр. 154.
[Закрыть]. Такая характеристика положения детенышей создает не вполне правильную оценку феодального найма.
Книга ключей Волоколамского монастыря рисует довольно полно условия жизни детенышей и «мастеров», ремесленников, работавших на заказ (портных, кузнецов, сапожников и др.) в крупной вотчине середины XVI в. (1547–1560 гг.). Все они обычно получали в октябре вперед на год денежный «оброк», называвшийся иногда «наймом» [653]653
В древней Руси «наймом» же называлась «лихва», проценты с долга; ср. Б. Д. Греков, Крестьяне на Руси, кн. I, М., 1950, стр. 170.
[Закрыть], определенную сумму (детеныши обычно 4 гривны), которую они должны были отработать своим трудом. Чтобы закрепить детенышей за монастырем, была создана сложная система поруки: если детеныш досрочно уходил или убегал, поручник возвращал в монастырь взятые им деньги [654]654
Н. Тимофеев, указ. соч., стр. 68.
[Закрыть]. Поручниками детенышей могли быть их отцы, ведшие самостоятельное хозяйство, т. е. имевшие дворы в монастырской вотчине; могли быть ими особо проверенные слуги, старцы. Если детеныш сам был домохозяином, то наличие двора у него могло засчитаться ему в поруку. Кроме платы деньгами, детеныши могли получать и натуральное довольствие. В Волоколамском монастыре им выдавалось питание в «чулане» вместе со всеми другими служебниками [655]655
Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Волоколамский монастырь, кн. 681, л. 91.
[Закрыть]Жили они обычно в самом монастыре на «детином дворце» (или детиной избе) и находились под контролем специально приставленного к ним слуги (в кабалах конца 60–70-х годов XVI в. Спасо-Прилуцкого монастыря этот слуга именовался нарядником) [656]656
В. Г. Гейман, указ. соч., под № 13, 14, стр. 289.
[Закрыть]. Могли они жить и по селам.
Основным занятием детенышей были сельскохозяйственные работы и в первую очередь обработка монастырской пашни в той же мере, как это делали деловые люди, основным занятием которых была обработка пашни светских феодалов [657]657
М. Н. Тихомиров, Монастырь-вотчинник XVI в., стр. 144. На пашне работали детеныши Николаевского-Корельского монастыря в 1554 г. («Сборник грамот Коллегии экономии», т. I, № 138). В середине XVI в. пашню Софийского дома обрабатывали так называемые «дружины» наемных людей, близких но положению к детенышам (Б. Д. Греков, Очерки по истории хозяйства новгородского Софийского дома, II, стр. 126–129).
[Закрыть]. Из детенышей или «делавцев черных», как их называет «Обиходник» Ефимия Туркова, вербовались многочисленные истопники, дворники, поваренки (ср. «поваренные детеныши» в Костромском монастыре), «мастера» – ремесленники, обслуживавшие различные нужды монастырского хозяйства (их встречаем на кузнечном дворце, в числе дворников и т. д.).
Детеныши в подавляющем большинстве своем происходили из крестьян подмонастырских сел и деревень (у Лариона Алексеева был двор в деревне Фадеевой, дядя Сергея Драничникова жил в деревне Чаще и т. д.) [658]658
Книга ключей, стр. 13, 69.
[Закрыть]. Если формально детеныши, отработав год, могли уйти, то по существу они были лишены этой возможности. Получив денежный оброк в виде задатка, они к концу срока службы снова вынуждены были идти в кабалу, поскольку в большинстве своем они собственного хозяйства, а отсюда, следовательно, и средств для собственного обеспечения не имели. Б Книге ключей Волоколамского монастыря зарегистрирована выплата оброков за 13 лет (1547–1559 гг.), причем ежегодно за монастырем было до 50 детенышей. Примерно половина этого числа служила, по имеющимся отрывочным данным, не менее десяти лет. Если бы у нас были сведения за больший отрезок времени и более исправные, то мы могли бы убедиться, что на монастырь работали детеныши из поколения в поколение. Характерно, что из 45 детенышей, получивших оброк на 1556/57 г., 40 человек работало на монастырь раньше или позже этого года и только 5 упомянуты в Книге ключей всего один раз. «Перехожие» детеныши из «гулящих» людей-казаков, представляют собою явление довольно редкое (их число увеличивается только в XVII в.). Появление детенышей как группы зависимых людей в русских монастырях XVI в. свидетельствовало о разорении крестьянства, ухудшении его материального положения. Задавленные феодальным гнетом крестьяне вынуждены были сами идти в кабалу или отдавать в кабалу своих детей.
Феодальный характер эксплуатации детенышей, таким образом, виден из анализа его условий. Даже в XVII в., по словам А. М. Панкратовой, наймиты «были ближе к феодально зависимым людям, чем к вольнонаемным рабочим позднейшего времени» [659]659
А. М. Панкратова, Наймиты на Руси в XVII веке, стр. 205, 209–210.
[Закрыть]. Грань, разделявшая детенышей от кабальных людей, также была невелика. В нашем распоряжении имеются «кабалы» середины XVI в. обедневших людей, аналогичные служилым кабалам, заключая которые эти люди становились монастырскими детенышами. Так, Моисей Нифантиев с детьми в 1552/53 г., заняв у келаря Спасо-Прилуцкого монастыря 1 рубль денег на год, обязывался поставить избу в деревне Левашеве, «пахать… да и оброк мне дать по книгам»; он стал монастырским детенышем [660]660
В. Г. Гейман, указ. соч., под № 1, стр. 285.
[Закрыть]. Иногда в кабале прямо оговаривалось: «за рост» закабаляемый обязан «служити в детех на дворце, всякое дело черное делати з детьми. А полягут деньги по сроце и мне служити по тому же за рост» [661]661
В. Г. Гейман, указ. соч., под № 12; ср. № 13, 14, стр. 288–289.
[Закрыть]. Перерастание наемного труда в кабальный свидетельствовало о том, что этот труд не сделался основой для формирования капитализма [662]662
См. А. М. Панкратова, О роли товарного производства при переходе от феодализма к капитализму, стр. 70–71.
[Закрыть].
Таким образом, к середине XVI в. в результате углубления процесса общественного разделения труда увеличилось значение ремесла и торговли в хозяйственной жизни страны. Росли города. Говоря о средневековой Европе, Энгельс отмечает, что «бюргеры стали классом, который олицетворял собой дальнейшее развитие производства и обмена, образования, социальных и политических учреждений» [663]663
Ф. Энгельс, О разложении феодализма и возникновении национальных государств, стр. 154.
[Закрыть].
Сходные процессы происходили и в России. В русских городах происходит уже процесс расслоения посадского населения на «лучших» и «молодших» людей. Появление городского патрициата и рост посадской бедноты приводил к обострению классовой борьбы между ними, что ярко проявилось в городских движениях середины XVI в.
Глава IV
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА НАКАНУНЕ РЕФОРМ
Российское централизованное государство первой половины XVI в. представляло собой аппарат насилия господствующего класса феодалов.
К середине XVI в. в экономике страны явно обозначились серьезные сдвиги, которые, однако, еще не нашли достаточно полного отражения в надстройке и прежде всего в политическом строе общества. Командные высоты в государственном аппарате по-прежнему занимали представители княжеско-боярской аристократии, а сам этот аппарат сохранял многие черты старой дворцово-вотчинной администрации. Несмотря на то что к середине XVI в. все больше и больше проявлялись черты политического влияния дворянства (создание губных учреждений и т. д.), задачи перестройки государственного аппарата в целом не были еще решены.
* * *
Российское государство первой половины XVI в. распадалось на отдельные «земли», частью даже княжества, сохранявшие «живые следы прежней автономии», свои особенности в управлении. Страна еще не изжила экономическую раздробленность, что объясняло в конечном счете и существование пережитков раздробленности политической, наличие полусамостоятельных удельных княжеств, имевших свой аппарат управления, не всегда прочно связанный с великокняжеской канцелярией [664]664
См. С. Б. Веселовский, Последние уделы в Северо-Восточной Руси, стр. 101 и след.; С. М. Каштанов, Из истории последних уделов («Труды Московского госудапственного истотшко-архивного института», т. X, М… 1957, стр. 275–302); В. С. Шульгин, Ярославское княжество в системе PvccKoro централизованного государства в конце XV – первой половине XVI вв. («Научные доклады Высшей школы. Исторические науки», № 4, 1958, стр. 15).
[Закрыть].
К середине XVI в. сохранялись удельные княжества брата Ивана IV Юрия Васильевича Углицкого, его двоюродного брата Владимира Андреевича (Старицкий удел), а также менее значительные уделы княжат Воротынских, Одоевских и Мстиславских. Впрочем, эти княжата постепенно из числа «слуг» – вассалов переходят на положение великокняжеских бояр, теряя остатки былой самостоятельности. Удел слабоумного князя Юрия фактически управлялся великокняжеской канцелярией, где существовал специальный Угличский дворец. Таким образом, процесс ликвидации уделов на Руси постепенно завершался.
Высшая власть к середине XVI в. в Российском государстве осуществлялась великим князем и Боярской думой. Образование Русского централизованного государства привело к значительному увеличению авторитета великокняжеской власти. Великому князю принадлежало право назначать на высшие государственные должности, в том числе в Боярскую думу. Он же возглавлял вооруженные силы страны и ведал ее внешнеполитическими делами. От его имени издавались законы. Великокняжеский суд являлся высшей судебной инстанцией [665]665
Великий князь судил феодалов-иммунистов. Он же выносил решения по другим делам, которые не был в состоянии решить суд низшей инстанции.
[Закрыть]. При всем этом власть великого князя была ограничена Боярской думой, являвшейся сословным органом княжеско-боярской аристократии.
Боярская дума, как совет представителей феодальной аристократии, занимала важное место в правительственном аппарате [666]666
Об аристократическом составе Боярской думы см. В. О. Ключевский, Боярская дума древней Руси, Пг., 1919. О ее деятельности в первой половине XVI в. см. Г. В. Гальперин, указ. соч., стр. 195–210.
[Закрыть]. Бояре не только участвовали в заседаниях великокняжеского суда, но часто «бояре введеные» вершили дела в суде последней инстанции [667]667
Так, на суде, состоявшемся в 1535 г., судья низшей инстанции «рекся» доложить, т. е. передать дело на рассмотрение высшей инстанции «великого князя или его бояр» (АГР, т. Г, № 45). В 1538 г. указано было истцу «стати на Москве перед бояры у доклада», в результате чего он «з боярского докладу» получил селище (АГР, т. I, № 50).
[Закрыть]. Иногда решения («приговоры») принимались на заседании Боярской думы в целом [668]668
См., например, «приговор боярской» 1520 г. о «разграбленной» деревне одного попа (Н. П. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., стр. 176–177). В 30-х годах XVI в. «приговорили дати все бояре» мельницу на оброк (С. А. Шумаков, Обзор, вып. IV, № 1302, стр. 474).
[Закрыть].
Особенно увеличилось значение Боярской думы в годы малолетства Ивана IV. На ее заседании решался вопрос о «поимании» князя Андрея Старицкого, с «боярского совету» выступали против своих политических противников князья Шуйские [669]669
Подробнее см. главу V.
[Закрыть], Боярская дума обсуждала в 1541 г. вопрос о походе против крымского хана [670]670
ПСРЛ, т. VIII, стр. 297.
[Закрыть], принимала решения по земельным и иным делам отдельных феодалов [671]671
В грамоте 1537/38 г. сообщалось, что обмен вотчинами между Сабуровым и Пешковыми был произведен по решению Боярской думы. С. Д. Пешков «искал» на своем племяннике «перед бояры», «и бояре… вотчинами велели розменитесь» (Троице-Сергиев м., кн. 530, Коломна, № 5). Митрополичий боярин В. Ф. Сурмин вспоминал в 1541/42 г.: «По той кабале мы били с Ушаком перед бояры перед великого князя, и по грехом по моим бояре на мне велели выть по кабале взяти» (там же, л. 30–38).
[Закрыть].

Бояре занимали важнейшие посты в центральном (дворцовом) и местном (наместническом) аппарате. Наряду с великим князем бояре рассматривали наиболее ответственные судебные споры феодалов [672]672
См. АФЗиХ, ч. 1, № 222. Их обычно именовали «введеные бояре».
[Закрыть]. Из их среды назначались крупнейшие военачальники. Велика была роль Боярской думы во внешнеполитических делах. Бояре ставились во главе посольских миссий [673]673
Сб. РИО, т. LIX, № б, 9, стр. бб, 147 и др.
[Закрыть]и вели переписку с панами рады Великого княжества Литовского. Все важнейшие внешнеполитические дела рассматривались великим князем совместно с боярами [674]674
Формула великий князь «приговорил с бояры» встречается обычно в посольских делах (ЦГАДА, Крымские дела, кн. 8, л. 209 об., 230 и след.). В случае, когда Боярская дума выносила то или иное решение, в документах писалось, что «бояре приговорили», а когда к определенному решению не пришли, писалось: «бояре поговорили» (Сб. РИО, т. LIX, № 9, стр. 158). См. также С. Б. Веселовский, Две заметки о Боярской думе («Сборник статей, посвященных С. Ф. Платонову», СПб., 1911, стр. 299 и след.).
[Закрыть]. Присутствовали бояре и на аудиенциях, приемах послов [675]675
Сб. РИО, т. LIX, стр. 65 и др.; ср. В. И. Савва, указ. соч., вып. I, стр. 168.
[Закрыть].
Состав Боярской думы в первой половине XVI в. был невелик: так, к концу 1533 г. в нее входило всего около 12 человек бояр и трое окольничих [676]676
А. А. Зимин, Состав Боярской думы в XV–XVI вв. («Археографический ежегодник за 1957 г.», М., 1958, стр. 41–87.
[Закрыть]. Думные должности находились в руках у небольшого числа аристократических фамилий. Это были прежде всего группа чернигово-северских князей и «гедиминовичей» (Глинские, Бельские, Оболенские, Мстиславские и др.) затем потомки ростово-суздальских княжат (Ростовские, Шуйские, Горбатые и др.) и, наконец, представители старомосковского боярства (Морозовы, Шейны, Челяднины, Воронцовы). Кичливая феодальная знать вела между собой постоянную борьбу за земли, чины и звания.
Порядок назначения на думные, равно как и на другие высшие судебно-административные и военные должности, определялся системой местничества, т. е. положением феодала на сословно-иерархической лестнице. Это положение зависело от ряда обстоятельств и прежде всего от знатности «рода», т. е. от происхождения; имели значение «службы» данного лица и его предков при великокняжеском дворе [677]677
Подробнее см. А. И. Маркевич, История местничества в Московском государстве в XV–XVI вв., Одесса, 1888.
[Закрыть]. Знатные княжеские и боярские фамилии имели преимущественное право на занятие высших должностей в государственном аппарате. С этим правом вынуждена была считаться даже великокняжеская власть, что приводило к засилью феодальной аристократии в высших органах власти и управления страной. Задачи укрепления централизованного аппарата власти настоятельно требовали ликвидации этого засилья.
К середине XVI в. все явственнее обнаруживалась тенденция к ограничению боярского своеволия. Это прежде всего выражалось в росте значения великокняжеской власти. Один из руководителей боярской оппозиции, И. Н, Берсень Беклемишев, говорил о Василии III, что «ныне, деи, государь наш запершыся сам третей у постели всякие дела делает» [678]678
ААЭ, т. I, № 172, стр. 142.
[Закрыть]. Яркой иллюстрацией к этим словам Берсеня была история составления Василием III своего завещания незадолго до смерти [679]679
См. А. Е. Пресняков, Завещание Василия III («Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову», стр. 71–80).
[Закрыть]. Постепенно происходят изменения и в составе Боярской думы. В связи с возросшей политической ролью дворянства в делах этого учреждения стали принимать большое участие дети боярские, «которые в Думе живут» (среди них, например, любимец Василия III И. Ю. Шигона Поджогин и др.) [680]680
Сб. РИО, т. XXXV, стр. 40. Оружничий имел штаты своих помощников; ср. под 1513 г. оружничего и тех, кто «с ним (же) и доспеху стряпают» (ДРК, стр. 52).
[Закрыть], и дьяки, взявшие в свои руки все делопроизводство Думы. Зарождались, таким образом, новые думные чины – думных дворян и думных дьяков [681]681
См. Н. П. Лихачев, Думное дворянство в Боярской думе XVI в. («Сборник Археологического института», СПб., 1893, кн. 6, стр. 3—16).
[Закрыть].
В боярских комиссиях Думы наряду с боярами вид-ное место занимали казначеи, дьяки и неродовитые феодалы [682]682
Подробнее см. В. И. Савва, указ. соч., вып. I, стр. 29 и след.; С. А. Белокуров, О Посольском приказе, стр. 1 и след.
[Закрыть].
Но особенное значение для судеб правительственного аппарата имело увеличение роли дворцового аппарата и великокняжеской канцелярии. Создание централизованного государства привело к расширению великокняжеского хозяйства, управление которым было сосредоточено в руках у дворецкого [683]683
Дворецкие, например, судили великокняжеских бортников и, очевидно, других людей дворцовых земель (см. грамоту 1535 г. в Государственном архиве Владимирской области, ф. 575, № 1, л. 2 об.). Они отдавали распоряжения, касавшиеся дворцовых крестьян (грамота 1547 г., ГИМ, Симонов монастырь, кн. 58, л. 83—184 об.).
[Закрыть]. Дворецкий не только ведал в судебно-административном отношении населением великокняжеского домена, но часто выступал и в качестве судьи последней инстанции. Вместе с тем дворецкие долгое время активно участвовали в решении ряда общегосударственных дел. В их распоряжении находился большой штат дьяков, постепенно специализировавшихся по выполнению различных государевых «служб». Наряду с казначеями дворецкие осуществляли контроль над деятельностью кормленщиков [684]684
П. А. Садиков, Очерки по истории опричнины, стр. 215–216.
[Закрыть]. Дворецкие выдавали и скрепляли своей подписью жалованные грамоты феодалам [685]685
АГР, т. I, № 52.
[Закрыть]. Они же судили самого иммуниста или население его владений по спорным делам с другими феодалами, черносошными крестьянами или посадскими людьми [686]686
АГР, т. I, № 52, 53; С. А. Шумаков, Обзор, вып. IV, № 1391.
[Закрыть].
Суд по наиболее важным уголовным делам (разбое и татьбе с поличным) также входил в компетенцию дворецких [687]687
С. А. Шумаков, Новые губные и земские грамоты (ЖМНПр., 1909, № 10, стр. 339).
[Закрыть]. Суд дворецкого был вообще последней инстанцией: ему, как и «введеным боярам», докладывались все дела, не решенные судом низшей инстанции [688]688
См. АГР, т. I, № 54, 55 и др.
[Закрыть]. Н. Е. Носов считает, что до реформ середины XVI в. дворцовые ведомства и казна сосредоточивали в своих руках почти все основные отрасли государственного управления [689]689
Н. Е. Носов, Очерки, стр. 322.
[Закрыть]. Если даже признать, что Н. Е. Носов несколько преувеличивает значение дворцовых ведомств, то и при этом условии дворец останется одним из основных правительственных учреждений конца XV – первой половины XVI в. (наряду с Боярской думой и др.).
Возникновение института дворецких, следовательно, тесно связано с процессом создания Русского централизованного государства. Великокняжеские дворецкие в своем большинстве вербовались из состава старинного нетитулованного боярства, с давних пор тесно связанного с Москвою. Конечно, при назначении на эту должность играли большую роль и другие не менее важные обстоятельства (служба при великокняжеском дворе, родственные связи с московским государем и др.).
К числу важнейших дворцовых чинов принадлежал «конюший» (упоминается в источниках с начала XVI в.). Позднее, в XVII в., Котошихин, вспоминая старину, писал, что «кто бывает конюшим, и тот первой боярин чином и честию» [690]690
Г. Котошихин, О России в царствование Алексея Михайловича, изд. 4, СПб., 1906, стр. 81. О дворцовых чинах XVI–XVII вв. сводку фактических данных см. В. И. Сергеевич, указ. соч., стр. 466–559.
[Закрыть]. Даже дворецкий на местнической лестнице рассматривался «честию» вторым, т. е. «под конюшим первой» [691]691
Г. Котошихин, указ. соч., стр. 88. В разрядных росписях за первую половину XVI в. конюший обычно упоминается перед дворецким; ср. ДРК, стр. 44, 129, 144.
[Закрыть]Конюшими, как и дворецкими, назначались представители старомосковской аристократии (долгое время, например, ими были Челяднины). Возможно, еще в начале XVI в. появился чин кравчего, который обязан был во время пиров ставить на великокняжеский стол «яству» и подносить великому князю чаши с напитками [692]692
Г. Котошихин, указ. соч., стр. 25; В. Любич-Романович, указ. соч., стр. 30–31.
[Закрыть]. О кравчих в первой половине XVI в. сохранились лишь неясные сведения; позже исполнение этой должности предшествовало получению боярского звания.
В начале XVI в. в связи с возросшим значением огнестрельного оружия появился чин «оружничего», которому были подведомственны «доспех» (т. е. вооружение) и «мастеры» (т. е. оружейники) [693]693
Сб. РИО, т. LIX, стр. 63.
[Закрыть]. Этот чин считался ниже конюшего, кравчего и дворецкого. Оружничими назначались менее знатные представители московского боярства, имевшие обычно титул окольничего (Салтыковы, Карповы и др.).
Ниже на иерархической лестнице дворцовых чинов находились ясельничие, сокольничие, ловчие и постельничие [694]694
В разрядных росписях первой половины XVI в. оружни-чий упоминается после окольничего (ДРК, стр. 44, 73, 126, 138, 145).
[Закрыть]. Они вербовались из среды дворянства, часто вышедшего из состава несвободных слуг. Ясельничие являлись помощниками конюших и ведали государевой конюшней. Принимали они участие и в организации дипломатических сношений с ногаями, доставлявшими в Россию коней. Постельничий ведал великокняжеской спальней [695]695
Г. Котошихин, указ. соч., стр. 29. У постельничего был штат постельников (спальников) из молодых дворян. В разрядах под 1545 г. упоминаются «за постелею с постельничими постельники» (ДРК, стр. 21).
[Закрыть]. Сокольничий и ловчий организовывали великокняжескую охоту. Мелким придворным чином был стольник, распоряжавшийся обеспечением княжеского стола (продовольственным снабжением) [696]696
Ловчему были подведомственны специальные деревни, населенные бобровниками (ААЭ, т. I, № 150), а стольнику – переяславские рыболовы (там же, № 143).
[Закрыть].
Средством обеспечения этих дворцовых чинов были кормления, сбиравшиеся с путей, т. е. административно-территориальных единиц, население которых было подведомственно феодалам, исполнявшим служебные обязанности по дворцовому управлению. «Сокольничий», «ловчий» и «конюший» пути известны еще с середины XIV в. [697]697
ДиДГ, № 2, стр. 11.
[Закрыть]
Удельный вес перечисленных выше отраслей дворцового управления в общей системе централизованного аппарата власти по мере укрепления Русского государства уменьшался. Вместе с тем государев дворец все более и более использовался великокняжеской властью для борьбы с феодальной знатью. На дворцовые должности назначались наиболее преданные великому князю представители господствующего класса. Как правило, титулованная знать (в первую очередь княжата) была отстранена от занятия дворцовых должностей, которые замещались представителями боярских фамилий, издавна связанных с Москвою (Морозовы, Тучковы, Салтыковы, Челяднины, Воронцовы и др.).
Особенно важную роль в укреплении государственного аппарата сыграла система областных дворцов и государева казна.
По мере присоединения к Москве последних самостоятельных и полусамостоятельных феодальных княжеств, по мере ликвидации уделов в конце XV – первой половине XVI в. появлялась необходимость в организации центрального управления этими территориями. Включенные в состав единого Русского государства, уделы перестали быть источником для создания новых княжеств ближайших родичей московского государя, а постепенно становились неотъемлемой частью общегосударственной территории. Вместе с тем в изучаемый период еще была неизжита экономическая раздробленность страны, поэтому о полном слиянии новоприсоединенных территорий с основными не могло быть и речи. Этим и объясняется тот факт, что управление удельными землями в Москве сосредоточивалось в руках особых дворецких, ведомство которых было устроено по образцу московского дворецкого.
Присоединяя те или иные княжества к Москве, великие князья забирали в фонд дворцовых и черносошных земель значительную часть владений местных феодалов (например, в Новгороде). Система дворецких обеспечивала на первых порах управление этими землями на ново-присоединенных территориях.
История создания областных дворцов конца XV – начала XVI в. связана с уничтожением самостоятельности отдельных феодальных княжеств. Это можно проследить и на истории дворцов, возникающих по мере ликвидации удельных феодальных княжеств.
Присоединение Новгорода и создание там фонда великокняжеских земель вызвали необходимость сложения ведомства новгородского дворецкого [698]698
В ноябре 1476 г. уже упоминается новгородский дворецкий Роман Алексеев (ПСРЛ, т. XXV, М.—Л., 1949, стр. 304).
[Закрыть].
После присоединения Твери к Москве (1485 г.) некоторое время тверские земли находились в уделе старшего сына Ивана III князя Ивана Молодого, в начале XVI в., около 1501 г., – в уделе наследника Василия Ивановича [699]699
См. грамоты великого князя Василия Ивановича 1 августа 1501 г. на дворы в г. Кашине (АСЭИ, т. I, № 637).
[Закрыть]. К 1504 г. уже сложился Тверской дворец [700]700
Тверской дворецкий упоминается в завещании Ивана III 1504 г. (ДиДГ, № 89, стр. 363).
[Закрыть]. После смерти князя Федора Борисовича Волоцкого волоколамские земли вошли в состав этого же дворца [701]701
В 1534 г. И. Ю. Шигона Поджогин назывался тверским и волоцким дворецким (ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 409).
[Закрыть]. После окончательного присоединения Рязани в 20-х годах XVI в. образовался Рязанский дворец [702]702
Рязанский дворецкий упоминается в августе – декабре 1539 г. (ДРК, стр. 112; С. А. Шумаков, Материалы для истории Рязанского края, вып. I, Рязань, 1898, стр. 11).
[Закрыть]. Уже издавна в Нижнем Новгороде были значительные земли, являвшиеся достоянием великого князя. Ведал ими дворский [703]703
В 1519 г. дворским был Александр Жедринский (АГР, т. I, № 75).
[Закрыть]. В связи с задачами организации обороны от нападений казанских татар и с увеличением роли Нижнего Новгорода управление этими землями было передано особому (нижегородскому) дворецкому [704]704
В 1522/23 г. уже упоминается нижегородский дворецкий А. Н. Бутурлин (Сб. РИО, т. XXXV, стр. 643, 670).
[Закрыть].
20–30-е годы XVI в. были временем расширения состава областных дворцов. Вместе с тем усиливается руководящая роль московского дворецкого, который начинает теперь именоваться «большим», и великокняжеского дворца, который отныне получает название Большого дворца в отличие от областных [705]705
См. упоминание в декабре 1534 г. Большого дворца («Сборник Муханова», изд. 2-е, СПб., 1866, № 319) и его же в декабре 1535 г. (Государственный архив Владимирской области, ф. 575, № 1, л. 20 об.).
[Закрыть].
После ликвидации Дмитровского удела князя Юрия Ивановича (1533 г.) образуется Дмитровский дворец [706]706
Упоминается в августе 1538 г. (ДРК, стр. 104).
[Закрыть]. После смерти углицкого князя Дмитрия Ивановича (1521 г.) некоторое время Углицкий удел находился во владении слабоумного брата Ивана IV – Юрия. Фактически управление этими землями осуществлялось в Углицком дворце, власть которого распространялась также на Галич, Кострому, Зубцов, Бежецкий Верх и, возможно, Переяславль Залесский.
На должности дворецких назначались представители княжеско-боярской знати из числа «введеных бояр» [707]707
См. в грамоте 1543 г. Ивана IV, где упоминается «введеный боярин, у которого будет матери моей великой княгини дворец в приказе» (С. А. Шумаков, Обзор, вып. IV, № 1329, стр. 481–482).
[Закрыть]. Функции областных дворецких были близки к компетенции дворецких Большого дворца. В их руках находился надзор над судебно-административной властью наместников, волостелей и городовых приказчиков [708]708
ГКЭ, Переяславль-Рязаяский, № 4/9824.
[Закрыть]. Они творили высший суд над местными феодалами, черносошным и дворцовым населением [709]709
См. в подписи 1551 г. на жалованной грамоте: «Аз, Царь и великий князь сам или мой дворецкой Рязанскаго дворца» (Амвросий, История Российской иерархии, ч. 3, М., 1811, стр. 719); ср. грамоту 1560 г. Нижегородского дворца (А. К. Кабаков, Материалы но истории Нижегородского края из столичных архивов, вып. III – «Действия Нижегородской архивной комиссии», т. XIV, Нижний Новгород, 1913, отд. 3, стр. 15). В Нижнем Новгороде были дворцовые села (там же, стр. 42). В 1551 г. в одной переяславской грамоте Троицкого монастыря установлен срок явки «тех городов людем, которые городы у которых бояр и у дворецких в приказе будут» (АН, т. I, № 157, стр. 282).
[Закрыть]. Дворецкие контролировали выдачу иммунитетных жалованных грамот местным феодалам. Как показывают наблюдения Н. Е. Носова, из канцелярий областных дворцов выходили уставные губные грамоты. Так, вятская грамота дана была из Большого дворца, грамота троицким селам Тверского и других уездов – из Тверского дворца, а новгородские дворцовые дьяки подписывали грамоты Бежецкого и Белозерского уездов [710]710
Н. Е. Носов, Очерки, стр. 316–320.
[Закрыть].
Когда мы говорим о круге дел, на которые распространялась компетенция областных дворцов, нужно иметь в виду, что в ряде случаев областные дворецкие делили свою власть с другими правительственными органами того времени (например, в губных делах большую роль с 1539 г. играла боярская комиссия по разбойным делам; боярский суд сосуществовал с судом дворецкого и т. п.).
Значение областных дворцов в централизации местного управления обычно исследователями игнорировалось. Однако именно в областных дворцах сосредоточивался высший контроль над деятельностью кормленщиков. Некоторые из этих дворцов, возможно, позднее трансформировались в четверти [711]711
Так, например, возможно превратился в четверть Углиц-кий дворец. См. состав территорий, ведавшихся У. Л. Пивовым, как четвертным дьяком (П. А. Садиков, Очерки по истории опричнины, стр. 243, 302).
[Закрыть]. Согласно статье 72 Судебника 1550 г., для контроля над деятельностью наместников посылались «розметные книги» в Москву к тем «бояром и к дворецким и к казначеем и дьяком, у кого будут которые городы в приказе». Речь идет в данном случае об областных дворцах («которые городы в приказе») [712]712
См. обычную формулу о дворецком и городах «в его приказе», встречающуюся в жалованных грамотах середины XVI в.
[Закрыть].
Кормленые дьяки ведали делопроизводством в этих дворцах [713]713
Еще П. А. Садиков сопоставил дьяков, «у которых городы в приказе», с «кормлеными», однако на связь их с дворцами он не обратил внимания (П. А. Садиков, Очерки по истории опричнины, стр. 222–223).
[Закрыть]. Из дворцов выдавались кормленые и жалованные грамоты на подведомственные наместникам и волостелям территории. В дворцы сбирались особые пошлины дворецкого и ключника [714]714
См. сотную на волость Высокую, Коломенского уезда, в 1553–1554 гг. (С. А. Шумаков, Сотницы, вып. III, стр. 20–24).
[Закрыть].