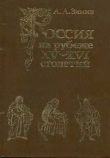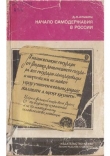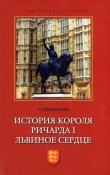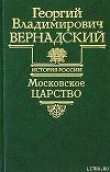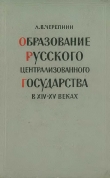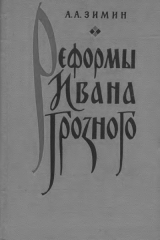
Текст книги "Реформы Ивана Грозного. (Очерки социально-экономической и политической истории России XVI в.)"
Автор книги: Александр Зимин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Пожар распространился на Китай-город («Большой посад»), который весь выгорел [1237]1237
См. С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 292.
[Закрыть]. За ним на севере выгорели Пушечный двор и Рождественская улица. Пожар продолжался до третьего часа ночи (т. е. до 22 ч. 30 мин.), всего более 10 часов [1238]1238
По другому летописцу, пожар был с 12 час. дня (т. е. примерно с 14 ч. 30 мин.) и продолжался б часов (ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. III, стр. 620). Повесть о московском пожаре говорит, что он начался «в утрии… в осмый час» (А. А. Зимин, Повести XVI века… стр. 200).
[Закрыть]. Выгорела основная территория Москвы (примерно до черты позднейшего Земляного города) [1239]1239
Псковский летописец записал под 21 июня 1547 г., что тогда «вся Москва погорела» («Псковские летописи», вып. I, стр. 112); ср. другую запись «погоре вся Москва, город и посады все, церкви и торг у другия и дворы, толко за Москвой посад цел» (Там же, вып. II, стр. 231).
[Закрыть]. Современники писали, что «прежде убо сих времен… такой пожар не бывал на Москве» [1240]1240
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 455; ср. С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 292.
[Закрыть], что «стары люди за многыа лета не помнят таково пожару» [1241]1241
А. А. Зимин, Краткие летописцы XV–XVI вв., стр. 16.
[Закрыть]. Всего по одним данным выгорело 25 000 дворов и погибло 2700 человек [1242]1242
ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. III, стр. 620. Летописец начала царства говорит, что «в един час многое множество народу згореша, 1700 мужеска полу и женьска и младенець» (ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 154; ч. 2, стр. 455).
[Закрыть], а по другим – собрали одних сгоревших трупов за р. Неглинною 3700 человек [1243]1243
С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 292.
[Закрыть]. Бедствие было колоссально: более 80 000 человек горожан остались без крова. Пожар на время дезорганизовал снабжение столицы, что привело к голоду.
Постепенно складывалась обстановка, в которой открытое выступление народных масс становилось неизбежным. К тому же в народе распространились слухи, что Москву подожгли Глинские. Эти слухи явились отражением недовольства народа усилением феодально-крепостнического гнета в период боярского правления. Современники так описывают причину восстания: «Наипаче же в царствующем граде Москве умножившися неправде и по всей Росии от велможь, насилствующих к всему миру и неправо судящих, но по мъзде и дани тяжкые… понеже в то время царю великому князю Ивану Васильевичу уну (т. е. юну.—А. 3.) сущу, князем же и бояром и всем властелем в бестрашии живущим» [1244]1244
ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. III, стр. 620.
[Закрыть]

В этой не вполне отчетливо выраженной мысли заключено указание на основную причину восстания, которая заключалась в усилении феодального крепостнического гнета в малолетство Ивана Грозного. Дело, конечно, объяснялось не столько самовластием бояр в юные годы Ивана Грозного, сколько общим ухудшением положения крестьянства и посадского люда во второй четверти XVI в. Поэтому не вполне прав И. И. Смирнов, утверждавший, что «в… насилиях князей и бояр и крылась основная причина июньского восстания, в котором нашло свое отражение стихийное возмущение народных масс боярским произволом» [1245]1245
И. И. Смирнов, Очерки, стр. 122. В другой работе он писал, что восстание 1547 г. «имело характер антибоярского бунта» (И. И. Смирнов, Иван Грозный, стр. 26).
[Закрыть].
Боярское самовластие лишь ускорило народное выступление, но не было его основной причиной. Правда, само восстание носило царистский характер: оно направлено было против правительства Глинских, но не против самого Ивана Грозного. Эта черта народных движений середины XVI в. не должна препятствовать пониманию их существа как движений антифеодальных. Народные массы выступали и позднее, во время крестьянских войн XVII–XVIII вв., против помещиков, но за «хорошего царя».
Обычно считается, что восстание вспыхнуло 26 июня 1547 г. [1246]1246
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 455; ср. И. И. Смирнов, Очерки, стр. 122.
[Закрыть]Это не точно. Волнения в Москве, очевидно, начались сразу же после пожара [1247]1247
«И после того пожару москвичи черные люди возволно-валися» (С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 292).
[Закрыть]. Курбский прямо пишет, что «бысть возмущение велико всему народу, яко и самому царю утещи от града со своим двором» [1248]1248
РИБ, т. XXXI, стб. 168.
[Закрыть]. Иван IV во время событий 26 июня находился в селе Воробьеве, куда он направился «после пожару» [1249]1249
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 154; ч. 2, стр. 455–456. Оттуда он перешел «с Острову» (С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512, стр. 292).
[Закрыть]. Сам факт его бегства из Москвы следует связывать не столько с последствиями пожара, сколько с волнением московского населения, делавшим пребывание царя в пределах столицы небезопасным.
Волнения Московского посада заставили активизироваться отдельные элементы реакционного боярства, которые стремились прежде всего подавить нараставшую классовую борьбу в Москве и вместе с тем воспользоваться сложившейся обстановкой, чтобы расправиться со своими политическими противниками, т. е. с правительством Глинских в первую очередь.
В литературе, однако, нет четкости при характеристике политических противников Глинских. С. В. Бахрушин в последней работе вообще снял вопрос об участии боярских группировок в борьбе с правительством Глинских в ходе восстания 1547 г. [1250]1250
С. В. Бахрушин, Научные труды, т. I, стр. 206–207. Ранее он писал, что «против Глинских объединились остатки побежденной ими партии Шуйских и новая царская родня Захарьины» (там же, стр. 266).
[Закрыть]Неверную оценку коалиции бояр, выступивших против Глинских, дает И. И. Смирнов. Для него Глинские являются одной из группировок «княжат и бояр»; им противостояли Макарий, Захарьины, Адашев и Сильвестр, руководители «группировки, опиравшейся на дворянство и посад» [1251]1251
И. И. Смирнов, Очерки, стр. 136.
[Закрыть]. С этими суждениями согласиться трудно. Глинские в последние годы боярского правления, хотя и не вполне последовательно, выступали за укрепление великокняжеской власти (взять хотя бы факт коронации Ивана IV в январе 1547 г.). Основную часть их политических противников из среды господствующего класса составляло реакционное боярство. Об этом, несколько сгущая краски, прямо писал Иван Грозный Курбскому («наши изменные бояре… наустиша народ» [1252]1252
«Послания Ивана Грозного», стр. 35.
[Закрыть]). Зато для такого идеолога боярства, как князь Курбский, «всему злому начальник» был Михаил Глинский [1253]1253
РИБ, т. ХХХТ, стб. 169.
[Закрыть]. Складывалась обстановка, напоминающая восстание 1648 г., когда против правительства боярина Морозова, сторонника складывавшегося абсолютизма, выступала княжеская оппозиция, использовавшая в своекорыстных целях недовольство посадских масс столицы.
23 июня («после пожару на 2 день») Иван IV с некоторыми боярами приехал в Новинский монастырь навестить больного митрополита Макария [1254]1254
Совещание это могло быть заседанием Боярской думы (См. И. И. Смирнов, Очерки, стр. 125). В Постниковском Летописце говорится, что к Макарию в Новинский монастырь «князь великий и со всем бояры… на думу приезжщали» (М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 288).
[Закрыть]. Здесь при молчаливом сочувствии митрополита бояре начали обвинять в поджоге Москвы бабку царя – Анну Глинскую, якобы она «вълхвъванием сердца человеческия вымаша и в воде мочиша и тою водою кропиша и оттого вся Москва погоре» [1255]1255
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 455.
[Закрыть]. С этим утверждением выступил благовещенский протопоп Федор Бармин, боярин князь Федор Иванович Скопин-Шуйский и Иван Петрович Федоров. Сходную же позицию, очевидно, заняли князь Юрий Иванович Темкин-Ростовский, Григорий Юрьевич Захарьин и Федор Михайлович Нагой. Все эти лица упомянуты в приписке к Царственной книге (около 1567–1568 гг.). Д. Н. Альшиц, ссылаясь на отсутствие сведений о причастности И. П. Федорова и других бояр к московским событиям 1547 г. в других источниках, поставил вопрос, не знал ли Грозный «что это восстание обошлось без бояр и царских духовников» [1256]1256
Д. Н. Альшиц, Источники и характер редакционной работы Ивана Грозного над историей своего царствования, стр. 138.
[Закрыть]. Не давая прямого ответа, Д. Н. Альшиц вместе с тем указывает, что в рассказе были названы имена, «в отношении которых проверка была невозможна» (ибо они все умерли к 1568 г.). По нашему мнению, приписка не вызывает сомнений в ее достоверности. Трудно допустить, пишет Д. Н. Альшиц, чтобы лица, спровоцировавшие восстание, оказались совершенно безнаказанными. Но, как мы увидим ниже, И. П. Федоров и другие названные деятели после восстания заняли важнейшие посты в государственном аппарате, так что об их «наказании» не могло идти и речи. Гораздо труднее предположить, чтобы Иван Грозный измыслил участие всех известных деятелей в событиях, о которых современники хорошо помнили. И если б, наконец, он действительно хотел найти мнимых виновников, то он должен был бы назвать среди них прежде всего своих врагов. Однако, кроме И. II. Федорова, ни один из названных лиц не подвергся опале [1257]1257
Т. е. ни Федор Бармин, ни Ф. И. Скопин-Шуйский (Д. Н. Альшиц ошибочно пишет, что он был казнен), ни Г. Ю. Захарьин, ни Ф. М. Нагой, ни Ю. И. Темкин-Ростовский.
[Закрыть]. Дело, очевидно, заключалось в том, что реальные лица, о причастности которых к восстанию было неудобно писать в 1553–1555 гг. (при составлении Летописца начала царства), в 1568 г. были названы в связи с общей тенденцией Ивана Грозного тщательно отмечать все боярские «смуты».
Состав этой группировки не случаен. Перед нами в основном сторонники боярской оппозиции, возглавлявшиеся Шуйскими [1258]1258
С. М. Каштанов обратил внимание, что в конце 1547 г., когда М. В. Глинский хотел бежать в Литву, в погоню за ним был послан князь П. И. Шуйский (ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 155).
[Закрыть]. В годы боярской реакции князь Ю. И. Темкин-Ростовский прямо поддерживал Шуйских [1259]1259
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 444.
[Закрыть]. В декабре 1543 г. он и князь Ф. И. Скопин-Шуйский после казни Андрея Шуйского были отправлены в ссылку [1260]1260
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 145; ч. 2, стр. 444.
[Закрыть].
В июле 1546 г. в ссылку на Белоозеро был отправлен И. П. Федоров, где он был взят «за сторожи» [1261]1261
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 149; ч. 2, стр. 449.
[Закрыть], Ф. М. Нагой был близок к удельному князю Владимиру Старицкому, в 1549 г. женившемуся на Евдокии Нагой. Участие в боярском заговоре Г. Ю. Захарьина менее показательно. Интересно, что боярин И. М. Юрьев, окольничий Д. Р. Юрьев и, наконец, В. М. Юрьев не упомянуты летописцем среди боярских заговорщиков. Так что мы бы не стали говорить о поддержке противников Глинских всеми Захарьиными; [1262]1262
В июньских событиях 1547 г. (И. И. Смирнов, Очерки, стр. 125). И. И. Смирнов говорит «об активной роли Захарьиных»
[Закрыть]тем более нет основания утверждать их близость к дворянству и посаду. Выступление Г. Ю. Захарьина против Глинских не многим отличалось от выступления других заговорщиков и было продиктовано стремлением отстранить от управления страной временщиков из родни Ивана IV. Макарий скорее всего благосклонно относился к заговору (обвинения по адресу высказывались в его присутствии, причем среди противников Глинских был протопоп придворного Благовещенского собора – Бармин). Но в этом сказалось не то, что он был одним из лидеров дворянско-помещичьих и посадских кругов, а то, что он был близок к Шуйским, из рук которых он фактически получил митрополичий престол. Ни о каком участии в боярском заговоре Алексея Адашева и Сильвестра источники не сообщают.
Нам неизвестны какие-либо реальные последствия совещания у митрополита Макария. Иван IV, очевидно, не склонен был подвергать опале Глинских и отдал лишь распоряжение произвести розыск о виновниках пожара. Совершенно бездоказательно утверждение И. И. Смирнова, что уже тогда «судьба Глинских как временщиков и правителей государства была предрешена» [1263]1263
И. И. Смирнов, Очерки, стр. 126.
[Закрыть]. Судьба этих временщиков решилась не дворцовыми интригами, а в ходе народного восстания.
Кульминационным моментом восстания явились события 26–29 июня. Основной движущей силой их были «московские черные люди», т. е. посад Москвы. Восстание отличалось необычайно широким размахом. Курбский пишет, что «бысть возмущение велико всему народу» [1264]1264
РИБ, т. XXXI, стб. 168, ср. ниже – Глинский убит «от всего народа» (там же, стб. 169).
[Закрыть]. Уже утром 26 июня 1547 г., «собрався вечьем», посадские люди двинулись в Кремль [1265]1265
С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 292.
[Закрыть]. Упоминание о вече, на которое впервые обратил внимание М. Н. Тихомиров [1266]1266
М. Н. Тихомиров, Источниковедение истории СССР, т. I, М., 1940, стр. 134, 162.
[Закрыть], показывает, что перед нами не начальный момент восстания, а какой-то этап в его развитии, когда уже существовала такая серьезная организация городских народных масс, как вече [1267]1267
Выходцы из Пскова в Литву в 1534 г. также говорили, что псковичи «люди чорные часто ся сходят у вечо, чего ж им наместники и деяти боронят» (АЗР, т. II, № 179/III. См. И. И. Смирнов, Очерки, стр. 128).
[Закрыть]. Судя по сохранившимся источникам, основным требованием восставших была выдача на расправу Глинских, как виновников пожара в столице. Князь Юрий Васильевич Глинский, узнав о грозящей ему опасности, спрятался «в митрополичьем (т. е. Успенском.—А. 3.) соборе». Князь Михаил Васильевич Глинский, находившийся в это время на службе (кормленщиком) во Ржеве, также прятался в различных монастырях [1268]1268
И. И. Смирнов считает, что Михаил и Анна Глинские во время пожара были в Москве (И. И. Смирнов, Очерки, стр. 123). При этом он ссылается на указание Курбского о бегстве Глинского «от великого возмущения» (РИБ, т. XXXI, стб. 168–169). Однако Курбский, говоря о бегстве Глинского, не указывает, что тот бежал из Москвы. В Продолжении Хронографа 1512 г. прямо говорится, что «от тое кромолы князь Михайло Глиньской с жалования со Ржовы хоронился по монастырем» (С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 292; ср. ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 456). Возможно, во Ржеве были села Глинского (см. ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 457).
[Закрыть]. Опасность угрожала и другим сторонникам правительства, которые разбежались, страшась заслуженной ими кары («другие человекоугодницы сущие с ним (т. е. с Глинским. – А. 3.) разбегошася») [1269]1269
РИБ, т. XXXI, стб. 169. Среди них мог быть князь И. И. Пронский, бежавший вместе с М. В. Глинским в конце 1547 г., «обложася страхом» (ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 457).
[Закрыть]. «Москвичи болшие и чорные люди» явились к Успенскому собору, избили до полусмерти («едва жива») [1270]1270
ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. III, стр. 620–621. Согласно тенденциозной приписке к Царственной книге, Глинский был убит еще в Успенском соборе (ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 456). Однако Летописец начала царства указывает, что Глинский убит «на площади» (там же, ч. 1, стр. 154). См. об этом Д. Н. Альшиц, Источники и характер редакционной работы Ивана Грозного над историей своего царствования, стр. 136.
[Закрыть]Ю. Глинского, связали и извлекли его из придела Дмитрия Солунского [1271]1271
«Послания Ивана Грозного», стр. 35.
[Закрыть]. Все это происходило во время совершения там богослужения (обедни) [1272]1272
И. И. Смирнов видит в церемонии «политический шаг, имевший целью не допустить взрыва народного возмущения» (И. И. Смирнов, Очерки, стр. 130). Сохранившиеся источники не дают оснований для подобного предположения.
[Закрыть]. Глинский был убит камнями, причем его «положиша на торжище, яко осуженника» [1273]1273
«Послания Ивана Грозного», стр. 35; ср. «положиша перед того кол, идеже казнят» (ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 456; ч. 1, стр. 154). С. Ф. Платонов, издававший Никоновскую летопись, неверно прочел текст («перед торгом»). Исправлено по статье С. О. Шмидта «Миниатюры Царственной книги как источник по истории московского восстания 1547 г.», стр. 278.
[Закрыть]. С. О. Шмидт привел очень интересное сведение летописца середины XVI в., согласно которому Глинского «убили миром» [1274]1274
С. О. Шмидт, Миниатюры Царственной книги… стр. 281.
[Закрыть]. Это сведение подтверждает уже упоминавшееся выше свидетельство об элементах мирской, вечевой организации у восставших.
В позднейших приписках к Царственной книге дело изображается так, что бояре после повеления царя «сыскать» (т. е. произвести сыск о виновниках пожара) 26 июня явились на площадь перед Успенским собором, созвали народ («собраша черных людей») и «начата въпрошати: хто зажигал Москву»? На это им ответили, что виновата Анна Глинская с детьми, которая своими «волхованиями» сожгла город. Летописец поясняет, что «сие глаголаху чернии людие того ради, что в те поры Глинские у государя в приближение и в жалование, а от людей их черным людям насильство и грабежи. Они же их от того не унимаху» [1275]1275
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 456. И. И. Смирнов считает, что речь идет о том, что бояре черных людей не унимали от обвинений по адресу Глинских (И. И. Смирнов, Очерки, стр. 126). Это делает непонятным весь контекст летописного рассказа: почему тогда восставшие обратили свой гнев против Глинских, а не их людей? О подстрекательстве бояр говорится в летописи ниже: «наустиша черни». В данном же случае речь идет о попустительстве Глинских своим «людям» как о причине возмущения московских посадских людей.
[Закрыть]. Бояре же «по своей к Глинским недружбе наустиша черни; они же взяша князя Юрия в церкви» [1276]1276
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 456.
[Закрыть].
Итак, главная роль в событиях 26 июня в этом рассказе приписана прежде всего боярам. Это явно тенденциозное искажение истины, вполне соответствующее концепции самого Ивана Грозного, который писал, что «наши изменные бояре… наустиша народ художайших умов» [1277]1277
«Послания Ивана Грозного», стр. 35.
[Закрыть]. Не может быть сомнений, что народные массы выступали непосредственно против Глинских, что на посаде было распространено обвинение Глинских в поджоге столицы. Действительно, «на них зговор пришол, буттось они велели зажигати Москву и сердечникы о них же» [1278]1278
ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. III, стр. 621.
[Закрыть]. Однако Глинские вместе с тем обвинялись прямо в измене: они якобы подожгли Москву, «норовя приходу иноплеменных; бе же тогда пришол со многою силою царь крымской и стоял в полях» [1279]1279
ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. III, стр. 621.
[Закрыть]. Но выступление народных масс против Глинских отнюдь не означало, что организующую роль в ходе восстания играли представители боярства. Наиболее достоверные источники, написанные непосредственно после восстания, об Этом молчат (Летописец Никольского, Продолжение хронографа 1512 г., Летописец начала царства). Наоборот, они подчеркивают руководящую роль посада в движении.
Испугавшись размаха движения, бояре вынуждены были выдать народным массам Юрия Глинского, чтобы отвратить от себя народный гнев. Но этот маневр не прекратил восстания. Не обнаружив в Кремле других Глинских, «черные люди» направились ко дворам ненавистного им князя Юрия, «людей княже Юрьевых без-числено побиша и живот княжей розграбиша, ркуще безумием своим, яко вашим зажиганием дворы наши и животы погореша» [1280]1280
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 455–456; ср. т. XIII, ч. 1, стр. 154; Курбский писал, что Юрий Глинский был убит, а «дом его весь разграблен» (РИБ, т. XXXI, стб. 169).
[Закрыть]. Этим дело не ограничилось. Были «побиты» многие дети боярские из северских городов, недавно прибывшие в Москву: «Много же и детей боярских незнакомых побиша из Северы, называючи их Глинского людми» [1281]1281
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 456; ср. ч. 1, стр. 154. Вряд ли прав С. В. Бахрушин, когда говорил, что детей боярских из Северской земли «по ошибке приняли тоже за людей Глинских» (С. В. Бахрушин, Научные труды, т. I, стр. 207).
[Закрыть].
Движение продолжалось и после 26 июня. Правда, о событиях 27–28 июня мы ничего конкретного не знаем, но вывод И. И. Смирнова о том, что «Москва в эти дни, очевидно, фактически находилась во власти черных людей и правительство было бессильно подавить восстание» [1282]1282
И. И. Смирнов, Очерки, стр. 131.
[Закрыть], – вполне вероятен.
Выступление московских горожан было поддержано в какой-то мере и деревней. Так, в грамоте от 28 июня 1547 г. Иван IV писал, что в Московском и Звенигородском уездах у сел и у деревень Троице-Сергиева монастыря «ходят… рощи сечь мои селчане и дети боярские и городцкие люди» [1283]1283
Троице-Сергиев м., кн. 527, л. 260 об. – 261.
[Закрыть].
29 июня огромные толпы московских посадских людей («многия люди, чернь», «многие люди черные») [1284]1284
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 456; т. IV, ч. 1, вып. III, стр. 621.
[Закрыть]направились в подмосковное село Воробьеве, где в это время находился Иван Грозный. Это не была просто толпа возбужденных людей; москвичи шли «скопом» [1285]1285
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 456.
[Закрыть]в полном вооружении – «с щиты и з сулицы, якоже к боеви обычай имяху» [1286]1286
ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. III, стр. 621.
[Закрыть]. Народ вооружился не только для того, чтоб покончить с ненавистными ему правителями, но и для того, чтобы выдержать оборону от татарского хана, если бы оказались верными слухи о его движении на русские земли.
Нам неизвестны имена руководителей восставших, но то, что они направились в Воробьево «по кличю палача» [1287]1287
ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. III, стр. 621. «Палач» был только одним из руководителей движения. Позднее опала была наложена на всех «повелевших кликати».
[Закрыть], показывает роль земских органов посадского населения в восстании 1547 г. [1288]1288
См. соображения И. И. Смирнова в его Очерках, стр. 133.
[Закрыть]Активное участие палача в движении 1547 г., конечно, связано с самым характером московского восстания. Восставшие «черные люди» выставляли одним из своих основных требований казнь ненавистных им бояр Глинских. Палач, следовательно, должен был привести в исполнение эту волю народа.
И. И. Смирнов, ссылаясь на материалы середины XVI в., утверждает, что палач был лицом, доводившим до всеобщего сведения распоряжения властей, т. е. «биричем» [1289]1289
И. И. Смирнов, Очерки, стр. 132.
[Закрыть]. В больших городах «биричи» не были палачами. Так, в наказе 1606 г. царя Василия Шуйского белозерским губным старостам определялся размер «подмоги» биричю в 2 рубля в год, а «тюремным сторожем да палачю» по 3 рубля в год [1290]1290
Архив ЛОИИ, Акты 1601–1613, № 252. Впервые на этот документ обратил внимание Н. Е. Носов.
[Закрыть]. Нельзя согласиться и с тем, что должность «палача» в XVI в. была выборной, как то полагает И. И. Смирнов. Палачи принадлежали еще в начале XVII в. к числу приборных посадских людей, «подмогу» которым платило население губного округа [1291]1291
См. указанный выше наказ 1606 г. Подробнее о палачах см. Н. П. Ретвих, Органы губного управления в XVI и XVII вв. («Сборник правоведения и общественных знаний», т. VI, СПб., 1896, стр. 289–290).
[Закрыть].
Но, как бы то ни было, то, что «палач» призывал народ двинуться в Воробьево, свидетельствует о роли посадских элементов в руководстве московским восстанием. Если учесть, что восставшие пришли к царю по чьему-то «повелению», т. е., очевидно, тех же временных властей, руководивших московским вечем, то можно уже говорить о зачатках аппарата, создавшегося в ходе восстания 1547 г.
Приход вооруженного народа в Воробьево произвел громадное впечатление на царя; «узрев множество людей» он «удивися и ужасеся» [1292]1292
ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. III, стр. 621.
[Закрыть]. Позднее, вспоминая со бытия, связанные с московским пожаром, Иван Грозный, выступая на Стоглаве, говорил: «От сего убо вниде страх в душу мою и трепет в кости моа и смирися дух мой» [1293]1293
«Послания Ивана Грозного», стр. 523; ср. «Макарьевский стоглавник», стр. 13.
[Закрыть].
Восставшие потребовали от Ивана Грозного выдать им Анну и Михаила Глинских (ходили слухи, «будто государь хоронит у себя их») [1294]1294
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 456–457; «Послания Ивана Грозного», стр. 35.
[Закрыть]. Очевидно, не обошлось даже без прямых угроз по адресу самого царя (Грозный позднее писал, что бояре «наустили были народ и нас убити») [1295]1295
«Послания Ивана Грозного», стр. 35.
[Закрыть].
Ивану IV все же удалось убедить народ, что Глинских он не прячет. Не оправдались и слухи о походе крымского хана на Русь. Не имея четко выраженной программы и плана действий, восставшие покинули Воробьеве. Царь «не учинил им в том опалы», но лишь до тех пор, пока вооруженные отряды восставших представляли для него серьезную опасность. Однако после этого произведен был тщательный розыск, в результате которого предводители восставших были казнены (Иван IV «обыскав… положи ту опалу на повелевших кликати» [1296]1296
ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. III, стр. 621.
[Закрыть], точнее, «повеле тех людей имати и казнити») [1297]1297
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 457; ср. ч. 1, стр. 154.
[Закрыть].
С восстанием в Москве было покончено. Это восстание показало, какой степени обострения достигли социальные противоречия в русском городе в середине XVI в. Вместе с тем отчетливо выявились и слабые стороны городских движений того времени. Восстание в столице носило локальный характер. Оно не слилось воедино с движением крестьянства и посадского населения других городов. Стихийно возникнув, оно не было в достаточной степени организовано. Наконец, восстание носило царистский характер; оно было направлено против Глинских, но не против власти царя.
Москва в XVI–XVII вв. находилась в авангарде антифеодальной борьбы народных масс. Восстание 1547 г. в Москве отозвалось по всей стране громким эхом. В городах и в деревнях усилились волнения народных масс против эксплуататоров. Эти движения конца 40-х – начала 50-х годов имели разные формы – от убийства отдельных феодалов в деревне до открытой борьбы между верхами и низами на посаде. Но все они свидетельствовали о крайнем обострении классовой борьбы в стране.
Преследование правительством Ивана IV участников московского восстания привело к тому, что «мнози (участники. – А. 3.) разбегошася по иным градом» [1298]1298
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 154; ч. 2, стр. 457.
[Закрыть].
Еще до начала событий в Москве среди населения Пскова и псковского пригорода Опочки происходили какие-то волнения. В «Петров пост», точнее, в самом начале июня 1547 г. [1299]1299
Движение во Пскове началось, когда упал колокол «Благовестник» в Москве, а это случилось 3 июня (там же, ч. 2, стр. 453).
[Закрыть], псковичи, очевидно, так же, как и позднее в Москве, предварительно собравшись на вече, послали в столицу 70 человек «жаловатися на наместника» (князя И. И. Турунтая Пронского). Иван Грозный решил сразу же пресечь всякие попытки со стороны представителей народных масс выражать недовольство. Он «опалился на пскович» и подверг их респрессиям [1300]1300
«Псковские летописи», вып. II, стр. 232.
[Закрыть].
В Опочке в июне же горожане захватили и «в крепость посадили» особенно ненавистного им пошлинника (сборщика торговых и других пошлин и податей) Салтана Сукина, ибо «Салтан пошлинник много творил зла» [1301]1301
«Псковские летописи», вып. II, стр. 232.
[Закрыть].
Для подавления этих волнений московское правительство, в силу неспокойного положения в центре страны, не могло выделить своих войск, и новгородские власти были вынуждены отправить в Опочку свое значительное по численности ополчение. «О Петрове дни (т. е. 25 июня.—А. 3.) ходиша новгородци с щита по человеку с лошадью к городу к Почке, а воевода у них Семен Олександрович Упин, дворецкой новгородцкой, опочан вести к Москве, понеже на них бысть облесть (наговор.—А. З.)» [1302]1302
ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. III, стр. 621.
[Закрыть]. Всего было послано к Опочке «2000 вой» [1303]1303
«Псковские летописи», вып. II, стр. 232.
[Закрыть]. Правительство отнеслось достаточно серьезно к событиям в Опочке; следствие по этому делу велось в Москве: «разбойников свели к Москве же из Опочки» [1304]1304
ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. III, стр>. 621,
[Закрыть].
Неспокойно в 1547 г. было и в Новгороде. Обращаясь к Ивану IV с просьбой принять срочные меры против корчемства, новгородский архиепископ Феодосий отмечал, что в Новгороде «в домех и на путех и на торжищех убийства и грабления, во граде и по погостом, великие учинилися, прохода и проезду нет» [1305]1305
ДАИ, т. I, № 41, стр. 55. Грамота в издании датирована 1547–1551 гг. Однако 27 декабря 1547 г. Иван IV в Новгороде «отставил корчмы» («Новгородские летописи», стр. 78). Следовательно. грамота Феодосия написана до этого времени.
[Закрыть].
Показателем напряженности положения в стране была попытка князя М. В. Глинского с княгиней Анной и псковского наместника И. И. Турунтая Пронского в ноябре 1547 г. бежать за рубеж. На следствии выяснилось, что они «от неразумия тот бег учинили были, обло-жася страхом княже Юрьева убийства Глиньскаго» [1306]1306
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 155; ч. 2, стр. 457.
[Закрыть]. Глинский был лишен звания конюшего. У него и у Пронского Иван IV приказал конфисковать «живот их, вотчину» [1307]1307
С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 293. Грамота от 1 января 1548 г. Село Колюбакино, Рузского уезда, ранее принадлежавшее И. И. Турунтаю Пронскому, велено ведать царскому приказчику В. Чижову (В. и Г. Холмогоровы, Исторические материалы для составления церковных летописей Московской епархии, вып. I, М., 1881, стр. 125).
[Закрыть], но казни беглецы не были подвергнуты. Представители господствующего класса понимали тот ужас, который охватил князя Глинского, помнившего о судьбе своего брата.
Усиление классовой борьбы в 1547–1548 гг. отразилось и на губной политике правительства. В ряде жалованных грамот этого времени специально говорилось о розысках по делам о «разбойных» («тех дел, что есми приказал бояром своим обыскивати лихих людей, татей и разбойников») и о посылке приставов в случае, если «слово лихое взговорят в татьбе и в разбое», об установлении подсудности «лихих людей» царю или большому дворецкому [1308]1308
Архив ЛОИИ. ф. Коряжемского монастыря, № 6 и др. Подробнее см. С. М… Каштанов, Феодальный иммунитет в годы боярского правления, стр. 267.
[Закрыть].
Напуганные растущим сопротивлением народных масс, представители различных прослоек господствующего класса решили объединить свои усилия, чтобы провести необходимые реформы, которые должны были укрепить власть феодалов над эксплуатируемым населением.
«Мы всегда учили и учим, – писал В. И. Ленин, – что классовая борьба, борьба эксплуатируемой части народа против эксплуататорской лежит в основе политических преобразований и в конечном счете решает судьбу всех таких преобразований» [1309]1309
В. И. Ленин, Соч., т. 8, стр. 178,
[Закрыть].
Так создавались предпосылки для образования правительства компромисса, в которое вошли как представители наиболее дальновидных кругов боярства, так и представители дворянства. Однако это правительство, во главе которого стали Адашев и Сильвестр, создалось не сразу после восстания 1547 г.
Непосредственными плодами восстания в Москве воспользовалась группировка бояр, враждебная Глинским. И. И. Смирнов считает, что после июньских событий 1547 г. к власти пришла группировка во главе с Макарием, Захарьиными, Сильвестром и Адашевым [1310]1310
И. И. Смирнов, Очерки, стр. 136.
[Закрыть]. Это неверно. В 1547–1548 гг. еще нельзя говорить о правительстве Адашева и Сильвестра. Наибольших выгод добились активные участники боярской оппозиции. Так, к июлю 1547 г. боярином стал И. П. Федоров. К 1549 г. он получил важнейший боярский чин – конюшего [1311]1311
АЮБ, № 52 —V; ср. ДРК, стр. 123.
[Закрыть]. В 1549 г. боярином стал Ю. И. Темкин-Ростовский [1312]1312
ДРК, стр. 132–133.
[Закрыть]. В 1547 г. окольничим сделался Ф. М. Нагой [1313]1313
АЮБ, № 52 —V; ДРК, стр. 123.
[Закрыть], а его отец в 1549 г. – боярином [1314]1314
ДРК, стр. 7.
[Закрыть].
Политические выгоды из событий извлекли и Захарьины. В июле 1547 г, боярином уже стал дядя царицы– Г. Ю. Захарьин [1315]1315
ДРК, стр. 125.
[Закрыть], а к 1548 г. ее двоюродный брат В. М. Юрьев [1316]1316
ДРК, стр. 136.
[Закрыть]и Д. Р. Юрьев, сделавшийся уже в июле 1547 г. дворецким [1317]1317
АГР, т. I, № 67; С. А. Шумаков, Обзор, вып. III, № 417.
[Закрыть]. В 1547 г. думные чины получили некоторые видные в будущем деятели, как, например, Д. Ф. Палецкий (боярином стал с 1547 г.; на его дочери женился брат паря Юрий) [1318]1318
ДРК, стр. 123.
[Закрыть].
Одной из первых реформ, проведенных новым правительством, была ликвидация столь ненавистной Шуйским комиссии бояр по разбойным делам и передача дел о «лихих людях» новому дворецкому – Д. Р. Юрьеву [1319]1319
Время восстановления комиссии после ее ликвидации Шуйскими в 1542 г. не вполне ясно. Возможно, это было уже после казни И. И. Кубенского в 1546 г. (последний ведал еще как дворецкий в 1542 г. разбойными делами). 28 января 1547 г. обыски по делам «лихих людей» производили бояре (Архив ЛОИИ, Собр. Коряжемского монастыря, № 6). Однако в 1548 г. «лихие люди» оказываются снова подсудными самому царю или большому дворецкому (П. А. Садиков, Очерки по истории опричнины, Приложения, № 19; ГКЭ № 5014). Окончательно восстановлена комиссия бояр по разбойным делам только с приходом к власти правительства Адашева, т. е. в 1549 г. См. губную грамоту от сентября 1549 г. (ААЭ, т. I, № 224).
[Закрыть].
Все эти мероприятия были наиболее крупными успехами княжеско-боярской аристократии, извлеченные ею из факта падения Глинских. Однако, как показал дальнейший ход событий, княжата не смогли сохранить за собою всю полноту власти. Узость их социальной базы не дала им возможность самостоятельно осуществить управление растущим централизованным государством.
1547–1548 годы были временем роста политического влияния тех представителей господствующего класса феодалов, которые понимали необходимость проведения реформ и укрепления положения дворянства. К их числу принадлежал Алексей Адашев, происходивший из среды богатого придворного дворянства. Адашевы имели достаточно большую вотчину в Костроме. Но их богатство выросло также и на торговле солью [1320]1320
Подробнее см. С. О. Шмидт, Правительственная деятельность А. Ф. Адашева, стр. 25–53.
[Закрыть]. Возвышение Адашева началось после московского восстания [1321]1321
Об этом прямо пишет И. Грозный, который после рассказа о московском восстании сообщает, что «того же времени» водворился при царском дворе Алексей Адашев («Послания Ивана Грозного», стр. 36).
[Закрыть]и в какой-то мере связано с ростом влияния Захарьиных, Юрьевых, к которым он, возможно, в начале своей карьеры был близок [1322]1322
Владение Адашевых располагалось в Костроме, где находились и родовые вотчины бояр Кошкиных-Кобылиных, предков Захарьиных (С. О. Шмидт, Правительственная деятельность А. Ф. Адашева, стр. 23). О размерах родовых, купленых и приданых владений Данилы и Алексея Адашевых в Костромском и Переяславском уездах можно судить по тому, что, когтя в 1560 г. «в опале» эти вотчины были обменены на земли Бр-ж ей кой пятины, братья получили 265 обеж (В. И. Карецкий, О земельных владениях Адашева в XVI в.).
[Закрыть]. Во второй половине 1547 г. он уже фигурирует среди царских рынд [1323]1323
ДРК, стр. 124, 126.
[Закрыть]. К концу 1547 г. его отец Федор Григорьевич Адашев получил звание окольничего [1324]1324
ДРК, стр. 126.
[Закрыть], что также свидетельствовало о росте влияния Адашевых. В сентябре 1547 г., выполняя поручение Ивана TV, Алексей Адашев привез большой царский вклад (7000 рублей) в Троице-Сергиев монастырь [1325]1325
Троицк, вкл. кн., л. 48.
[Закрыть]. В марте 1548 г. новгородский архиепископ послал пенные подарки виднейшим московским боярам. Посланы были подарки и обоим Адашевым [1326]1326
И. К. Куприянов, указ. соч… стб. 49.
[Закрыть]. К ноябрю 1548 г. Ф. Г. Адашев был углицким и костромским дворецким [1327]1327
АГР, т. I, № 32.
[Закрыть].
1547–1548 годы были временем роста влияния Адашева. Однако в эти годы будущее правительство компромисса еще только формировалось. С. М. Каштанов установил, что эти годы были еще временем расцвета иммунитетных пожалований, когда духовным феодалам раздавались грамоты с широкими податными и другими привилегиями. Но победа феодальной аристократии была временной и непрочной.
В 1548–1549 гг. положение народных масс резко ухудшилось в связи с повсеместным недородом, особенно сказавшемся на русском Севере, где даже в обычные, «хлебородные» годы чувствовалась нехватка хлеба. Уже в 1547 г., как отмечено летописцем, «во всех городех Московские земли и в Новегороде хлеба было скудно» [1328]1328
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 154.
[Закрыть]. Еще в июле 1547 г. «бысть град силен и велик, с яблоко лесное, ово кругло, ово грановито» [1329]1329
С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 292.
[Закрыть]. Град, очевидно, сильно сказался на хлебном недороде 1547 г. В 1548/49 г. на Двине уже «людей с голоду мерло много» [1330]1330
А. А. Титов, Летопись Двинская, М., 1889, стр. 10.
[Закрыть].
Исследователи отмечают резкий подъем цен на рожь в Двинской земле, падающий именно на эти годы [1331]1331
А. Г. Манъков, Цены и их движение в Русском государстве в XVI в., стр. 31.
[Закрыть]. К недороду добавлялся резкий рост податей и налогов. Зимою 1547 г. «царь и великий князь велел имати дань с сох по 12 рублев, и оттого хрестияном тягота была великая» [1332]1332
С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 292.
[Закрыть].
Все это привело к дальнейшему обострению классовых противоречий в стране и особенно на русском Севере. Крестьяне и посадские люди с оружием в руках выступали против своих эксплуататоров. Правда, эти выступления все еще носили локальный и неорганизованный характер. В ряде случаев мы имеем дело с отдельными убийствами феодалов.
15 или 17 мая 1550 г. крестьяне, жители села Обжи, убили основателя соседней с ним Андрусовой пустыни (близ Ладожского озера в Обонежской пятине) Адриана, возвращавшегося из Москвы [1333]1333
Иосиф, Андрусова-Николаевская пустынь, Олонецкой губернии, изд. 3-е, СПб., 1897, стр. 10; ср. Е. В. Барсов, Андрей Завалишин и его пустынь (Чтения ОИДР, 1884, кн. 4, стр. 5): В. И. Корецкий, Борьба крестьян с монастырями в России XVI – начала XVII в. («Вопросы истории религии и атеизма», № VI, М., 1958, стр. 182–183).
[Закрыть]. Несколько раньше,
5 марта 1550 г., убит был Адриан, основатель Адриановой пустыни (в 5 м от Пошехонья). В убийстве принимали участие «поселяне» из соседнего с пустынью Белого села [1334]1334
Собр. Ундольского, № 1308, л. 112–112 об.
[Закрыть]. Крестьяне захватили и разделили между собою монастырское имущество. Позднее дело разбиралось губными старостами. Предводитель восставших крестьян Иван Матренин был повешен, а другие участники нападения на монастырь отправлены в темницу «до кончины живота» [1335]1335
Подробнее об этом см. В. И. Корецкий, Борьба крестьян с монастырями в России XVI – начала XVII в., стр. 184—18в.
[Закрыть].
До нас также дошли сведения о ряде городских волнений этого времени; так, в 1549 г. «смутишася людие града Устюга». Волнение это было направлено в первую очередь против посадских богатеев: «восстали друг на друга и много домов [1336]1336
В Музейном списке далее – «гражданских» («Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Музейное собр., № 4165, л. 27 об; ср. Музейное собр., № 127, л. 25).
[Закрыть]разграбили, многих и человек смерти предали». Только после вмешательства центральной власти «все то междусобие» [1337]1337
В Музейном списке вместо последних трех слов «всех замешательство»; в Румянцевском – «все их замешательство» (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Собр. Румянцева, № 32, л. 16; Музейное собр., № 4165, л. 27 об).
[Закрыть]было прекращено [1338]1338
А. А. Титов, Летопись Великоустюжская, стр. 47. Впервые на этот факт обратил внимание С. О. Шмидт (см. С. О. Шмидт, Правительственная деятельность А. Ф. Адашева, стр. 42).
[Закрыть].
В марте 1550 г. в связи с большим пожаром произошло новое волнение (« рагоза и нелюбовь») во Пскове. Здесь так же, как и на Устюге, «меншия люди начаша грабити богатых людей животы» [1339]1339
«Псковские летописи», вып. II, стр. 232.
[Закрыть]. Обострение противоречий зашло к 50-м годам настолько далеко, что гнев посадской бедноты обратился уже на местных богатеев из среды тех же посадских людей.
Возможно, что с брожением в Новгороде связана попытка правительства Ивана IV разрушить его торгово-ремесленные корпорации и тем ослабить городское население, использовавшее, очевидно, имевшиеся в его распоряжении организационные формы для борьбы за свои интересы. В 1550 г. Иван IV «порушал ряды и грамоты рядовые собрал в казну» [1340]1340
«Новгородские летописи», стр. 128. В другой летописи говорится, что царские дьяки, «собрав грамоты рядовские всего Новагорода, да ряды отставили» (ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. ИТ, стр. 622).
[Закрыть].
Нарастание классовой борьбы после московского восстания и прихода к власти феодальной аристократии показывало, что должны были произойти какие-то радикальные перемены в составе правительства, с тем чтобы оно могло подавить недовольство широких слоев крестьянства и посадских людей.