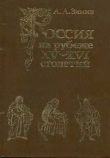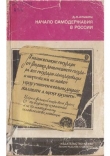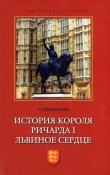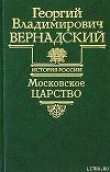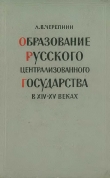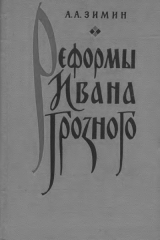
Текст книги "Реформы Ивана Грозного. (Очерки социально-экономической и политической истории России XVI в.)"
Автор книги: Александр Зимин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
* * *
Реформы в русской армии, проведенные в середине XVI в., привели к увеличению ее боеспособности и численному росту.
Сведения о численности русских вооруженных сил можно почерпнуть как из русских, так и из иностранных источников. Каждый из названных видов имеет свои особенности: русские данные (прежде всего разрядные книги) отличаются точностью, но дают не общую численность войск, а состав войска того или иного похода (на Полоцк 1563 г., в Ливонию 1577 г. и др.). Иностранные источники дают общую численность войск, но не всегда достоверны. Иностранцы стремились выяснить для себя с наибольшей точностью состав русских вооруженных сил, но не располагали для этого необходимыми сведениями.
В 1517 г. опубликовал свой «Трактат о двух Сарматиях» Матвей Меховский, где сообщил сведения о русских вооруженных силах, относящиеся, очевидно, еще к концу XV в. Его данными воспользовался А. Кампензе, писавший свое сочинение около 1523–1524 гг. По словам Меховского, Московия (т. е. Московское великое княжество) могла выставить 30 000 «знатных бойцов» и 60 000 «селян» [1790]1790
М. Меховский, указ. соч., стр. 112—ИЗ. У Кампензе, «до 30 тыс. бояр или дворян и 60 000 или 70 000 пехоты из молодых людей» («Библиотека иностранных писателей о России», отд. 1, т. I, стр. 23–24).
[Закрыть]. Тверь выставляла не менее 40 000 «вооруженной знати» (причем из Холмского княжества – 7000, Зубцовского – 4000, Клинского – 2000) [1791]1791
По А. Кампензе, 40 000 «всадников из бояр, а из простолюдинов» Тверь могла набрать вдвое или втрое больше (там же, стр. 24).
[Закрыть]. Рязань выставляла 15 000 воинов (или всадников, как их именует Кампензе).
Таким образом, неполные сведения Меховского дают нам состав русской дворянской конницы в 85 000 человек.
С. Герберштейн, дважды бывавший на Руси в начале XVI в., не дает точной цифры русских войск, однако указывает, что для борьбы с крымскими татарами великий князь «каждый год обычно ставит караулы в местностях около Танаида (Дона) и Оки в количестве» 20 000 воинов, поочередно вызываемых из различных русских областей [1792]1792
С. Герберштейн, указ. соч., стр. 74–75.
[Закрыть]. Цифра весьма правдоподобная и соответствует цифре в 20 000 воинников, о которой позднее писал Пересветов. Во время борьбы за Смоленск в войске Василия III, направленном против Великого княжества Литовского, насчитывалось 80 000 [1793]1793
Н. С. Рябинин, указ. соч., стр. 5.
[Закрыть].
Наибольшее распространение в европейской литературе получили сведения П. Иовия, которые он получил от русского посла Д. Герасимова, побывавшего в 1525 г. в Риме. Василий III, по словам Иовия, «обычно может выставить для войны больше ста пятидесяти тысяч конницы» [1794]1794
С. Герберштейн, указ. соч., стр. 275.
[Закрыть]. Эти сведения повторил Д. Тревизано (1554 г.) [1795]1795
«Говорят, что он (т. е. русский царь. – А. 3.) может выставить в поле сто пятьдесят тысяч конных» (С. А. Аннинский, указ. соч., примеч. 37, стр. 383).
[Закрыть]и М. Кавалли (1560 г.) [1796]1796
«Страна может сразу дать, как утверждают, более ста пятидесяти тысяч конных и шестьдесят тысяч пеших аркебузьс-ров, имеет много ружей и артиллерии» (там же).
[Закрыть].
Другая группа авторов дружно утверждает, что численность русской конницы достигает 200 000. Впервые об этом сообщил в 1514 г. Ян Ласский [1797]1797
«Historica Russiae Monumenta», t. I, стр. 123.
[Закрыть]. М. Фоскарини (около 1557 г.) якобы «видел два конных войска, каждое в 100 000 человек» [1798]1798
B. И. Огородников, Донесение о Московии второй половины XVI в. (Чтения ОИДР, 1913, кн. 2, отд. III, стр. 15).
[Закрыть]. О 200 000 конных воинах пишут Ф. Руджиери (1568 г.) и Джерио (1570 г.) [1799]1799
«Historica Russiae Monumenta», t. I, стр. 207–210,213—215.
[Закрыть]. Ф. Тьеполо, писавший о Московии в 1560 г. по различным историческим источникам (в том числе по Герберштейну), Иовий и др. пишут, что «кроме конницы, какую он [царь] держал против перекопитов и в других местах, более 100 тысяч конных и 20 тысяч пеших. А если бы он был вынужден большей необходимостью, он мог бы выставить 200 тысяч конных и немалое число пеших сверх выше сказанных» [1800]1800
С. А. Аннинский, указ. соч., стр. 340.
[Закрыть]. По донесению И. Фабра (был на Руси в 1526 г.), великий князь «в самое короткое время может собрать войска до 200 000 или 300 000 или сколько понадобиться» [1801]1801
«Донесение Д. Иоанна Фабра… о нравах и обычаях москвитян» («Отечественные записки», ч. 25, 1826, № 70, стр. 298).
[Закрыть]. Ченслер, плавание которого относится к 1553–1554 гг., сообщает в согласии с ним, что царь «в состоянии выставить в поле 200 или 300 тысяч человек» [1802]1802
«Английские путешественники в Московском государстве в XVI в.», стр. 59.
[Закрыть]. При этом на границах Лифляндии он оставляет 40 000, «на ливонской границе – 60 000, против ногайских татар – 60 000». Все царские воины, пишет Ченслер, конные. «Пехотинцев он не употребляет, кроме тех, которые служат в артиллерии, и рабочих; число их составляет 30 000» [1803]1803
«Английские путешественники в Московском государстве в XVI в.», стр. 59. Неизвестно, откуда К. Адамс, писавший со слов Ченслера, дает баснословную цифру русских войск до 900 000, из числа которых 300 000 выставлялось против турок (К. Адамс, Первое путешествие англичан в Россию – ЖМНПр., 1838, № 10, стр. 53). Возможно, что мы просто имеем дело с ошибкой.
[Закрыть].
Наиболее обстоятельное описание русских вооруженных сил дал Д. Флетчер (1591 г.), побывавший на Руси в 1588 г. Он насчитывает 80 000 «всадников, находящихся всегда в готовности и получающих постоянное жалованье» (из них 15 000 «царских телохранителей» и 65 000 воинов для обороны от крымцев) [1804]1804
Д. Флетчер, О государстве Русском, СПб., 1906, стр. 62–64.
[Закрыть]. Стрельцов, по Флетчеру, было всего 12 000, из них 5000 в Москве, 2000 стремянных, а «прочие размещены в укрепленных городах» [1805]1805
Д. Флетчер, О государстве Русском, СПб., 1906, стр. 64.
[Закрыть]. Современник Флетчера Д. Горсей, побывавший в Москве в 1572–1591 гг., писал, что Русское государство в правление Бориса Годунова могло в 40 дней выставить в поле 100 000 хорошо снаряженных воинов; только на коронации царя Федора присутствовало, по его подсчетам, 20 000 стрельцов и 50 000 всадников [1806]1806
Д. Горсей, указ. соч., стр. 113.
[Закрыть].
Попытку выяснить состав русских войск по разрядным книгам проделал С. М. Середонин. По его наблюдениям, в полоцком походе 1563 г. участвовало одних детей боярских 18 025 человек (или, по другим подсчетам, 17 826); в походе 1577 г. – 7279 детей боярских, 7905 стрельцов и др., всего около 32 235 человек; в разряде 1578 г. отмечено стрельцов и казаков государева двора 2000 и городовых стрельцов – 13 119 [1807]1807
С. М. Середонин, Сочинение Джильса Флетчера «Of the Russe Common Wealth», как исторический источник, СПб., 1891, стр. 337–338; ср. его же, Известия иностранцев о вооруженных силах Московского государства в конце XVI в., СПб., 1891, стр. 4–5. По Снегиреву, в полоцком походе 1563 г. было: 32 668 человек; в конце 1577 г. – 32 235; в 1578 – 36 615, т. е. армия на западе равнялась, примерно, 40 000 человек (В. Снегирев, Военное дело и «осадное сидение» в Московской Руси – «Исторический журнал», 1942, кн. 6, стр. 95–96).
[Закрыть]. Сопоставляя эти сведения с известиями иностранцев (главным образом, Флетчера), Середонин пришел к выводу, что в конце XVI в. русское войско насчитывало 110 000 человек. В его число входило 75 000 человек дворянской конницы (причем самих детей боярских было 25 000, остальные были их «людьми»), 20 000 стрельцов и казаков, 10 000 татар и 4000 иностранцев [1808]1808
С. М. Середонин, Сочинение Джильса Флетчера… стр. 339. По В. Снегиреву, 25 000 детей боярских, 10 000—15 000 татар, 20 000 стрельцов и казаков и 4300 татар, т. е. около 70 000 человек, а включая посошных – 90 000–100 000 (В. Снегирев, указ. соч., стр. 96). А. В. Чернов полагает, что цифра 75 000 человек дворянского ополчения не точна, ибо с 200 четвертей земли помещик должен приводить не двух воинов, а одного. (С. М. Середонин, Сочинение Джильса Флетчера… стр. 342). Он поэтому размер дворянской конницы понижает до 50 000 человек (А. В. Чернов, Вооруженные силы Русского государства, стр. 81).
[Закрыть].
Вычисления Середонина дают несколько заниженную цифру. Он исходил из того, что служилый человек выводил с собою в поход 3 своих людей.
Согласно «Боярской книге 1556 г.», у дворовых людей боярских в походе было обычно не менее 4 «людей». Но Боярская книга, конечно, дает сведения о наиболее видной части дворянства, имевшей в своем распоряжении много земель. В целом же в середине XVI в. русская армия насчитывала около 150 000 человек, т. е. примерно вдвое меньше того, что требовал в своих сочинениях И. С. Пересветов [1809]1809
По вычислениям А. В. Чернова, Русское государство могло выставить в первой половине XVI в. до 200 000 воинов. Для второй половины XVI в. он принимает вывод Середонина о 110 000 человек (А. В. Чернов, Вооруженные силы Русского государства, стр. 93–94). По И. А. Короткову, одна дворянская конница при Иване IV насчитывала около 100 000 человек (И. А. Коротков, указ. соч., стр. 14). К 1552 г. русское войско, по Короткову, выросло до 150 000, а к концу правления Грозного до 300 000 человек (там же, стр. 16).
[Закрыть].
* * *
Если военные реформы конца 40 – начала 50-х годов XVI в. обеспечили присоединение Казани в 1552 г., то преобразования 1555–1556 гг., безусловно, способствовали взятию Астрахани в августе 1556 г., победоносному завершению русско-шведской войны 1554–1557 гг. и успешному началу Ливонской войны зимою 1557/58 г.
Военные реформы 1555–1556 гг., смотры вооруженных сил, во время которых составлялись «десятни» (войсковые списки), подготовка Ливонской войны и обеспечение безопасности южных и восточных границ потребовали создания специального штата правительственных чиновников, которые могли бы обеспечить руководство военно-служилыми делами.
В ходе реформ оформились две избы – Поместная, ведавшая вопросами земельного обеспечения дворянства, и Разрядная, распоряжавшаяся организацией дворянской военной службы.
Поместная изба выделилась из ведомства казначеев [1810]1810
Впервые Поместная изба упоминается в 1555/56 г. (С. А. Шумаков, Обзор, вып. III, № 603, стр. 156).
[Закрыть]. Ее возглавляли с 1555/56 до 1567/68 г. дьяки Путила Михайлов (Нечаев) и Василий Степанов [1811]1811
Именно они еще в 1555–1556 гг. подписали 70 грамот, специально относящихся к земельным делам (Н. П. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., стр. 262). Их же называет руководителями Поместного приказа Штаден, стр. 80. См. также С. А. Шумаков, Обзор, вып. I, стр. 57, вып. III, стр. 157; его же, Сотницы, вып. III, стр. 169; вып. V, стр. 30; его же, Экскурсы по истории Поместного приказа, стр. 49; его же, К истории московских приказов («Юридические записки», 1911, вып. II–III, стр. 524); А. Сандунов, Правая грамота по вотчинному делу в 1559 г. производившемуся, М., 1830, стр. 13. Дьяк Поместной избы В. Степанов подписывал еще жалобу 7 марта 1569 г. (П. А. Садиков, Из истории опричнины, № 34, стр. 232–233). В 1570 г. П. Михайлов и В. Степанов были казнены.
[Закрыть]. Путила Михайлов ведал сбором кормленого окупа с Двины и, очевидно, совмещал обязанности четвертного дьяка [1812]1812
В одном из приказных летописцев мы находим запись: «70[г.] Роздано из Четверти дьяка Путила Михайлова царя Ивана Васильевича жалованье и в книге написаны головы стрелецкие» (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Музейное собр., № 2423, л. 101). Путила Михайлов получал «кормленый окуп» с Двины еще в 1556 г. (П. А. Садиков, Очерки по истории опричнины, стр. 233).
[Закрыть]. Состав поместных дьяков конца 60–70-х годов XVI в. не вполне ясен [1813]1813
В 1570/71 г., возможно, в Поместной избе служил дьяк Н. Греков. (С. А. Шумаков, Экскурсы из истории Поместного приказа, стр. 49). В 1575 г. дьяком Поместной избы был Андрей Шерефединов (С. А. Шумаков, Обзор, вып. IV, стр. 260). В это же время он дьяк дворового разряда. (Н. П. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., стр. 466–469). В 1576–1577 гг. поместным дьяком был Мих. Сем. Бледной (С. А. Шумаков, Сотницы, вып. VII, М., 1913, стр. 20). С. А. Шумаков считает, что в декабре 1574 г. дьяком Поместной избы был С. Фомин, но это ошибка. С. Фомин был в это время дьяком Казанского дворца. Не служил в марте 1576 г. в Поместной избе И. Собакин, находившийся в это время в государевом «уделе», т. е. опричником (ср. С. А. Шумаков, Экскурсы по истории Поместного приказа, стр. 49; П. А. Садиков, Очерки по истории опричнины, стр. 372, 373).
[Закрыть].
Сложнее обстоит вопрос с Разрядной избой. В литературе обычно говорится, что Разрядный приказ сформировался уже в 30-х годах XVI в. Однако вся документация, на которую ссылался Н. П. Лихачев и другие исследователи, оказывается в высшей степени сомнительной. Наиболее раннее свидетельство о «Разряде», казалось бы, относится к 1531 г., именно под этим годом в одной из разрядных книг мы встречаем упоминание об опале на князя Воротынского и других лиц, которых велено было «привести к Москве в Розряд» [1814]1814
Н. П. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., стр. 81.
[Закрыть]. Это сведение имеется и в ранних списках разрядных книг, за исключением слов «в Розряд» [1815]1815
ДРК, стр. 86.
[Закрыть], которые встречаются только в позднейших списках и, очевидно, представляют собою глоссу, вставку позднейшего редактора из Разрядного приказа.
Также только в поздних списках разрядных книг мы находим запись о том, что в «7043 и 7044 и 7045 году на Москве в Розрядех» были дьяки Е. Цыплятев, А. Ф. Курицын и Гр. Загряжский, причем «у них в Розряде» были подьячие Леонтий и Иван Вырубовы [1816]1816
Н. П. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., стр. 82.
[Закрыть]. Последних двух ранние источники вовсе не знают. Первый и третий из названных дьяков встречаются в посольских книгах в записи 7045 г. [1817]1817
Сб. РИО, т. LIX, стр. 65, 109.
[Закрыть], а второй в разрядных книгах под 7043 г. [1818]1818
ДРК, стр. 95.
[Закрыть]Сведение о разрядных дьяках является вероятнее всего позднейшим компилятивным обобщением. Его характер не соответствует ранним лаконичным записям разрядных книг военно-распорядительного характера.

Не может быть принят во внимание и еще целый ряд позднейших сведений, которые якобы говорят о существовании Разрядного приказа в первой половине XVI в. [1819]1819
Сведения о том, что якобы в 1540 г. в Разряде сидел Иван Курицын («Исторический сборник», т. II, стр. 8) и о разрядном дьяке Гр. Грязном (П. Долгоруков, Российская родословная книга, ч. 4, СПб., 1857, стр. 336) уже отверг Н. П. Лихачев (Н. П. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., стр. 234–235).
[Закрыть]Например, в одной челобитной середины XVII в. говорится о записи посольства 1527 г. в разрядной книге [1820]1820
Н. П. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., стр. 312–313.
[Закрыть]. Это, однако, может и не говорить «о современной посольству записи в Разряде» [1821]1821
Н. П. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., стр. 313.
[Закрыть], а тем более о существовании Разряда в 1527 г. Запись, если она и была сделана современником, могла принадлежать перу обычного дьяка государевой казны. Также в позднейшем (Морозовском) Летописце имеется запись о том, что в поход 1552 г. Иван Грозный ездил «со всеми розрядными дьяки» [1822]1822
Н. М. Карамзин, История государства Российского, кн. 2, т. VIII, примеч. № 288, стб. 46. О компилятивном характере памятника см. С. Ф. Платонов, Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в., изд. 2, СПб., 1913, стр. 422–423.
[Закрыть].
Военно-административными делами и составлением соответствующей документации (разрядов) в первой половине XVI в. ведали особые дьяки, в частности Елизар Цыплятев. В 1537 г. были записаны «дети боярские у наряду у дьяков у Елизара Цыплятева с товарыщы» [1823]1823
Сб. РИО, т. LIX, стр. 65.
[Закрыть]. Елизар Цыплятев был одним из дьяков, принимавших участие и в посольских делах того времени [1824]1824
Подробнее см. Н. П. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., стр. 85 и след.
[Закрыть].
К 1549 г. относится первое сведение о разрядных дьяках, часть из которых мы застаем позднее в Разрядной избе. Декабрьский указ 1549 г. о частичной отмене местничества оканчивается фразой: «Дьяк Андрей Васильев уложил о наряде и применения ему доведется Разряде». Указ имел скрепы дьяков И. Елизарова, А. Васильева, У. Львова и печатника и дьяка Н. Фуникова. В тексте его говорится также о том, что Иван IV этот указ «в норяд в служебной велел написати дьяком своим Ивану Елизарову с товарищи, велел руки свои прило-жити» [1825]1825
«О службах и походах боярских… («Отечественные записки», 1826, № 80, стр. 427–429).
[Закрыть]
Перед нами ценное свидетельство о разрядных функциях дьяков Васильева, Елизарова и Львова [1826]1826
16 июня 1551 г. Цыплятев, Васильев и Львов выдали жалованную уставную грамоту псковским священникам («Древняя Российская вивлиофика», ч. 15, стр. 15–19). Очевидно, еще и тогда они выполняли сходные функции; вполне разрядными их, конечно, назвать нельзя.
[Закрыть]. Однако оно еще явно недостаточно в силу своей неясности, чтобы говорить о существовании Разрядного приказа как сложившегося учреждения.
Разрядную избу с четко выраженным составом мы встречаем только в 1555–1556 гг. Тогда в ведомство дьяков, выполнявших разрядные функции, входили И. Е. Цыплятев, И. Г. Выродков и Андрей Васильев [1827]1827
Е. Цыплятев принимал участие в составлении Государева родословца 1555 г. Впервые термин «разрядные дьяки» упоминается в источниках в 1563 г., а «Разрядная изба» – в 1566 г. (Н. П. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., стр. 458). В 1571 г. упоминается «Разряд», как наименование ведомства (там же, стр. 463).
[Закрыть]. Эта дьяки подписали в 1555–1556 гг. значительную группу актов, направленных в Новгород, которые посвящены военно-административным делам [1828]1828
Н. П. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., стр. 255–258.
[Закрыть]. Выродкова называет главой «военного ведомства» Штаден, характеризующий состав Разрядной избы к концу 60-х годов XVI в. [1829]1829
Г. Штаден, указ. соч., стр. 80.
[Закрыть]Разрядные дьяки выполняли и другие обязанности: И. Г. Выродков, например, был углицким дворецким, А. Васильев в 1561/62 г. занимался посольскими делами, а после сентября 1562 г. сделался начальником Посольского приказа [1830]1830
С. А. Белокуров, О Посольском приказе, стр. 106, 115.
[Закрыть]. Однако в условиях военных реформ и войн второй половины XVI в. это совмещение не было столь значительно, как в других ведомствах: военные дела требовали концентрации усилий всего штата Разрядной избы.
Реорганизация Разряда в постоянно действующий приказ, являвшийся как бы генеральным штабом русской армии, укрепила руководство русским войском. Разрядные книги, содержавшие росписи военных походов, десятни (военно-учетные списки служилых людей) сделались важнейшей частью приказного делопроизводства Разряда [1831]1831
Впрочем, еще Василий III, по словам Герберштейна, «каждые два или три года… производит набор по областям и переписывает детей боярских, с целью узнать их число и сколько у кого лошадей и служителей» (С. Герберштейн, указ. соч., стр. 74). У нас сохранились сведения о составлении в 1555/56 г. следующих «десятен»: каширской десятни боярина князя Д. И. Курлятева, десятни мещерского смотра, десятни «белян да стародубцов» боярина А. Д. Басманова, десятни «новгородцев всех пятин, торопчан, лучан, пусторжевцов» серпуховского смотра окольничего Льва Салтыкова, десятни псковичей (Н. 77. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., стр. 450; ср. «Heraldica», т. I, СПб., 1900; Я. В. Мятлев, «Тысячники» и московское дворянство XVI столетия, Орел, 1912, стр. 65, 67). Есть сведения о десятне 1554/55 г. Третьяка Дубровина (Тысячная книга, стр. 147), а также о десятне «ружан, серпуховин, торушан, вятчан, боровин» Д. Ф. Палецкого, которую можно датировать примерно 1556 г. (Н. 77. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., приложение, стр. 54, ср. И. И. Смирнов, Очерки, стр. 428). О десятнях см. также А. В. Чернов, Центральный государственный архив древних актов, как источник по военной истории Русского государства до XVIII в. («Труды Московского государственного историко-архивного института», т. IV, М., 1948, стр. 128–129).
[Закрыть].
О некоторых центральных учреждениях в нашем распоряжении имеются сравнительно поздние свидетельства. Но это обстоятельство, быть может, случайного порядка. Эти учреждения, возможно, сложились в середине XVI в. Так, появление Стрелецкой избы можно связывать с реформой 1550 г., преобразовавшей войско пищальное в стрелецкое. Встречается первое упоминание об этой избе только в 1571 г. К этому же году относится первое упоминание о Холопьем суде [1832]1832
«Разрядная книга (7067)» («Синбирский сборник», М., 1844, стр. 34).
[Закрыть]. Однако не исключена возможность более раннего появления этого ведомства, выделившегося из казны (ранее делами о полных холопах ведали в казне ямские дьяки) [1833]1833
Грамоты полные, заверенные этими дьяками, доходят только до 1554 г. См. «Проблемы источниковедения», сб. II, М.—Л., 1936, стр. 337. Приговор о полоняниках (около 1558 г). имеет уже помету: «приписати в Судебник к Холопыо суду», т. е. возможно Холопья изба уже существовала в 1558 г.
[Закрыть]
Таким образом, середина 50-х годов XVI в. была временем, когда в ходе реформ центрального аппарата власти стали явственно вырисовываться очертания приказного управления. В документах «изба» становится уже нарицательным названием центрального правительственного учреждения. Так, в приговоре 22 августа 1556 г. говорится о том, что губным старостам следует посылать донесения «в ту избу, ис которой пошлют» к ним соответствующую грамоту [1834]1834
«Памятники русского права», вып. IV, стр. 366.
[Закрыть]. С 1555 г. в «избах» и казне начинают составляться указные книги – сборники законодательных актов [1835]1835
См., например, уставную книгу Разбойного приказа 1555/56 г. (Там же, вып. IV, стр. 356 и след.) и указную книгу ведомства казначеев, изданную в составе дополнительных статей к Судебнику 1550 г. (АИ, т. I, № 154).
[Закрыть]. Созидающиеся «избы» еще сохраняли теснейшую генетическую связь с казною, из состава которой они выделились. Еще дьяки, руководители изб, часто совмещали выполнение обязанностей по различным ведомствам. Некоторые же избы (как, например, Разбойная и другие) возглавлялись боярами или окольничими [1836]1836
Трудно, например, сказать, какими «избами» ведали боярин Ф. И. Шуйской (октябрь 1555 г.), боярин Д. И. Немой (январь 1558 г.) и окольничий Ф. И. Умной-Колычев в декабре 1557 г. (АИ, т. Т, № 154).
[Закрыть]. Вместе с тем новый аппарат был намного удобнее старого: развивающийся принцип функционального деления ведомств, постепенно заменяющий территориальный принцип, свидетельствовал о значительных успехах в централизации государственного управления.
С течением времени ведомства центрального управления начинают именоваться «приказами». Наиболее раннее свидетельство, которое называет определенное ведомство приказного типа «приказом», относится к декабрю 1555 г. В памяти, адресованной боярам, предписывалось «в своем приказе в долгех всем людем давати управа по сему государеву указу, и из своего приказа, во все городы к наместником и ко всем судиям, розослати грамоты» [1837]1837
АИ, т. I, № 154. стр. 260.
[Закрыть]. В рукописях, содержавших текст указной книги казначеев 1555–1560 гг., который в ноябре 1560 г. был прислан в Новгород, содержалось упоминание о памятях, которые «присыланы от дьяков из приказов лета 7069-го ноября с первого числа» [1838]1838
Архив ЛОИИ, Собр. Лихачева, № 228, л. 55.
[Закрыть]. В летописном рассказе об учреждении опричнины (1564/65 г.) в общей форме говорится о приказных людях и приказах (например, «все приказные люди приказы государские оставиши»; Иван IV отпустил «бояр и приказных людей – да будут они по своим приказом», «а конюшему и дворетцскому и казначеем и дьяком и всем приказным людем велел быти по своим приказом и управу чинити по старине») [1839]1839
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 391–395. В Уложении о службе 1555/56 г. тоже говорится, что «подлинные тому розряды у царьскых чиноначалников, у приказных людей» (там же, стр. 269). Однако это Уложение, возможно, является позднейшей вставкой в текст летописи, время появления которой определить пока затруднительно.
[Закрыть]. В рассказе нет ни слова еще о конкретных приказах – учреждениях, но уже липа государственного аппарата именуются «приказными людьми», а служба по центральным ведомствам – приказной службой («по своим приказам» – при исполнении своих служебных обязанностей). Исследователи ошибочно относят к этому рассказу первое упоминание о Земском приказе [1840]1840
Н. П. Лихачев, Разрядные дьяки XVI в., стр. 56.
[Закрыть]. Согласно летописи, «приговорил царь и великий князь взяти из земского сто тысяч рублев» [1841]1841
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 395.
[Закрыть]. После слова «земского» в рукописи между строк написано «приказа». Но это позднейшая приписка, являющаяся типичным неверным осмыслением летописного текста. В летописи говорится не о «приказе», а о взятии с земщины 100 000 рублей.
Первые сведения о том, что «избы» как учреждения начинают именоваться «приказами», относятся к 60-м годам XVI в. [1842]1842
Отрицая какое-либо отличие между «избами» 50-х годов XVI в. и «приказами» последующего времени, И. И. Смирнов пишет, что в 50-е годы XVI в., как и позднее, «источники употребляют термин «изба», когда речь идет о помещении, в котором находится приказ, и термин «приказ» (когда имеется в виду приказ как учреждение)» (И. И. Смирнов, Очерки, стр. 320–321). В данном случае И. И. Смирнов допускает две ошибки. Во-первых, термином «изба» в 50-х годах XVI в., как было показано выше, назывались центральные ведомства, как учреждения, а не просто их помещения (хотя сам термин генетически и восходит к «избе» – помещению, – сравни, например, позднейшую «земскую избу»). Во-вторых, в 50-х годах ни одно конкретное учреждение приказного типа еще «приказом» не именовалось. Поэтому довод И. И. Смирнова о том, что «в 50-х годах с бесспорностью существовали все основные приказы», верен лишь в той части, в какой можно говорить о существовании в это время «изб», связанных еще с казною.
[Закрыть]. Весьма показательно, что опись царского архива, протограф которой составлен не ранее 1562 г., не знает термина «приказ» для названия центральных ведомств. В описи упоминаются «Казенный двор», «Посольская палата», «Челобитная изба» и «Казенная изба» [1843]1843
С. О. Шмидт, Царский архив середины XVI в. и архивы правительственных учреждений, стр. 263.
[Закрыть]. Но уже в приговорной грамоте Земского собора 1566 г. упомянуты «диаки и приказные люди», среди которых называются: «Из Дворцового приказу яз, Василей Андреев; Конюшенные, яз Посник Булгаков, яз, Богдан Бармаков; из Приказу ж яз, Петр Шестаков, яз, Григорей Калауров» [1844]1844
СГГиД, ч. 1, № 192, стр. 553. Приказ Большого дворца упоминается также в акте 1572 г. («Описание актов собрания гр. А. С. Уварова» № 45).
[Закрыть].
То, что приказом впервые четко именуется дворец, не может считаться случайностью и показывает генетическую связь приказной системы с дворцовыми учреждениями. В 1569–1570 гг. «приказом» именуется складывающаяся в опричнине четверть [1845]1845
С. Ф. Платонов, Сочинения, т. I, стр. 141, 131; ср. сведения 1575 г. (В. П. Шляпин, Акты великоустюжского Михайло-Архангельского монастыря, ч. 1, Великий Устюг, 1912, стр. 158–159). Однако еще в 1577 г. говорится о «четверти» (Акты Юшкова, № 208, стр. 188–189).
[Закрыть], а в 1571 г. Разбойный приказ [1846]1846
В губном наказе 12 марта 1571 г. наряду с Разбойной избой встречается упоминание и о Разбойном приказе (ААЭ, т. I, № 281); то же самое в грамоте 1586 г. (там же, № 330).
[Закрыть]. В начале 1573 г. приказами именуется группа учреждений дворцового ведомства: Дворцовый, Постельный, Бронный и, судя по контексту, Конюшенный приказы [1847]1847
Д. Н. Альшиц, Новые документы о людях и приказах опричного двора Ивана Грозного после 1572 г., стр. 37, 40, 42, 58. Прямого названия Конюшенный приказ в документе нет, но из контекста оно подразумевается существующим. Конюшенный приказ упоминается в 1599 г. (ААЭ, т. II, № 12).
[Закрыть]. Но и в это время, как пишет С. О. Шмидт, «самое слово «приказ» применительно к учреждению, еще не окончательно утвердилось в языке документов» и часто употреблялось наряду с тождественным понятием «изба» [1848]1848
С. О. Шмидт, Царский архив середины XVI в. и архивы правительственных учреждений, стр. 262.
[Закрыть]. Ямское ведомство именуется приказом уже в 1574 г. [1849]1849
«Исторические акты ярославского Спасского монастыря», т. I, № XLIII, стр. 53.
[Закрыть], Посольская изба называется приказом в 1576 г. [1850]1850
«Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными», ч. 1, стб. 505.
[Закрыть], казна – приказом Казенного двора в 1585 г. [1851]1851
ДАИ, т. I, № 131, стр. 204.
[Закрыть]Впрочем, новое название вошло в жизнь не сразу. Еще долго говорили и о Ямской [1852]1852
См. под 1578 г. (Н. М. Карамзин, История государства Российского, кн. 3, т. IX, примеч. № 516).
[Закрыть], Поместной [1853]1853
См. под 1581 г. (ААЭ, т. I, № 308, стр. 372).
[Закрыть]и Посольской избах [1854]1854
Н. П. Лихачев, Библиотека и архив Ивана Грозного, СПб., 1894, стр. 115 и след. «Изба» дьяка И. Висковатого, известная уже с 1549 г., в 50-х годах XVI в. обычно именовалась «дьячей избой»; только к февралю 1564 г. относятся первые упоминания о ней, как о «Посольной избе» (там же, стр. 104, 105). В связи со строительством в 1565 г. здания («палаты») Посольской избы, с 1566 г. она в источниках именуется «Посольной палатой» (там же, стр. 70, 106).
[Закрыть].
Однако термин «приказ» постепенно вытеснил название «изба» из обихода.
Эта смена наименований отражала серьезные сдвиги, происшедшие в организации центрального правительственного аппарата. Они заключались прежде всего в том, что приказы все более и более становились ведомствами с постоянным составом и строго очерченными функциями. Уничтожалась и их генетическая связь с казною.
Оформление к 1555–1556 гг. приказной системы сделало ненужной ту сеть областных дворцов, которая фактически осуществляла высший контроль над деятельностью местных властей. К началу 60-х годов старинные дворцы исчезают. Последние сведения о тверских дворецких относятся к 1552–1555 гг.; примерно тем же временем датируются самые поздние упоминания о дворецких в Дмитрове. Где-то между 1551/52 и 1558 гг. обрывается цепь углицких дворецких. Рязанский дворец, очевидно, с 1551 по 1559 г. возглавляет П. В. Морозов. О его преемниках мы уже ничего не знаем. Наконец, после 1556 г. не было дворецких и в Великом Новгороде [1855]1855
Подробнее об этом см. А. А. Зимин, О составе дворцовых учреждений, стр. 197–198. В недавно обнаруженной В. А. Куч-киным грамоте 15 февраля 1555 г., выданной тверскому Афанасьевскому монастырю, упоминаются дьяки Тверского (Лянун Ковезин), Дмитровского (Илья Царегородов) и Углицкого (Иван Клобуков) дворцов (В. А. Кучкин, Жалованная грамота тверскому Афанасьевскому монастырю 1555 г., стр. 222–223).
[Закрыть].

Исчезновение дворцов связано с постепенным преодолением пережитков феодальной раздробленности в стране и влиянием этого процесса на административное управление страны. Приказы перенимают все функции областных дворцов. Этот процесс не был завершенным: многие приказы сохраняли некоторые черты территориального характера управления. Для вновь присоединяемых территорий создавались учреждения дворцового типа. Так, после ликвидации Казанского ханства управление казанским краем сосредоточивалось в созданном Казанском и нижегородском дворце, который с 1557 г. возглавлял М. И. Вороной-Волынский. Но основная линия в развитии центрального управления свидетельствовала о его дальнейшей централизации.
Увеличение удельного веса дворянства (в том числе дьячества) в управлении страной и постепенное падение роли боярской аристократии отражали рост социально-экономического могущества помещиков-крепостников. Феодальная надстройка в результате происшедших сдвигов могла теперь более активно воздействовать на развитие базиса, помогать его укреплению.
Укрепление государства происходило за счет усиления крепостнического гнета, ложившегося всей тяжестью на плечи непосредственных производителей материальных благ.
* * *
Законодательные нормы Судебника 1550 г. по земельному и крестьянскому вопросу не удовлетворили дворянство. Попытки удовлетворить потребность в поместьях за счет церкви не дали ощутимых результатов, а в обстановке борьбы с реформационным движением правительство не склонно было проводить дальнейшее наступление на привилегии церкви.
Законодательство второй половины 50-х годов XVI в. показывает те меры, которыми пыталось правительство, идя навстречу пожеланиям дворянства, осуществить его социальные требования, не затрагивая основных прерогатив феодальной знати и вотчинных владений духовенства.
Законы 1555–1560 гг. дошли до нас в целом ряде списков в составе так называемых «дополнительных статей», которыми пополнялся Судебник. Согласно статье 98 Судебника 1550 г., велено было новые законы «приписывать» к этому законодательному кодексу [1856]1856
«А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те дела з государева докладу и со всех бояр приговору вершатца, и те дела в сем Судебнике приписывати» («Памятники русского права», вып. IV, стр. 260).
[Закрыть].
Новые указы направлялись в составе памятей (ведомственных писем) во многие приказные и иные (например, митрополичьи, воеводские и др.) канцелярии для руководства в повседневной судебно-административной деятельности. Иногда (как это было, например, в Разбойном приказе) памяти с указами заносились в особые указные книги приказов, пополнявшиеся затем текущими материалами учреждения. Сохранившиеся списки XVI–XVII вв. Судебника 1550 г. с приговорами и указами второй половины XVI – начала XVII в., т. е. с дополнительными статьями, образуют целый ряд редакций, источниковедческий разбор которых позволяет установить как канцелярии, их породившие, так и состав дошедших до нас законов [1857]1857
Полный перечень списков см. «Судебники XV–XVI веков», стр. 117–131.
[Закрыть].
Законодательная мысль 50-х годов XVI в. пыталась разрешить три вопроса, волновавших широкие круги феодалов: регламентация заемных операций, судьбы служилого и полного холопства и мобилизация земельной собственности. В основе этих правовых аспектов социально-экономических отношений лежали реальные перемены, происходившие в экономике России.
Рост товарно-денежных отношений в стране, осложненный многочисленными войнами, требовавшими напряжения всех платежеспособных сил, приводил к разорению непосредственных производителей, к перераспределению земельной собственности, денежных средств и челяди у различных групп класса феодалов. Отсюда вырастала насущная необходимость в разработке норм гражданского права.
Ряд законов 50-х годов XVI в. относился к залоговому праву. Приговор 5 мая 1555 г. устанавливал срок правежа, наступавший после истечения времени уплаты займа [1858]1858
В сводном Судебнике ошибочная дата: 15 мая 1552 г. В тексте уставной книги Разбойного приказа, где приговор помещен в составе памяти дьяка Данилы Вылузги, адресованной боярам Д. И. Курлятеву и И. М. Воронцову, он датируется 5 мая 1555 г. («Памятники русского права», вып. IV, стр. 360). Эта же дата помещена в ряде списков, где приговор включен в память казначеям Ф. И. Сукину и X. Ю. Тютину. Ошибка произошла из-за того, что цифирь была прочтена, как буква «г», т. е. 7060-го вместо верного 7063. «Большой дьяк» Данила Вылузга (Тысячная книга, стр. 116) в 50-х годах XVI в. ведал земельными делами. Он подписал грамоту 27 октября о переписи земель и грамоту 9 мая 1555 г. о межевании (Троице-Сергиев м., кн. 531, Коломна, № 28; кн. 530, Звенигород, № 8).
[Закрыть]. Во время правежа, продолжавшегося месяц, взыскивался долг в размере ста рублей. Если должник не выплачивал долга за это время, то он выдавался «головою» кредитору (т. е. становился его холопом до погашения Задолженности). Отсрочка в уплате долга не могла превышать месяца («для волокиты людские»). Приговор свидетельствует о росте задолженности среди известной части рядовых феодалов, ибо названная в памятниках сумма (100 рублей) чрезвычайно велика. Вспомним хотя бы максимум в служилых кабалах, равный 15 рублям.
Несколько иной характер носил приговор 25 декабря 1557 г., уже прямо относившийся к должникам-феодалам [1859]1859
В сводном Судебнике дата 7066 (1557/58) г. В ряде списков приговор помещен в памяти дьяка Леонтия Офутина 25 декабря 1557 г., адресованной казначею X. Ю. Тютину. Следовательно, приговор датируется временем от 1 сентября до 25 декабря 1557 г. Поскольку в нем установлен срок «рождество Христово» для уплаты долга, постольку вероятнее всего, что приговор издан около 25 декабря. В некоторых списках (№ 29) память адресована окольничему и оружничему Л. А. Салтыкову, т. е. была направлена не в казну, а в Большой дворец.
[Закрыть]. Этим законом запрещалось взимание процентов («рост») по заемным кабалам служилых людей. Взимание долгов рассрочивалось на пять лет, т. е. до декабря 1562 г. Эта льгота объяснялась подготовкой к Ливонской войне. Впредь устанавливался по новым обязательствам «рост» не в 20 процентов («на пять шестой»), а всего 10 процентов [1860]1860
Трудно сказать, насколько этот закон оказался жизненным. В одной кабале 1560 г. читаем: «а рост мне давати по росщету, как идет в людех, на 5 шестой» (Троице-Сергиев м., кн. 531, Клин, № 11).
[Закрыть]. Приговор, таким образом, отражал интересы широких кругов феодалов и своим острием был направлен против их кредиторов главным образом из числа духовных феодалов-ростовщиков и купечества. Срок правежа для служилых людей увеличивался с месяца, введенного приговором 1555 г., до двух.
Указом 15 октября 1560 г. [1861]1861
Указ (грань 1, глава 161 сводного Судебника) датируется в связи с тем, что в ряде списков он помещен, как единый памятник с указом 15 октября 1560 г. о выдаче «головою» должников (сводный Судебник, грань 12, глава 162), начинающийся словами: «Доложити государя царя и великого князя». Вслед за этим идет текст: «На которых людех… докладные» (1 половина главы 162), затем 1 часть главы 161 («Да которым… пять лет ждати»), затем «Лета 7069 октября… продаватись» (2 половина главы 162) и, наконец, «А у которых… по 17 число» (2 половины главы 161). Этот порядок, очевидно, был первоначальным.
[Закрыть]предоставлялась новая льгота служилым людям, платившим долги «без росту». Если у должников-феодалов во время пожара 1560 г. сгорели дворы, то им предоставлялась отсрочка на пять лет (до июля 1565 г.).
Ряд законодательных установлений 50-х годов XVI в. относится к кабальному холопству.
Стремясь добиться оформления кабальных отношений правовой документацией, правительство приговором 11 октября 1555 г. постановило, что оно не будет принимать никаких претензий господ к ушедшим от них добровольным холопам, которых они держали «без крепостей» [1862]1862
В некоторых списках приговор помещен в составе памяти дьяка И. Бессонова, адресованной казначеям Ф. И. Сукину и X. Ю. Тютину. Один список, хранящийся в ЦГАДА, направлялся в ведомство боярина Ф. И. Шуйского. Известно, что Шуйскому в декабре 1550 г. докладывались дела о закладе земель Московского уезда (Троице-Сергиев м., кн. 536, № 109).
[Закрыть]. В обстановке массовых побегов холопов и крестьян 50-х годов XVI в. правительство не могло взять на себя обязанность удовлетворения судебных притязаний феодалов на ушедших от них людей, зависимость которых не подтверждалась специальной документацией. Приговор решительно выступал против добровольного холопства и содействовал развитию служилой кабалы. Он был разослан по городам «выборным головам», чтобы «они о добровольных людех судили по сему приговору». Речь в данном случае шла о губных и земских учреждениях, которые получили права суда по крестьянским и холопьим делам [1863]1863
Ранее эти дела рассматривались наместничьей администрацией.
[Закрыть].
Иначе решен был вопрос о сыске полных и закладных холопов. Приговор 1557/58 г. стремился предотвратить возможность побега холопов, дела о которых рассматривались в суде (сводный Судебник, грань 17, главы 149–150) [1864]1864
«7066» годом приговор датируется в списках Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, собр. Большакова, № 247; Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Собр. Погодина, № 1844; Эрмитажа, № 59 и др. Дата 30 ноября 1558(7067) г., встречающаяся в сводном Судебнике, скорее всего говорит о времени получения приговора в той канцелярии, где он был записан.
[Закрыть]. Для этой цели устанавливался штраф в 4 рубля, платившийся поручителем за сбежавшее лицо, к которому предъявлен иск о холопьей зависимости. Если это лицо сбежит, то оно без суда признается холопом. Вместе с тем закон вводит строжайшее наказание (смертную казнь) как тем, кто будет составлять («нарядят») поддельные грамоты на холопство, так и «таможеникам», которые принимали в этом участие [1865]1865
Грамоты на полных и докладных холопов составляли ямские дьяки в присутствии таможников. См., например, в Новгородской таможенной грамоте 1571 г.: «А кто купит человека в полницу и перед которым наместником поставят, и наместнику имати с головы по алтыну, а приставу наместничу – две денги, а диаку, которой грамоты полные пишет, имати с головы по алтыну. А таможником имати с головы по алтыну ж, да таможником же писати полные грамоты в книги самим да те книги отдавати им диаком в цареву и великого князя казну с казною вместе на срок. А полных грамот диаком (в других списках далее «на борзе») из таможенные не выдавати» (ААЭ, т– I» № 282, стр. 321).
[Закрыть].
В дополнительных статьях как непосредственное продолжение приговора 21 августа 1556 г. о губных делах часто помещаются приговоры об отпускных грамотах и полоняниках (см. грань 12, главы 116–117). Однако с этим законом они связаны только в той мере, в какой дела об отпускных были подведомственны выборным головам. В уставной книге Разбойного приказа, где этот приговор помещен, глава 117 отсутствует; нет главы 117 и в списке Ундольского № 822. Таким образом, оба закона (об отпускных и о полоняниках) представляют собою позднейшие приписки к приговору о губных делах.
В списке ЛОИИ (Собр. Лихачева, № 228) и сходных с ним глава 117 помещена дважды. Впервые она находится после глав 153–155 (см. грань 12). При этом ей предшествует заголовок: «Такову память прислал к казначеем дьяк Данило Вылузга за своею приписью. Приписати в судебник к Холопью суду». При этом последняя фраза приговора в списках Лихачева № 228 и других опущена. Вторично приговор помещен в этих списках полностью после указа 15 октября 1560 г. с заголовком – «Приписати в Судебник к Холопью суду». Судя по этим спискам и уставной книге Разбойного приказа, приговор о полоняниках следует датировать примерно 1558 г., а приговор об отпускных – 1556 г. Тем не менее размещение статей в Уваровском списке отнюдь не значит, как полагает И. И. Смирнов, что «статья о холопах-полоняниках… составлена из двух указов – 1558 и 1560 гг.» [1866]1866
И. И. Смирнов, Очерки, стр. 394.
[Закрыть]«Укороченный» текст приговора под 1558 г. и вторичное его помещение под 1560 г. являются особенностями первой редакции дополнительных статей и отнюдь не отражают какую-либо особую кодификационную работу. И. И. Смирнов, основываясь на Уваровском списке, считает, что соединение приговора об отпускных с приговором о полоняниках произошло после 1560 г., точнее, в начале 60-х годов XVI в. Однако эти оба законодательных акта существовали уже в 1558 г. (т. е. во второй редакции дополнительных статей).
Приговор 1556 г., подтверждая статью 77 Судебника 1550 г. о выдаче отпускных с «боярского докладу» (возможно, в казне или наместничьей канцелярии), специально оговаривал, что старые отпускные «без боярского докладу» сохраняют юридическую силу. Если бывший холоп все-таки будет служить у своего господина, то его отпускная аннулируется. Приговор о полоняниках 1558 г. устанавливал, что холоп из числа пленников был зависим от господина только до смерти последнего, причем дети холопа в зависимость вовсе не попадали. Таким образом, плен становился источником не полного, а служилого холопства. Смягчение положения холопов-полоняников объясняется постепенным изживанием полного холопства.
В составе дополнительных статей находится специальный приговор, посвященный уточнению порядка оформления отпускных (грань 12, глава 160). В дополнение к приговору 1556 г., устанавливавшему обязательность боярского доклада, новым законом вводилась обязательность приложения к отпускной боярской печати «и дьячей руки» (расписки дьяка).
В издании Судебника В. Н. Татищева приговор сформулирован иначе: «Которыя отпускныя до сего уложения без боярския печати и без дьячьей приписи в прежних летах даваны, и отпускныя велети являти и казначеем записати, что с тою отпускною у государя того (не) служити, а не явит кто и не подпишет сего года, ино та отпускная не в отпускную» [1867]1867
Судебник, стр. 197–198.
[Закрыть]. Трудно сказать, кем приговор был обработан: самим В. Н. Татищевым, одним из переписчиков приговора или переформулирован в правительственной канцелярии. И, конечно, на основании выражения об обязательности регистрации отпускных «сего года» отнюдь нельзя отнести составление приговора к началу 50-х годов XVI в. (ко времени вскоре после издания Судебника), как это делают И. И. Смирнов и С. О. Шмидт [1868]1868
И. И. Смирнов, Очерки, стр. 394–396; С. О. Шмидт, Челобитенный приказ в середине XVI столетия, стр. 458.
[Закрыть].
В списках Лихачева № 228 и сходных приговор начинается словами: «Доклад за Олексеевою приписью Адашева: Доложити государя царя и великого князя» – и кончается текстом: «А Алексеева припись: казначеем велети записати» [1869]1869
С. О. Шмидт обратил внимание, что в данном случае «Адашев выступает не как руководитель ведомства казначеев, а как руководитель личной канцелярии государя, передававший к исполнению личные указания Ивана IV» (С. О. Шмидт, Правительственная деятельность А. Ф. Адашева, стр. 47).
[Закрыть]. Приговор Алексея Адашева возник не ранее 1556 г. (поскольку он дополняет приговор 1556 г.) и не позднее начала 1560 г. (время опалы Адашева). Судя по тому, что в дополнительных статьях приговор помещался после памяти от 25 апреля 1559 г. (сводный Судебник, глава 159), его следует датировать апрелем– декабрем того же, 1559 г.
Указ 1 сентября 1558 г. (грань 12, главы 152–156) является развитием статьи 78 Судебника 1550 г. о служилых холопах и статьи 81, запрещавшей закабаление служилых людей и их детей. Суд должен отныне принимать к рассмотрению иски совершеннолетних феодалов об их похолоплении даже в том случае, если эти лица не были записаны в десятни, и решал дела в соответствии со статьей 81. Холопья зависимость малолетних дворян попросту аннулировалась. По делам о беглых холопах устанавливался срок (на 100 верст расстояния от Москвы – 7 дней), в течение которого истец в суде (или его представитель) мог предъявить документы, подтверждающие его право на ответчика как холопа. Служилые кабалы, содержащие запись о получении холопом займа свыше 15 рублей, в соответствии со статьей 78 Судебника 1550 г. рассматривались как документы, не имеющие юридической силы.
Вторая часть указа 1 сентября 1558 г. содержит приговор о «новокрещенах» (грань 12, главы 157–158). Она распространяла действие статьи 81 Судебника 1551 г. и других законов о служилых холопах на тех новокрещеных пленников-иноземцев, которые брали на себя служилые кабалы. Закон был принят в связи со значительным увеличением полоняников-иноземцев в годы войн середины XVI в. (эти полоняники-холопы «литвины» и татарчата часто встречаются в завещаниях феодалов [1870]1870
Так, в завещании Н. Ф. Лихарева (1539/40 г.) упоминаются холопы «татарчонковы», «литовка», «немчин» (Троице-Сергиев м., кн. 533, л. 813–818 об.).
[Закрыть]).
Кабалы на полоняников приобретали и юридическую силу только после регистрации их в книгах у казначеев. Ранее дела о холопах докладывались боярам. Передача дел о холопах-иноземцах казначеям отражала усиление роли дворянской бюрократии и ограничение власти Боярской думы. Позднее (по указам 1586 и 1597 гг.) всякая служилая кабала должна была регистрироваться в особых записных книгах крепостей [1871]1871
В дополнительных статьях второй редакции после памяти 11 января 1558 г. помещен указ «О крестном целовании», устанавливающий наказание (епитемью) за ложную дачу присяги. Особенно строго каралась дача присяги русским полоняником в том, что он не побежит из плена, ибо «лутчи бы умрети, а креста не целовати… то есть грех смертный». Некоторые историки, например В. Н. Татищев и другие, подозревали указ в неподлинности (он даже не был опубликован Археографической комиссией в составе дополнительных статей), но М. Ф. Владимирский-Буданов и А. И. Андреев отвергли Эти сомнения и указали, что указ был даже использован в статье 10 главы XIV Соборного уложения 1649 г. (А. И. Андреев, Сводный Судебник – «Доклады Академии наук СССР», 1929, стр. 635). Памятник, очевидно, датируется 1558 г.: к этому же году относится указ о полоняниках-иноземцах.
[Закрыть].
Ту же тенденцию усиления судебных полномочий казначеев можно наблюдать и в приговоре по делам иногородних. Этот памятник вместе с тем отражает дальнейшую централизацию суда и ограничение судебных полномочий наместников [1872]1872
Приговор о делах между иногородними людьми и москвичами в списках первого извода второй редакции дополнительных статей (Эрмитаж, № 59 и сходные с ним) помещен как заключительная часть приговора 1558 г. о сыске холопов. Во втором изводе второй редакции эти два приговора даны в разных частях памятника. Это размещение более логично, ибо оба приговора говорят о совершенно различных сюжетах.
[Закрыть]. Истец, обратившись в Москве по тяжбе с иногородним ответчиком, судился теперь казначеями [1873]1873
К 1558 г. судебные функции формирующихся приказов не были еще отчетливо выражены. Поэтому суд по «сместным делам» сохранялся за казначеями.
[Закрыть], а не наместниками [1874]1874
Несмотря на проведенную к 1555–1556 гг. отмену наместничьего управления, в крупнейших северо-западных, южных и юго-восточных порубежных городах наместники, как мы отмечали, сохранились.
[Закрыть](ср. статьи 30, 48 Судебника 1550 г.). В случае грабежа, совершенного в Москве жителями своего города, можно было возбуждать иск у казначеев.