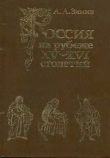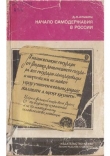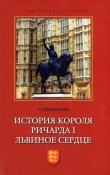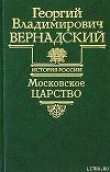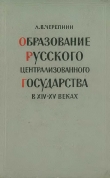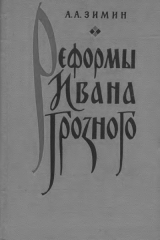
Текст книги "Реформы Ивана Грозного. (Очерки социально-экономической и политической истории России XVI в.)"
Автор книги: Александр Зимин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Все это привело к быстрому распаду лагеря князя Андрея Ивановича. Мятежного князя стали покидать даже старицкие дети боярские, составлявшие основной контингент его войска [1001]1001
См. М. Н. Тихомиров, Малоизвестные летописные памятники XVI в., стр. 86, 87.
[Закрыть]. Никаких надежд на успех авантюры у князя Андрея уже не было. Он попытался бежать «за рубеж», повернул к Старой Русе, но был настигнут войсками князя И. Ф. Овчины-Оболенского в трех верстах от Заецкого яма [1002]1002
ПСРЛ, т. XXVI, стр. 318. По другим сведениям, князь Андрей находился в Тюхолях, в пяти верстах от Заецкого яма (Тюхоли – позднее деревня Новгородской губернии, Крестец-кого уезда). См. «Географическо-статистический словарь Российской империи», сост. П. Семенов, т. V, СПб., 1885, стр. 286.
[Закрыть], под Лютовой горою, в 60 верстах от Новгорода. Андрею Старицкому не оставалось уже ничего иного, как начать переговоры с И. Ф. Овчиной-Оболенским («нача с князем Иваном ссылатися») [1003]1003
ПСРЛ, т. VIII, стр. 294; ср. т. XIII, ч. 1, стр. 96; т. VI, стр. 302. Вряд ли следует принять версию «Повести о поимании князя Андрея Ивановича Старицкого», по которой инициатива переговоров приписывается И. Овчине-Оболенскому (М. Н. Тихомиров, Малоизвестные летописные памятники XVI в., стр. 87). Сильнейшей стороной в данном случае являлись московские воеводы, победа которых в случае вооруженного столкновения была обеспечена. Автор «Повести», являющийся сторонником, князя Андрея, явно тенденциозно стремится представить инициатором переговоров московскую сторону.
[Закрыть]. И. Овчина от имени правительства (которое позднее дезавуировало его решение) дал гарантию полной неприкосновенности князю Андрею и даже обещание «вотчины ему придати» [1004]1004
В Воскресенской летописи редакции 1541 г., составитель которой явно благосклонен к Шуйским и враждебен Овчине-Оболенскому, говорится, что Овчина дал гарантию Андрею Старицкому, «не обославшися с великим князем». За это якобы он подвергся опале со стороны Ивана IV (ПСРЛ, т. VITI, стр. 294). В других летописях просто говорится (более правдоподобно), что Иван IV «поймал» князя Андрея без какого-либо указания на «самовольство» Овчины (ПСРЛ, т. VI, стр. 302; см. С. А. Левина, О времени составления и составителе Воскресенской летописи XVI в., стр. 378).
[Закрыть]. После этого князь Андрей вынужден был согласиться на приезд в Москву. Здесь Андрей Иванович (в начале июня 1537 г.) [1005]1005
ЦГАДА, Собр. Оболенского, № 42, л. 52. По Постников-скому Летописцу, он был брошен в темницу 1 июня (М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 284). По Вологодско-Пермской летописи он прибыл в Москву «июня (далее пропущено место) в четверг». А в субботу был пойман «и на очех у великого князя не был». Суббота была 2 июня 1537 г. Умер Андрей Старицкий 10 декабря 1537 г. (ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 121).
[Закрыть]был брошен в заточение [1006]1006
ПСРЛ, т. XXVI, стр. 318.
[Закрыть]. Бояр князя Андрея – князей Ф. Д. Пронского, Ленинских и других подвергли торговой казни и заключению. Летописец добавляет, что «иных многих детей боярьских княж Ондреевых преимаша и по городом разослаша».
Русское правительство особенное значение придавало пресечению всех попыток к сепаратизму новгородских феодалов. В качестве репрессии за участие в мятеже 30 новгородских детей боярских были повешены [1007]1007
ПСРЛ, т. VIII, стр. 294; А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 161; Сб. РИО, т. LIX, стр. 137–138. Казни продолжались вплоть до октября 1537 г. (ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. III, стр. 616).
[Закрыть]. Отдельные элементы новгородских служилых людей на протяжении всего XVI в. не раз выступали противниками укрепления Русского государства. Вместе с тем в Старицком уделе правительство укрепляло положение крупных московских духовных феодалов путем предоставления им широких льгот (см., например, выданные в июле – августе 1537 г. три жалованные грамоты Троицкого монастыря [1008]1008
Троице-Сергиев м., кн. 527, № 252, 255, 256; С. М. Каштанов, Иммунитетные грамоты 1534 – начала 1538 года… стр. 415–417.
[Закрыть]).
Так удалось покончить с последним очагом удельнокняжеской оппозиции в малолетство Ивана IV.
Процесс централизации управления в годы регентства Елены Глинской был противоречив. Он сочетался с усилением роли боярской олигархии. Наряду с Оболенскими все большую роль в правящем аппарате начинали играть ростово-суздальские княжата – Шуйские и их родичи. Шуйские и Горбатые в 1534–1538 гг. держали в своих руках важнейшие административные и военные посты (в том числе новгородское наместничество). Близкий к ним И. И. Кубенский был великокняжеским дворецким. Дипломатическими делами в феврале 1536 г. ведали И. Ф. Телепнев-Оболенский и В. В. Шуйский [1009]1009
Сб. РИО, т. LIX, стр. 16, 66.
[Закрыть], а также некоторые связанные с ними бояре. Все это подготовляло условия для временного торжества боярской олигархии, наступившего после смерти Елены Глинской (в ночь на 3 апреля 1538 г.) [1010]1010
Ходили слухи, что Елена была отравлена боярами (см. С. Герберштейн, указ. соч., стр. 40).
[Закрыть].
Уже в апреле 1538 г. «боярским съветом» во главе с И. В. и В. В. Шуйскими был схвачен и замучен ненавистный им боярин И. Ф. Телепнев-Оболенский, а его сестра (вдова сподвижника Василия III – В. А. Челяднина), оказывавшая большое влияние на Елену Глинскую, была насильно пострижена в монахини [1011]1011
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 123.
[Закрыть]. Овчину-Оболенского, по словам летописца, постигла опала «за то, что его государь князь великий в приближении дръжал» [1012]1012
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 123.
[Закрыть]. Началось время боярского правления.
Переворот 1538 г. был совершен «боярским советом», т. е. основной массой боярства. Из «нятства» (заключения) были выпущены князья А. М. Шуйский и И. Ф. Бельский, причем, как сообщает летопись, Иван IV «пожаловал их своим жалованьем – боярством». Получили свободу и опальные бояре князя Юрия Дмитровского [1013]1013
М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 285.
[Закрыть].
В октябре 1538 г. боярином уже был И. М. Шуйский [1014]1014
А. Чумиков, Акты Ревельского городского архива (Чтения ОИДР, 1898, кн. 4, № 3, стр. 20).
[Закрыть]. Виднейшие деятели времени правления Елены Глинской постепенно сходят со сцены: после 1539 г. покидает должность тверского дворецкого И. Ю. Шигона Поджогин; в 1539 г. умирает М. Ю. Захарьин и около 1540 г. И. Д. Пенков. Ведущую роль в это время играли уже Шуйские и их сторонники. Показателем этого являлась женитьба в июне 1538 г. В. В. Шуйского на дочери казанского царевича Петра Обреимовича, двоюродной сестре Ивана IV [1015]1015
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 124.
[Закрыть]. Благодаря этому браку Шуйские приобретали в случае смерти малолетнего Ивана IV и его слабоумного брата Юрия права на русский престол.
Политика Шуйских вызвала резкое противодействие группировки бояр, возглавлявшихся Бельскими. В борьбе с Шуйскими Бельские стремились в какой-то мере пойти на соглашение с теми элементами господствующего класса, которые являлись сторонниками централизаторской политики [1016]1016
Известно благожелательное отношение Ивана Грозного к И. Ф. Бельскому в отличие от Шуйских («Послания Ивана Грозного», стр. 33, 34). И. Ф. Бельский был, очевидно, видным полководцем и широко образованным человеком (РИБ, т. XXXI, стб. 166–167).
[Закрыть]. Они были близки к митрополиту – осифлянину Даниилу и видному деятелю государевой казны дьяку Федору Мишурину. Среди боярской аристократии их поддерживали также И.И. Хабаров, Ю.М. Булгаков [1017]1017
За последних двух И. Бельский ходатайствовал перед па-рем (ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 126, 141).
[Закрыть], П. М. Щенятев [1018]1018
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 140–141. И. Ф. Бельский был женат на его сестре («Известия Русского генеалогического общества», СПб., 1900, вып. 1, стр. 71). Щенятев был дальним родственником Булгакова.
[Закрыть](Булгаков и Щенятев происходили из Гедиминовичей) и некоторые представители старомосковского боярства, в том числе М. В. Тучков [1019]1019
См. ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 432.
[Закрыть]и И. Г. и В. Г. Морозовы [1020]1020
О позиции Морозовых см. там же, стр. 443–444; «Послания Ивана Грозного», стр. 34. Одна из сестер И. Д. Вельского была позднее замужем за М. Я. Морозовым (С. Б. Веселовский, Последние уделы в Северо-Восточной Руси, стр. 116).
[Закрыть].
Значительно более прочные позиции занимала в Боярской думе группировка бояр и княжат, возглавлявшаяся Шуйскими. В нее входили многочисленные потомки ростово-суздальских княжат, в том числе Ростовские [1021]1021
О князе Юрии Ивановиче Темкине-Ростовском как союзнике Шуйских см. ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 444.
[Закрыть], Горбатые, а также Головины-Третьяковы [1022]1022
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 443–444. На дочери казначея П. И. Головина был женат А. Б. Горбатый; его двоюродная сестра Мария Проискал была замужем за М. В. Горбатым, а родная сестра – за И. Д. Пронским (С. Б. Веселовский, Владимир Гусев – составитель судебника 1497 г., стр. 39). В. В. Шуйский был в 1534/35 г. душеприказчиком М. В. Горбатого (К. Тихонравов, Владимирский сборник, М., 1857, отд. 3, стр. 130).
[Закрыть], князь Дмитрий Иванович Курлятев, Иван Васильевич Шереметев, Андрей Михайлович Плещеев, князья Иван и Василий Ивановичи Пронские [1023]1023
См. о них ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 439, 443–444.
[Закрыть], Палецкие [1024]1024
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 439, 443–444.
[Закрыть]и другие.
Впрочем, эта группа не была однородной. Необычайно осторожно, в частности, держались Кубенские и Курбские [1025]1025
Отец князя Андрея Михайловича Курбского – Михаил Михайлович Курбский был «дядя» Кубенскому (Михаилу Ивановичу). Грозный его называет «боярином» Кубенского («Послания Ивана Грозного», стр. 54, 119).
[Закрыть]. И. И. Кубенский в течение двадцати лет сумел сохранить за собою важный пост дворецкого. Будучи близок к Шуйским [1026]1026
Кубенский, как и Шуйские, был связан с углицкими князьями. Его отец был женат на дочери князя Андрея Васильевича Углицкого («Временник ОИДР», кн. 10, М., 1851, стр. 232, 234), на другой дочери которого женат был Андрей Дмитриевич Курбский (Курбские также были родственниками Кубенских и Пенковых). И. И. Кубенский вместе с Андреем Шуйским был одним из организаторов переворота 1542 г. против И. Бельского (ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 141; «Послания Ивана Грозного», стр. 94). В 1543 г. после казни князя Андрея Шуйского Кубенский был отстранен от исполнения должности дворецкого.
[Закрыть], он в то же время пользовался покровительством Елены Глинской [1027]1027
И. И. Кубенский был родственником близкого к Елене Глинской И. Д. Пенкова (их прадеды были братьями); ср. «Временник ОИДР», кн. 10, стр. 55–57). Его ближайшим сотрудником был дьяк Ф. Мишурин.
[Закрыть]и старался сохранить расположение Бельских [1028]1028
До 1542 г. выступления Кубенского против Бельских нам неизвестны.
[Закрыть].
Сходной была позиция Воронцовых, до начала 40-х годов не принимавших активного участия в боярских сварах [1029]1029
За близость Воронцовых к Шуйским может говорить упоминание М. С. Воронцова в духовной князя М. В. Горбатого, с которым он был связан годами совместного наместничества в Новгороде, и позднейшая одинаковая судьба некоторых Воронцовых и князя И. И. Кубенского. Брат М. С. Воронцова Иван получил чин окольничего в январе 1541 г., а боярское звание – незадолго до июня 1543 г. (ДРК, стр. 116), т. е. во время правления Шуйских.
[Закрыть]. И. И. Кубенский и Воронцовы в своей политической деятельности, несмотря на временное соглашение их с Шуйскими, были представителями кругов старомосковского боярства, шедших на компромисс с теми элементами среди господствующего класса, которые стояли за продолжение централизаторской политики Василия III.
Таково было соотношение сил в среде правящей верхушки. Оно сказывалось и на внутренней политике того времени. С одной стороны, объединенное боярское правительство уже сразу после прихода к власти стремилось установить тесный контакт с рядом крупных монастырей путем выдачи им иммунитетных грамот, с другой стороны, в мае – сентябре 1538 г. оно решительно воздерживалось от предоставления им тарханных привилегий [1030]1030
См. С. М. Каштанов, Феодальный иммунитет в годы боярского правления 1538–1548 гг. («Исторические записки», кн. 66, 1960, стр. 243).
[Закрыть].
Прочная позиция, занимавшаяся Шуйскими в Боярской думе, дала им возможность одержать временную победу над своими политическими противниками. Уже осенью 1538 г. под тем предлогом, что князь Иван Федорович Бельский и его сторонники без ведома Шуйских домогались боярского звания для князя Юрия Голицына и окольничества для Ивана Хабарова, группировке Бельских нанесен был сильный удар: И. Ф. Бельский посажен «за сторожи», М. Тучков и другие «советчики» разосланы по «селам», а Федор Мишурин 21 октября казнен [1031]1031
Продолжатель Хронографа 1512 г. пишет, что Ф. Мишурин казнен боярами, «не любя того, что он стоял за великого князя дела» (С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 288).
[Закрыть]. Власть закрепилась за Шуйскими, наибольшим влиянием из которых в это время пользовался князь Иван Васильевич (В. В. Шуйский умер в октябре того же года [1032]1032
В мае 1539 г. И. В. Шуйский «от себе» вел переговоры с Крымом, а в сентябре он снова принимал крымских послов (ЦГАДА, Крымские дела, кн. 8, л. 541, 647, 664 об.).
[Закрыть]). Составитель Летописца начала царства оценивает происходившие события как проявление «нелюбия межю великаго князя бояр», тяжело отражавшегося на положении страны [1033]1033
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 126.
[Закрыть].
Иван Грозный позднее вспоминал, что после смерти Елены Глинской бояре, «сами же ринушася богатству и славе и тако наскочиша друг на друга. И елико тогда сотвориша! Колико бояр и доброхотных отца нашего и воевод избиша! И дворы, и села, и имения дядь наших восхитиша и водворишася в них» [1034]1034
«Послания Ивана Грозного», стр. 33.
[Закрыть].
В речи на Стоглаве Иван Грозный также говорил, что после смерти его матери «боляре наши улучиша себе время сами владеша всем царством, самовластно, никому же не возбраняющу им, от всякого неудобнаго начинания… Мнози межеусобною бедою потреблени быша зле» («Макарьевский Стоглавник», стр. 12),]. Шуйские и их сторонники расхитили царскую казну и казну опальных князей старицкого и дмитровского. «По сем же на грады и на села наскочиша, и тако горчяйшим мучением многоразличными виды имения ту живущих без милости пограбиша… неправды и неустроения многая устроиша, мъзду же безмерную ото всяких собирающе, и вся по мзде творяще» [1035]1035
«Послания Ивана Грозного», стр. 34.
[Закрыть].
В феврале 1539 г. Шуйские добились нового успеха: с престола ими был сведен митрополит Даниил [1036]1036
ПСРЛ, т. VIII, стр. 295; т. XIII, ч. 1, стр. 127; М. Н. Тихомиров, Малоизвестные летописные памятники XVI в., стр. 90.
[Закрыть]. Один летописец, близкий к боярам, так объясняет опалу Даниила: «Учал ко всем людем быти немилосерд и жесток, уморял у собя в тюрьмах и окованых своих людей до смерти, да и сребролюбие было великое. А сослан в Осифов монастырь» [1037]1037
М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 285.
[Закрыть]. На самом же деле Даниила устранили прежде всего как сторонника И. Ф. Бельского, продолжавшего в новых условиях политику Василия III и Елены Глинской [1038]1038
В свое время Даниил, вообще избегавший ходатайствовать за политических противников великого князя, добился помилования Ивана Бельского, осужденного на смерть после неудачного казанского похода 1530 г.
[Закрыть]. Вместо Даниила митрополитом поставили близкого к нестяжателям троицкого игумена Иоасафа [1039]1039
ПСРЛ, т. VIII, стр. 285; т. XIII, ч. 1, стр. 127; ср. ААЭ, т. I, № 184. С апреля 1538 г. по распоряжению Шуйских Троицкому монастырю был передан ряд крупных земельных пожалований и выдано несколько иммунитетных грамот (Троице-Сергиев м., кн. 521, л. 129 об. и др.; С. М. Каштанов, Феодальный иммунитет в годы боярского правления 1538–1548 гг., стр. 241–270).
[Закрыть]который поспешил назначить своих ставленников на освободившиеся вакансии высших церковных иерархов (ростовским архиепископом в марте 1539 г. назначен игумен Кирилло-Белозерского монастыря Досифей, а суздальским епископом игумен Ферапонтова монастыря – Ферапонт [1040]1040
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 127–128. Первый был похоронен в 1542 г. в Кириллове монастыре, а второй – в Ферапонтове (Н. Ф. Лавров, Заметки о Никоновской летописи – ЛЗАК, вып. XXXIV/1, Л., 1927, стр. 82).
[Закрыть].
Рост феодального гнета, усилившегося в результате хозяйничанья княжеско-боярских временщиков, вызвал уже к концу 30-х годов обострение классовой борьбы в стране [1041]1041
Подробнее см. главу VI.
[Закрыть]. Наместники и волостели оказывались зачастую бессильными справиться с массовыми «разбоями», и даже, наоборот, их самоуправство и хищничество приводили к увеличению числа «розбоев» на местах. Под прямым давлением широких кругов феодалов – дворянства уже Шуйские должны были пойти на проведение губной реформы. Первые губные грамоты относятся к октябрю 1539 г. [1042]1042
ААЭ, т. I, № 187; ДАИ, т. I, № 31. Н. Е. Носов начало реформы относит еще ко времени правления Елены Глинской [Н. Е. Носов, Очерки, стр. 292): за это, как кажется, говорит основная линия губной реформы – защита интересов дворянства. В грамотах, кроме того, указывается, что разбойники могут бежать в города и волости, где «дети боярьские… учинены у того дела в головах» (ДАИ, т. I, № 31). Следовательно, реформа к концу 1539 г. затронула уже многие города. К тому же во главе комиссии бояр, ведавшей разбойные дела, находился И. Д. Пенков, один из видных деятелей правительства Елены Глинской. Н. Е. Носов считает, что около 1538 г. было издано специальное уложение по губным делам и ссылается при этом на упоминание о «Судебнике» 1538/39 г. (П. П. Смирнов, Челобитные дворян и детей боярских всех городов в первой половине XVII в. – Чтения ОИДР, 1915, кн. 3, стр. 12). Однако деление территории страны на «губы» скорее напоминает северные административные единицы Пскова и некоторых новгородских земель, с которыми связаны были именно Шуйские. Более широкое распространение реформа получила в 1539–1541 гг.: дошедшие до нас губные грамоты относятся к этому времени; в том числе, кроме названных выше грамот 1539 г., февральская грамота 1540 г. на Вятку («Наместничьи, губные и земские уставные грамоты Московского государства», стр. 55–58); мартовская грамота 1542 г. на Вятку («Труды Вятской ученой архивной комиссии», 1905, вып. III, стр. 82–84); августовская грамота 1540 г. в Соль Галицкую (ААЭ, т. I, № 192), две грамоты 1541 г. Троице-Сергиеву монастырю (там же, № 194). Все эти грамоты связаны с северными землями, где было сильно влияние Шуйских. Допустить существование общегосударственного «Уложения» о губных делах трудно, ибо реформа осуществлялась путем создания учреждений на местах отдельными распоряжениями (грамотами). Дата «Судебника» 1538/39 г. («47-го») возможно, просто явилось простым неверным прочтением даты Судебника Ивана III («7006», т. е. 1497), а именно ф 3s прочтено как «мз-го» (знак Ф как «м», a «s», как надстрочное «г» с вертикальным титлом). Как показал С. М. Каштанов, и сама «документация губной реформы оформлялась дьяками, возвышенными руководством правительств конца 1538–1541 гг., а не Елены Глинской (С. М. Каштанов, К проблеме местного управления… стр. 148).
[Закрыть]
Сущность реформы сводилась к тому, что важнейшие уголовные дела по делам о «ведомых лихих людях» отныне изымались из компетенции наместников и передавались в ведение дворянства, из среды которого для этой цели выбирались «излюбленные головы» (старосты) [1043]1043
В черносошных волостях «головами» должны были избираться «лучшие», т. е. зажиточные, крестьяне, а на посадах в «сотские» и «десятские» выбирались «прожиточные» посадские люди.
[Закрыть]. Таким образом, реформа отвечала прежде всего классовым интересам дворянства и была направлена против растущего сопротивления крестьянства. Она также подрывала судебно-административную власть феодальной аристократии на местах. Контроль над деятельностью губных органов в центре осуществляла специальная комиссия Боярской думы («бояре, которым разбойные дела приказаны») во главе с И. Д. Пенковым, сторонником укрепления политики дальнейшей централизации государственного аппарата. Н. Е. Носов считает, что в 1538/39 г. был уже создан Разбойный приказ [1044]1044
А. И. Копанев, А. Г. Маньков, Н. Е. Носов, указ. соч., стр. 71.
[Закрыть]. С этим согласиться нельзя. У комиссии по разбойным делам не было даже своего дьячего аппарата (губные грамоты еще подписывались обычно дворцовыми дьяками). Да и сама комиссия, как мы увидим, не существовала с 1539 г. непрерывно, а неоднократно заменялась другими учреждениями. В конце 30-х – начале 40-х годов XVI в. реформа проводилась еще не повсеместно: новые учреждения, получившие название «губных» (от слова «губа» – округ), вводились в отдельных районах, главным образом в северных, по челобитью дворянства и посадских людей. Завершение ее относится к более позднему времени – к периоду реформ середины XVI в.
Начало 1540 г. было временем роста политического влияния Шуйских. В феврале 1540 г. И. В. Шуйский именуется уже «боярином и наместником московским». Нам неизвестно ни одного имени наместника московского ни до И. В. Шуйского, ни после него [1045]1045
«Наместничьи, губные и земские уставные грамоты Московского государства», стр. 58. В Пискаревском Летописце под 1538/39 г. после рассказа об убийстве Ф. Мишурина говорится: «Того ж году был на Москве наместник князь Василей Шуйской, а князь велики тогда был мал» («Материалы по истории СССР», вып. II, стр. 49). Возможно, что здесь И. В. Шуйский спутан с его братом.
[Закрыть]. Существовала ли реально эта должность до 1540 г., остается неясным.
Во всяком случае за присвоением Шуйскому титула московского наместника скрывалось настойчивое стремление увековечить власть боярской аристократии в стране. И. В. Шуйскому уже в феврале 1540 г. был передан надзор за губными делами, ранее находившийся у И. Д. Пенкова, который около 1540 г., во всяком случае до 14 октября, умер. Это означало ликвидацию комиссии бояр, «которым разбойные дела приказаны» [1046]1046
Об этих «боярах» в февральской грамоте 1540 г. уже не упоминается.
[Закрыть]. Иван Грозный позднее вспоминал, что Шуйский совершенно третировал малолетнего великого князя [1047]1047
«Послания Ивана Грозного», стр. 33.
[Закрыть]. Уже в апреле 1540 г. разбойные дела снова разбирает послушная Шуйским «боярская комиссия» [1048]1048
А. К. Леонтьев, Устюжская губная грамота 1540 г. («Исторический архив», 1960, № 4).
[Закрыть]. В практику законодательной деятельности в это время внедряются решения Боярской думы как равнозначные с великокняжескими указами [1049]1049
Так, в мае 1540 г. «приговорили дати все бояря» жалованную грамоту на оброчную мельницу (С. А. Шумаков, Обзор, вып. IV, № 1302, стр. 474).
[Закрыть]. Феодальная аристократия хотела осуществить на практике свой идеал монархии с полновластной Боярской думой. Большие размеры в конце 1538–1540 гг. приобрела раздача податных привилегий крупным духовным корпорациям зачастую в ущерб городскому населению.
Первый период правления Шуйских оказался кратковременным [1050]1050
Интересны летописные отзвуки прихода Шуйских к власти. Еще М. Н. Тихомиров обратил внимание на отсутствие в изданных летописях среди лиц, сопровождавших княгиню Елену на похоронах Василия III, боярина князя И. Ф. Овчины-Оболенского и ряда «боярынь» – жен князя И. Д. Пенкова и М. Ю. Захарьина и вдов И. А. и В. А. Челядниных, а также В. Л. Глинского; см. М. Н. Тихомиров, Летописные памятники б. Синодального (Патриаршего) собрания («Исторические записки», кн. 13, 1942, стр. 276); ср. ПСРЛ, т. VI, стр. 276. Как известно, И. Ф. Овчина, Пенков, Захарьин, а также вдовы Челядниных составляли ближайшее окружение Елены Глинской. В то же время в ранних летописях наряду с М. Л. Глинским, как уже указывалось выше, регентство поручалось Д. Ф. Бельскому, который не упомянут в поздних летописях (см. там же). Перед нами правка, в результате которой упоминание о политических противниках Шуйских изымалось из текста летописей. Правка проведена была после 1539 г. (в Новгородской летописи 1539 г. сохранился еще первоначальный текст).
[Закрыть]. Митрополит Иоасаф, очевидно, зная о близости Шуйских к осифлянскому новгородскому архиепископу Макарию, решил поддержать группировку князей Бельских. Временно отошел от Шуйских и дворецкий И. И. Кубенский [1051]1051
Один из крымских сановников во второй половине 1540 г. (как это установил И. И. Смирнов) прямо писал, что «Кубенский Шуйского забил» (АЗР, т. И, № 218, стр. 383).
[Закрыть]. 25 июля 1540 г. по «печалованию» Иоасафа и настоянию И. И. Кубенского был выпущен из заточения И. Ф. Бельский [1052]1052
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 132. В 1541 г. Иоасаф «печало-вался» и об изменнике князе С. Ф. Бельском (там же, стр. 136–137). Один из крымских сановников писал С. Бельскому, что «Кубенский, напотом со всими князи и паны и с духовными урадивши, послали до Белоозера, по брата вашего князя Белского выпустити» (АЗР, т. II, № 218, стр. 383).
[Закрыть], а в декабре 1540 г. – князь Владимир Старицкий и сын Андрея Углицкого, Дмитрий, проживший в заключении около 50 лет и вскоре после освобождения умерший [1053]1053
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 135; М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 285. В 1541 г. Владимир Старицкий получил уже снова землю удела своего отца.
[Закрыть]. Освобождение Бельского вызвало гнев И. В. Шуйского, который «на митрополита и на бояр учал гнев дръжати и к великому князю не ездити, ни з боляры съветовати о государьскых делех, ни о земскых… и промежь бояр велик мятеж бысть» [1054]1054
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 132–133.
[Закрыть].
Свидетельством усиления Бельских является назначение боярином к апрелю 1540 г. их сторонника Ю. М. Голицына-Булгакова [1055]1055
ДРК, стр. 110.
[Закрыть]. В декабре 1540 г. в ответ на настоятельные просьбы местного населения из Пскова был сведен наместник Андрей Шуйский, особенно прославившийся лихоимством [1056]1056
«Псковские летописи», вып. I, стр. 110; вып. II, стр. 229.
[Закрыть]. Важная должность владимирского наместника находилась в руках Д. Ф. Бельского [1057]1057
ДРК, стр. 111.
[Закрыть]. В 1541 г. Д. Ф. Бельский уже занимал ведущее положение как один из крупнейших военачальников, успешно громивший татарские полчища [1058]1058
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 196.
[Закрыть], и организатор дипломатической службы [1059]1059
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 136.
[Закрыть]. Посылку в мае 1541 г. князя И. В. Шуйского во Владимир «казанского дела для» позднее Иван Грозный рассматривал как прямую опалу [1060]1060
ПСРЛ, т. VIII, стр. 295; Иван Грозный писал, что он «не восхотех под властью рабскою быти, и того для князя Ивана Васильевичи Шуйсково от себя отослал на службу, а у собя велел есми быти болярину своему князю Ивану Федоровичи) Белскому» («Послания Ивана Грозного», стр. 34).
[Закрыть].
Возражая С. В. Бахрушину, И. И. Смирнов считает, что нельзя рассматривать правление Бельских как некий прогресс, как попытку противостоять «развалу государства» [1061]1061
И. И. Смирнов, Очерки, стр. 86.
[Закрыть]. Однако анализ политики Бельского показывает, что в конце 1540 и в 1541 г. правительство снова (хотя и непоследовательно) взяло курс на осуществление централизаторских мероприятий, отвечавших интересам дворянства. С июля 1540 г. до января 1541 г. прекратилась выдача льготных жалованных грамот монастырям, широко практиковавшаяся Шуйскими ранее [1062]1062
С. М. Каштанов, Феодальный иммунитет в годы боярского правления 1538–1548 гг., стр. 249.
[Закрыть]. К ноябрю 1541 г. комиссию бояр, «которым разбойные дела приказаны», возглавлял И. Г. Морозов – один из сподвижников Бельских [1063]1063
ААЭ, т. I, № 194.
[Закрыть]. Кто из бояр стоял во главе комиссии до этого, сказать трудно, ибо в губных грамотах 1540 г. об этом нет никаких данных [1064]1064
Губные дела ведались боярской комиссией в августе 1540 г. (ААЭ, т. I, № 192).
[Закрыть].
После прихода к власти Бельских губная реформа по лучила широкое распространение. Зимою 1540/41 г. Иван IV, «нача жаловати, грамоты давати по всем градом большим и по пригородом и по волостем, лихих людей обыскивати самым крестьяном межь собя по крестномоу целованию, и их казнити их смертною казнию, а не водя к намесникам и к их тивуном лихих людей разбойников и татей» [1065]1065
«Псковские летописи», вып. I, стр. 110.
[Закрыть].
Внешняя политика правительства Бельских характеризуется обострением борьбы с Казанью и Крымом и попыткой налаживания мирных отношений с Литвой [1066]1066
М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 284.
[Закрыть]. Еще в августе 1535 г., воспользовавшись походом литовских войск на Стародуб и Гомель и отвлечением значительных русских сил на Мстиславль и Оршу, крымские мурзы произвели набег на рязанские земли [1067]1067
В 1541 г. в Литву было послано посольство во главе с В. Г. Морозовым и Д. Ф. Палецким (Сб. РИО, т. LIX, стр. 150).
[Закрыть]. Этот набег был частью широко задуманного плана борьбы Крыма с Россией; составной частью его являлся сентябрьский переворот в Казани, во время которого был убит хан Яналей, а на его место был призван из Крыма Сафа-Гирей [1068]1068
ПСРЛ, т. VIII, стр. 291; т. XIII, ч. 1, стр. 89, 100–101; М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 284.
[Закрыть]. Переворот означал серьезное изменение в русско-казанских отношениях: Яналей был сторонником мирных отношений с Россией, а Сафа-Гирей – злейшим врагом Москвы.
Уже в декабре 1535 – январе 1536 г., воспользовавшись обострением русско-литовских отношений, казанские отряды вторглись на Русь и опустошили окрестности Нижнего Новгорода, Мурома и Балахны [1069]1069
ПСРЛ, т. VIII, стр. 291; т. XIII, ч. 1, стр. 88–89, 106–107; С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 286.
[Закрыть]. Летом 1536 г. «казанские люди» нанесли удар по русским войскам под Костромой, на реке Куси [1070]1070
ПСРЛ, т. VIII, стр. 291–292; т. XIII, ч. 1, стр. 114.
[Закрыть]. В январе 1537 г. под Муромом появились отряды самого Сафа-Гирея. Однако приближение русских вооруженных сил заставило казанцев отказаться от задуманного ими удара на Кострому и Галич [1071]1071
ПСРЛ, т. XXVI, стр. 318; т. XIII, ч. 1, стр. 116; см. также А. С. Гацицкий, указ. соч., стр. 33.
[Закрыть]. Набеги казанского хана продолжались и в дальнейшем [1072]1072
В 1537 г. татары приходили на Тульскую украину и под Одоев (М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 284), в декабре 1540 г. под Муром (ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 135).
[Закрыть]. Эти набеги приводили к разорению русских земель и тягостно отражались на положении крестьян [1073]1073
Подробнее об этом см. С. О. Шмидт, Предпосылки и первые годы «Казанской войны» (1545–1549), стр. 229 и след.
[Закрыть]. Многие тысячи русских людей уводились казанскими феодалами в полон и продавались в рабство на казанском и других рынках.
Особенно опасным был поход крымского хана Сагиб-Гирея летом 1541 г. Поход Сагиб-Гирея был инспирирован турецким султаном, пославшим свои отряды и артиллерию в войско крымского хана («турского царя люди и с пушками и с пищалями»), К крымскому хану присоединился и изменник князь Семен Бельский. 30 июля Сагиб-Гирей после безуспешной осады г. Зарайска подошел к берегу р. Оки. Навстречу ему выступило войско князя Д. Ф. Бельского, принудившее крымских татар к поспешному отступлению [1074]1074
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 139; т. VIII, стр. 296–301. В Воскресенской летописи крымский хан ошибочно именуется Сафа-Гиреем («Псковские летописи», вып. I, стр. 111).
[Закрыть].
Даже в тяжелые годы боярского правления Русское государство оказывалось достаточно сильным, чтобы наносить сокрушительные удары как по литовским феодалам, так и по крымско-казанским ордам. Однако хозяйничание в стране боярских временщиков затрудняло борьбу Русского государства с натиском с востока и запада. Политика правительства Бельских, стремившихся в какой-то мере продолжать политическую линию на укрепление Русского государства, вызвала недовольство реакционно-княжеской оппозиции. Был составлен заговор, возглавлявшийся князьями Шуйскими. В него вошли видные представители московского боярства [1075]1075
Среди заговорщиков были И. В. и П. И. Шуйские, Михаил и Иван Кубенские, Д. Пронский, И. Третьяков, И. Шереметев и др. (ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 141; ч. 2, стр. 439).
[Закрыть]и «новгородцы Великого Новагорода все городом» [1076]1076
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 146; ч. 2, стр. 439.
[Закрыть]. Заговорщики вошли в переговоры с князем И. В. Шуйским, находившимся еще с лета 1541 г. на городовой службе во Владимире [1077]1077
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 101; ч. 2, стр. 433.
[Закрыть]. Шуйский «многих детей боярьскых к целованию привел, что быти в их совете» [1078]1078
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 140; ч. 2, стр. 439.
[Закрыть]. Тогда в ночь на 3 января 1542 г. бояре «поимали князя Ивана Вельского» и на следующее утро сослали «на Белоозеро в заточение» [1079]1079
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 141; ч. 2, стр. 440.
[Закрыть]. В мае 1542 г. Бельский при невыясненных вполне обстоятельствах умер [1080]1080
Летописец начала царства сообщает, что его убили «боярьскым самовольством» П. Зайцев, Митька Клобуков и Ивашка Сергеев (там же, ч. 1, стр. 141; см. ч. 2, стр. 440). Сходная версия и в других источниках (см. «Послания Ивана Грозного», стр. 34; РИБ, т. XXXI, стр. 167; С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 289). Постниковский Летописец сообщает, что в мае 1542 г. «на Белеозере в поиманье не стало князя Ивана Бельского, уморен бысть гладом, И ден не ел, да на нем же чепей и желез, тягости, было пудов з десять. А иные люди говорили, что повелением князя Ивана Шуйского да князя Ондрея Шуйского князь Иван убьен бысть Гришею Ожеговым да Митькою Клобуковым да Петроком Зайцовым» (М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 285).
[Закрыть]. Его «советники» были также сосланы: П. М. Щенятев – в Ярославль, И. Хабаров – в Тверь [1081]1081
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 141; ч. 2, стр. 439.
[Закрыть]. «И бысть мятеж велик в то время на Москве» [1082]1082
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 141.
[Закрыть]. Во время этих событий едва не был убит митрополит Иоасаф. Его спешно сослали в Кириллов монастырь. В марте того же года митрополитом был поставлен Макарий [1083]1083
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 142; ч. 2, стр. 440; «Псковские летописи», вып. I, стр. 111. На место Макария в июне 1542 г. в Новгород архиепископом поставлен осифлянин Феодосий, в прошлом «человек» Семена Воронцова (там же). Его поставление, возможно, является следствием победы Шуйских и близких к ним Воронцовых.
[Закрыть], который, несмотря на близость к осифлянам, сумел в бытность свою новгородским архиепископом заручиться покровительством Шуйских.
Таков ход событий дворцового переворота 1542 г. Автор одной из летописей, близкий к великокняжескому двору, писал, что князь И. Ф. Бельский «пойман» был «советом боярьским того ради, что его государь князь великий у себя в приближении дръжал и в первосъветникех да митрополита Иосафа» [1084]1084
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 140.
[Закрыть].
Переворот 1542 г. произошел сравнительно легко. Такая «легкость» переворотов была характерной чертой феодального общества. В. И. Ленин указывал, что «там перевороты были до смешного легки, пока речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать другой» [1085]1085
В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 397.
[Закрыть].
Некоторые историки представляют переворот 1542 г. как победу дворянства над боярской аристократией.
И. И. Смирнов полагает, что в событиях 1542 г. «отряды служилых людей – дворян, пришедших из Владимира в Москву и поддержанных москвичами-горожанами, сыграли решающую роль» [1086]1086
И. И. Смирнов, Иван Грозный, стр. 24; в последней работе И. И. Смирнов также писал, касаясь переворота 1542 г., что «основной движущей силой его являлось и дворянство», и ниже: «по своим движущим силам движение 1542 г. было антибоярское» (И. И. Смирнов, Очерки, стр. 93–95).
[Закрыть]. Макария, на его взгляд, на митрополичий престол выдвинули служилые люди. Занятие им этого престола «означало определенную политическую программу, существо которой заключалось в ликвидации боярской реакции и восстановлении основ самодержавного строя» [1087]1087
И. И. Смирнов, Очерки, стр. 97.
[Закрыть]. События 1542 г., по мнению Смирнова, открывают «период ликвидации господства княжеско-боярской реакции (1542–1547 гг.)» [1088]1088
И. И. Смирнов, Очерки, стр. 19..
[Закрыть]. Сходную оценку дает и Н. И. Шатагин, считающий переворот 1542 г. «началом конца временного торжества княжеско-боярской знати» [1089]1089
Н. И. Шатагин, указ. соч., cтp. 77. Шатагин указал на «виднейшую роль в организации сил переворота», которую якобы играл митрополит Макарий, и на антибоярскую программу дворянства и новгородцев, участников переворота.
[Закрыть]. Такая оценка существа переворота 1542 г., совершенного Шуйским, не может быть принята [1090]1090
Совершенно неясную оценку событий дает Н. Е. Носов, который пишет, что «события 1542 г., хотя, казалось бы, и возвратили власть Шуйским, в то же время способствовали поражению реакционного боярства в целом» (А. И. Копанев, А. Г. Маньков, Н. Е. Носов, указ. соч., стр. 66). Читателю остается неясным, во-первых, возвратили ли события 1542 г. власть Шуйским (что значат слова «казалось бы»), во-вторых, какова была классовая и политическая направленность политической деятельности Шуйских: были ли они выразителями интересов «реакционного боярства» или содействовали его поражению.
[Закрыть].
Приход к власти Шуйских означал не начало ликвидации боярской реакции, а как раз наоборот – наступление ее кульминационного пункта. Именно так оценивал события Иван Грозный, когда писал, что Шуйские и их советники «боляр наших и угодных нам супротивно нашему повелеиию переимали и побили» [1091]1091
«Послания Ивана Грозного», стр. 35.
[Закрыть]. Земельная и иммунитетная политика правительства, как показывают наблюдения С. М. Каштанова, именно с 1542 г. резко изменяется: вместо линии на сокращение привилегий крупных духовных феодалов торжествует политика раздачи самых щедрых льгот, что противоречило политической линии, направленной на централизацию Русского государства, проводившейся ранее [1092]1092
«Памятники русского права», вып. IV, стр. 146, 198 и след.
[Закрыть]. Приостанавливается даже строительство городов, производившееся в 30-х годах XVI в. С 1543 по 1549 г. прекращается выдача губных и даже наместничьих грамот, ограничивавших права и привилегии наместников и волостелей [1093]1093
Единственная известная за это время уставная наместничья грамота 20 апреля 1544 г. дана крестьянам дворцового села и то вместо сгоревшей у них грамоты князя Юрия Ивановича (ААЭ, т. I, № 201). Грамотой 18 октября 1543 г. ограничивались права губных старост новгородских волостей (Акты Юшкова, № 142).
[Закрыть]. Тяжело отразилось хозяйничанье бояр и на положении народных масс. Согласно выводу А. Г. Манькова, именно к началу 40-х годов XVI в. относится резкий подъем хлебных цен, во всяком случае в Новгороде и Пскове [1094]1094
А. Г. Маньков, Цены и их движение в Русском государстве XVI в., стр. 39, 40, 114, 118.
[Закрыть].
Таким образом, политическая платформа Шуйских отвечала интересам княжеско-боярской аристократии. Нельзя говорить и о том, что основной движущей силой переворота 1542 г. было дворянство, которое лишь использовалось для реализации планов заговорщиков. Заговор вынашивался в княжеско-боярской среде, которая и являлась его основной движущей силой.
Легенду о Макарии как о «последовательном защитнике самодержавия» [1095]1095
Н. И. Шатагин даже пишет, что «именно Макарий начиная с 1542 года становится центральной фигурой, организующей все значительные общественные силы возле личности великого князя против бунтующих вассалов» (Я. И. Шатагин, указ. соч., стр. 80).
[Закрыть], о том, что он возглавлял pi вдохновлял борьбу за ликвидацию боярского правительства [1096]1096
И. И. Смирнов, Очерки, стр. 113.
[Закрыть], также следует отбросить. Являясь идеологом воинствующей церкви и защитником крупного монастырского землевладения, Макарий отстаивал прежде всего интересы господствующей церкви [1097]1097
См. А. А. Зимин, И. С. Пересветов и его современники, стр. 71–91.
[Закрыть]. Великокняжескую власть он считал только союзником церкви в борьбе с ее противниками.
В конкретной обстановке 1542 г. Макарий являлся прямым ставленником Шуйских [1098]1098
С. В. Бахрушин, Научные труды, т. II, стр. 266. См. послание А. М. Шуйского Макарию с просьбою ходатайствовать за него перед Еленой Глинской (ДАИ, т. I, № 27). А. М. Шуйский, как известно, был близок к князю Юрию Дмитровскому, находившемуся в переписке с Иосифом Волоцким. В 1539/40 г. Макарий уже вел какие-то переговоры с А. М. Шуйским, бывшим в то время псковским наместником; см. неопубликованную запись «речей» Шуйского, обращенную к Макарию (Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, QXVII, № 50, л. 13). Еще в сентябре 1539 г. Шуйские выдали щедрую тарханную грамоту Иосифо-Волоколамскому монастырю (АФЗиХ, ч. 2, № 149), что могло означать первые попытки установления контакта с осифлянами (С. М. Каштанов, Феодальный иммунитет в годы боярского правления 1538–1548 гг., стр. 246).
[Закрыть], а не дворянства, как то стремится изобразить И. И. Смирнов. Конечно, кандидатура Макария была выбрана Шуйским неудачно, если иметь в виду далеко идущие планы реакционного боярства. Близость к Шуйским не исключала для осифлянина Макария ненависти к реакционному боярству в той же мере, как выступление Шуйских против митрополита Иоасафа не означало их отказа от поддержки «нестяжателей» [1099]1099
Шуйские состояли в переписке с Максимом Греком, одним из виднейших идеологов нестяжательства. См. его послание П. И. Шуйскому (Максим Грек, Сочинения, ч. 2, стр. 415 и след.).
[Закрыть], верных союзников княжеско-боярской аристократии. Шуйские выступали против Иоасафа, как лица, пользовавшегося покровительством Ивана Грозного [1100]1100
В период Стоглава решения церковного собора были посланы для просмотра именно Иоасафу.
[Закрыть].
Приход к власти Шуйских сопровождался раздачей думных званий их сторонникам: в июне 1542 г. боярином уже был князь А. Д. Ростовский [1101]1101
ДРК, стр. 115.
[Закрыть]и, очевидно, тогда же Ф. И. Шуйский [1102]1102
Летопись упоминает его как боярина в сентябре 1543 г, (ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 443). Возможно, он получил боярское звание раньше.
[Закрыть]. Возглавлял эту группировку княжат по смерти И. В. Шуйского (май 1542 г.) [1103]1103
М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 285.
[Закрыть]князь Андрей Шуйский. Снова, как и в начале 1540 г., была ликвидирована комиссия бояр, «которым разбойные дела приказаны», а губные дела (к началу 1542 г.) [1104]1104
«Труды Вятской ученой архивной комиссии», 1905, вып. III, отд. 3, стр. 84. В Вятской губной грамоте С. Шумаков вместо даты «7040 десятого» – ср. аналогичные датировки «девять-десять десятого» для 1491/92 г. (АСЭИ, т. I, № 566, 567) – предлагает читать «7040 девятого» (С. А. Шумаков, Новые губные и земские грамоты – ЖМНПр., 1909, № 10, стр. 340). Это исправление делает непонятным передачу губных функций ог И. В. Шуйского Кубенскому в момент, когда положение Шуйских уже пошатнулось. В конце 1541 г. губными делами ведал близкий к Бельским И. Г. Морозов. После январского переворота 1542 г. совершенно естественно видеть И. И. Кубенского (близкого к Воронцовым и Шуйским) как лицо, возглавлявшее надзор над губными делами.
[Закрыть]переданы близкому к Шуйским дворецкому – И. И. Кубенскому [1105]1105
Н. Е. Носов считает, что Кубенский выдавал губные грамоты одновременно с боярской комиссией, но лишь для райо нов, непосредственно подведомственных Большому дворцу (Н. Е. Носов, Очерки, стр. 305). Однако в период деятельности Этой комиссии мы ничего не знаем о губных распоряжениях дворецкого, а когда разбойными делами ведал последний, источники молчат о «боярах, которым разбойные дела приказаны». Поручение В. Г. Морозову в апреле 1542 г. расследовать дело об ограблении польских послов (Сб. РИО, т. LIX, стр. 169) может говорить просто об обращении к нему как к лицу, сведующему в «разбойных делах», а не обязательно как к главе боярской комиссии. Ведь еще 20 февраля грамоту, касающуюся «разбойных дел», выдал казначей И. И. Третьяков (ААЭ, т. I, № 196/II). Очевидно, в это время боярской комиссии не существовало и губными делами ведал аппарат дворецкого. Этого мало. Нельзя провести и территориального разграничения между районами, подведомственными комиссии и дворецкому: на те территории, которыми распоряжался дворецкий, выдавали грамоты и московский наместник (Вятка) и боярская комиссия (Каргополь и Белоозеро).
[Закрыть].
Уже вскоре после переворота 1542 г. боярская коалиция Шуйских дала трещину. На молодого Ивана IV все большее влияние начинал оказывать Ф. С. Воронцов, бывший углицким дворецким в 1538–1542 гг. [1106]1106
ГИМ, собр. Щукина, № 242/467, л. 111 об.; Сб. РИО, т. LIX, стр. 152, 203.
[Закрыть], представитель старомосковского служилого боярства [1107]1107
«Государь (Федора Воронцова. – А. 3.) пожаловал после Шуйского князя Ондрея и опять ево в приближение у себя учинил» (ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 449). Воронцов пользовался, следовательно, влиянием еще до падения Андрея Шуйского в декабре 1543 г.
[Закрыть]. В марте 1542 г. он совместно с боярином В. Г. Морозовым вел переговоры о перемирии с литовскими послами, а позднее (в июне – октябре) вместе с тем же боярином отправился для их завершения в Вильно [1108]1108
Сб. РИО, т. LIX, стр. 152, 171, 203.
[Закрыть]. В июле 1543 г. боярином уже был его старший брат – И. С. Воронцов [1109]1109
ДРК, стр. 116.
[Закрыть]. Воронцовы возвысились еще при Василии III, когда крупными деятелями были окольничий И. В. Шадра, боярин С, И. Воронцов и, наконец, его сын М. С. Воронцов. Последний в первые месяцы правления Ивана IV был «единомысленником» Михаила Глинского [1110]1110
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 420.
[Закрыть]. В 1537 г. он уже сошел с исторической сцены. Вскоре после смерти Елены Глинской умер и М. С. Воронцов. Воронцовы не принадлежали к числу активных сторонников группировки Шуйских. Во всяком случае летописцы до 1543 г. ни разу не называют их как участников борьбы Шуйских с Бельскими.
В сентябре 1543 г. И. М. и А. М. Шуйские и их сторонники (Кубенские, Д. Курлятев, И. В. и И. И. Пронские, А. Басманов, Д. Палецкий) решили «убити» Ф. Воронцова, который вызывал особое недовольство бояр тем, что «его великий государь жалует и бережет» [1111]1111
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 145, 443–444. Д. Н. Альшиц сомневается в близости к Шуйским и в участии в событиях 1543 г. Д. Курлятева, И. Пронского и А. Басманова, поскольку упоминание об этом содержится только в приписке к Царственной книге (Д. Н. Альшиц, Источники и характер редакционной работы Ивана Грозного над историей своего царствования, стр. 141). Родственные связи Пронского с Шуйским несомненны. Не было оснований и для измышления сведений о других участниках событий 1543 г.
[Закрыть]. Однако Макарий в это время выступил уже против Шуйских на защиту Воронцова, за что подвергся оскорблениям со стороны бояр [1112]1112
Причиной этого выступления Макария была, очевидно, близость Воронцовых к митрополиту (см. выше об отношениях Воронцовых к новгородскому архиепископу Феодосию).
[Закрыть]. Один из наиболее рьяных сподвижников княжат Ф. П. Головин в пылу спора даже «манатью на митрополите подрал» [1113]1113
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 443–444; «Послания Ивана Грозного», стр. 34.
[Закрыть]. Заступничество Макария и влиятельных бояр И. Г. и В. Г. Морозовых спасло на этот раз Воронцова, который отделался только ссылкой «па службу» в Кострому.
Опала Воронцова продолжалась недолго. Уже вскоре подрастающий великий князь и стоявшие за его спиной вельможи решили расправиться с Шуйскими. 29 декабря
1543 г. Иван IV «велел поимати первосоветника» Андрея Шуйского, который был убит великокняжескими псарями. Ближайшие сторонники князя – Ф. И. Шуйский, Ю. Темкин-Ростовский, Ф. П. Головин были отправлены в ссылку. «И от тех мест, – прибавляет продолжатель «Летописца начала царства», – начали боляре от государя страх имети» [1114]1114
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 145; ч. 2, стр. 444; ср. РИБ, т. XXXI, стб. 167. В Продолжении Хронографа 1512 г. говорится, что Шуйский был убит «повелением боярьским» (С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 289). Перед нами, следовательно, очередной дворцовый переворот, совершенный боярами. Вероятно, тогда же попал в опалу и И. И. Турунтай-Пронский. См. грамоту 1 января 1546 г. городовому приказчику в Звенигороде Васюку Чижову, который отписывал на царя вотчину Пронского – село Кулибакино (ЦГАДА, Копийные книги Савво-Сторожевского монастыря, л. 38).
[Закрыть].
До конца боярского правления было еще далеко. Дело ограничилось лишь тем, что у власти утвердилась группа старомосковского боярства во главе с Воронцовыми и некоторые другие сторонники разбитой оппозиции Шуйских (Кубенские). Все они получили новые чины и звания. В январе 1544 г. уже боярами были царский любимец Ф. С. Воронцов [1115]1115
ДРК, стр. 120.
[Закрыть]и князь А. Б. Горбатый [1116]1116
ДРК, стр. 119.
[Закрыть]; в июне 1544 г. – князь М. М. Курбский [1117]1117
ДРК, стр. 120.
[Закрыть]и около этого времени, очевидно, – В. М. Воронцов. Воронцовы заняли важные посты и в дворцовом аппарате. И. С. Воронцов стал тверским дворецким (к 1545 г.) [1118]1118
С. А. Шумаков, Тверские акты, вып. I, стр. 57.
[Закрыть], а В. М. Воронцов – дмитровским дворецким (в 1545/46 г.) [1119]1119
ГИМ, собр. Щукина, № 242/467, л. 111 об.; ДРК, стр. 122; М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 286.
[Закрыть]. Новое правительство пыталось в 1544–1545 гг. провести некоторые меры по борьбе с иммунитетными привилегиями монастырей, пыталось провести описание земель, выдавало льготы светским феодалам, а также слободчикам [1120]1120
Подробнее см. С. М. Каштанов, Феодальный иммунитет в годы боярского правления 1538–1548 гг., стр. 254–257.
[Закрыть].
Однако владычество Воронцовых и Кубенских, как и их предшественников, было недолговечно. Еще в декабре 1544 г. в опалу попал И. Кубенский «за то, что они великому государю не доброхотьствовали и его государьству многие неправды чинили и великое мьздоимство учинили и многие мятежы и бояр многих без великаго государя велениа побили» [1121]1121
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 146; ч. 2, стр. 445.
[Закрыть]. Последнее обвинение связывает опалу Кубенского с их приверженностью к Шуйским, вместе с которыми они «бояр многих… побили» (имеются в виду, очевидно, Бельские). В мае 1544 г. Иван IV «из нятства выпустил» Кубенского [1122]1122
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 146; ч. 2, стр. 445.
[Закрыть]. Но уже в октябре 1545 г. Кубенский снова попал в немилость. На этот раз в опалу попали также П. Шуйский, А. Горбатой, Ф. Воронцов и Д. Палецкий. Опала была кратковременной: в декабре по просьбе митрополита Макария Иван IV «пожаловал» опальных [1123]1123
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 147, ч. 2, стр. 446–447. Вероятно, в связи с опалой в 1546/47 г. П. И. Шуйский продал Троице-Сергиеву монастырю половину села Мячкова за 300 рублей (ГКЭ, № 8868).
[Закрыть]. Развязка наступила летом 1546 г. В связи с волнениями пищальников в Коломне [1124]1124
См. о нем ниже, главу VI.
[Закрыть], а также неудачами восточной политики Иван IV приказал казнить И. И. Кубенского, Ф. С. Воронцова и В. М. Воронцова [1125]1125
ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 149; ч. 2, стр. 448–449; ДРК, стр. 122; РИБ, т. ХХХТ, стр. 167; С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 290. В Постниковском Летописце говорится о том, что все трое бояр были казнены «за некоторое их к государю неисправление» (М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 286). Многие существенные стороны дела Федорова и Воронцовых остаются неясными. В Летописце начала царства говорилось, что они попали в опалу из-за «навета» дьяка Василия Захарова-Гнильева. Но при редактировании его текста около 1558–1560 гг. было введено указание на «многие мзды» опальных, которые послужили основанием для репрессий (ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 149; Архив ЛОИИ, Рукописные книги № 244, л. 172 об.). Уже позднее при редактировании Царственной книги в 1564–1568 гг. дело Воронцовых было связано с выступлением пищальников, с тем чтобы еще аргументированнее объяснить опалу этих фаворитов (Д. Н. Альшиц, Источники и характер редакционной работы Ивана Грозного над историей своего царствования – «Труды Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина», т. I(IV), Л., 1957, стр. 132–133). Нужно иметь в виду, что дети Ф. С. Воронцова – И. Ф. и В. Ф. Воронцовы в 60-х годах XVI в. входили в опричнину и были близки к Грозному.
[Закрыть]. И. П. Федоров был сослан на Белоозеро [1126]1126
Федоров избежал казни потому, что «против государя встреч не говорил, а по всем ся виноват чинил» (М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 286).
[Закрыть]Пыткам («и не одиножды») подвергли брата казненного В. М. Воронцова – Ивана [1127]1127
М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 286.
[Закрыть]. Расправа с Воронцовыми сопровождалась конфискацией во всяком случае части их земельных владений [1128]1128
Так, согласно грамоте 1550 г., села Новое, Слободище и др. в Черемхе Федора Воронцова переданы князю И. Ф. Мстиславскому (ГИМ, Симонов монастырь, кн. 58, л. 400). Вероятно, опасаясь конфискации земель в 1543/44 г., И. С. Воронцов продал Троицкому монастырю половину села Бужаниново за 700 рублей (ГКЭ, № 8853).
[Закрыть].
После казни Воронцовых к власти пришла группировка придворной знати во главе с бабкой Ивана IV Анной Глинской и ее детьми М. В. и Ю. В. Глинскими. В январе 1547 г. М. В. Глинский был уже боярин [1129]1129
РИБ, т. XXXII, № 165.
[Закрыть]. Тогда же он получил звание конюшего [1130]1130
ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 451.
[Закрыть], а его браг Ю. В. Глинский – боярина и кравчего. Близки к ним в это время были и Д. Д. и И. И. Пронские, также получившие боярское звание к февралю 1547 г. [1131]1131
ДРК, стр. 2, 120; С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 287. Вместе с М. В. Глинским И. И. Прон-ский в конце 1547 г. пытался бежать за рубеж. Позднее И. И. Пронский был «душеприказчик» М. В. Глинского; см. Троицкие вкладные книги (далее – Троицк, вкл. кн.), л. 151. Здесь и ниже памятник использован по копии, хранящейся в Архиве Академии наук СССР, фонд С. Б. Веселовского.
[Закрыть]Глинские были крупными землевладельцами, использовавшими годы боярского правления для беззастенчивого стяжания в целях укрепления своих экономических позиций [1132]1132
В 1545/46 г. М. В. Глинский купил у Т. А. Головина село Нажирово в Ростовском уезде за 250 рублей (Троице-Сергиев м., кн. 533, Ростов, № 31). В 1548 г. Анна Глинская с М. В. Глинским дали в монастырь вклад – село Булгакове в Суздальском уезде, которое купил И. В. Глинский у Андрея Булгакова (Грамота хранится в Государственном архиве Владимирской области). Приобретения Глинских начались сразу же по смерти Василия III. В 1533/34 г. М. В. Глинский купил половину села Назарнова у Ф. Ф. Головина за 120 рублей (Троице-Сергиев м, кн. 532, Ростов, № 34). Еще в 1536/37 г. М. В. Глинский купил большое село Оленино в Ростовском уезде у детей Ф. И. Головина за 400 рублей (Троице-Сергиев м., кн. 533, Ростов, № 14), а у Тимофея Головина сельцо Ильинское за 600 рублей (там же, № 4). В 1543/44 г. он же купил у Т. А. Головина половину деревни Измайловской за 50 рублей (там же, № 32). Позднее, в 1554 г., М. Глинский купил сельцо Лысцово за 500 рублей, некогда принадлежавшее Ф. И. Головину (там же, № 35, ср. № 36).
[Закрыть].
О богатстве Глинских свидетельствует тот факт, что с 1534 до февраля 1547 г. они дали вклады в Троицкий монастырь на сумму свыше 500 рублей [1133]1133
Троицк, вкл. кн., л. 150–151. В 1533 г. ими было дано в Троице-Сергиев монастырь село Звягино Московского уезда, купленное Глинскими за 5U0 рублей. Позднее, в 1559 г., «на помин души» И. В. Глинского было дано 500 рублей, а «по душе» Анны Глинской в 1553 г. – 100 рублей (там же).
[Закрыть]. Они жестоко расправлялись со всеми своими политическими противниками, постепенно возбуждая против себя недовольство среди бояр. Стремясь нейтрализовать влияние Шуйских, Глинские в январе – марте 1547 г. выдали целый ряд жалованных грамот вотчинникам Суздальского уезда с целью заручиться поддержкой крупных землевладельцев этого района [1134]1134
ЦГАДА, ф. Спасо-Ефимьева монастыря, кн. 1, л. 417–419 об.; АИ, т. I, № 148; С. М. Каштанов, Феодальный иммунитет в годы боярского правления 1538–1548 гг., стр. 263.
[Закрыть]. Курбский писал, что когда Иван IV «прииде к седьмому на десять лету, тогда же те прегордые сигклитове начаше подущати его и мстити им свои недружбы, един против другаго» [1135]1135
РИБ, т. XXXI, стб. 166.
[Закрыть]
Этим объясняется казнь Ф. И. Овчинина Оболенского (сына временщика И. Овчины, при котором умер в заточении князь М. Глинский) и его родственника И. И. Дорогобужского (январь 1547 г.) [1136]1136
М. Н. Тихомиров, Записки о регентстве Елены Глинской, стр. 287; С. О. Шмидт, Продолжение Хронографа редакции 1512 г., стр. 291; РИБ, т. XXXI, стб. 167, 297. Дорогобужский был «стрыечный» (т. е. двоюродный) брат Ф. Овчинину. Часть тверских владений князя И. Дорогобужского и жены Иосифа Дорогобужского позднее была передана князю И. Ф. Мстиславскому (ср. грамоту 1550 г., ГИМ, Симонов монастырь, кн. 58, л. 400).
[Закрыть].
Итоги периода боярского правления рисуются сходными чертами в показаниях современников, принадлежащих к разным социальным кругам. Расхищение земель княжатами и боярами, которые «грады и села… себе притяжаша» [1137]1137
«Послания Ивана Грозного», стр. 34.
[Закрыть]. Непомерный рост феодальной эксплуатации: бояре «подовласных же всех, аки рабы, себе сотвориша» [1138]1138
«Послания Ивана Грозного», стр. 34.
[Закрыть]. Засилье боярской аристократии в центральном и местном аппарате власти, который был расшатан междоусобными распрями отдельных группировок придворной знати, боровшихся за чины и звания [1139]1139
«Макарьевский стоглавник», стр. 12.
[Закрыть]. Бесчисленные местничества, приводившие к ослаблению русской армии [1140]1140
Так, зимою 1544 г. крымским татарам удалось «попле-нить» многих русских людей, потому что воеводы Ивана IV «распрешася о местах» (ПСРЛ, т. XIII, ч. 2, стр. 445).
[Закрыть]. Мздоимство и неправый суд как в центре, так и на местах.
Еще в конце 1538 г. Петр Фрязин, покинув Русь, писал, что после смерти Елены Глинской, «бояре живут по своей воле, а от них великое насилие, а управы в земле никому нет, а промеж бояр великая рознь… В земле русской великий мятеж и безгосударство» [1141]1141
АИ, т. I, № 95.
[Закрыть].
Губительные последствия боярских распрей был вынужден признать такой идеолог боярства, как Курбский» [1142]1142
РИБ, т. XXXI, стб. 165, 166.
[Закрыть]
Особенно яркую характеристику самовластия бояр и княжат дает автор «Повести о великом пожаре», явившейся одним из источников Степенной книги. Принадлежа к окружению митрополита Макария, этот автор беспощадно разоблачает своекорыстную политику боярских временщиков. После смерти Елены Глинской, пишет он, «бояре и велможи вси видяще самодержьца наследника царствию юны суща и яко благополучно и самовластно себе время видяще, и изволиша собрати собе множество имения. И вместо, ежи любити правду и любовь, в ненависть уклонишася, и кождо из различных санов желающе, и ничтоже получаху, но обаче на мало время. И нача в них быти самолюбие, и неправда, и желание на восхищение чюжаго имения. И возви-гоша крамолу велию, желающе себе властолюбия. Друг друга лукавством не токмо в заточение посылаху, и в темницах затворяху, и юзами облогаху, но и самой смерти предаваху, навыкше господоубийственному совету, иже преже умориша и самех двух царьских отраслей князя Георгия и князя Ондрея Ивановичев. Тако же и сами на своих другов востающе и яростными смертьми окончавшася, и домы и села их наследоваша. И от похищения чюжаго имения домы их исполнишася, и сокровища их неправеднаго богатества умножишася. Не токмо же сие едино содеваху, но и великия главахМ приразишася, дву митрополитов святителскаго престола лишаша: Данила и Иасафа [1143]1143
«Иасафа» написано над строкой. В тексте «Иосифа ».
[Закрыть] , праведне учащих и обличающих их. Но понеже богу изволившу по сих же на престол их возшедшу пресвященному митрополиту дивному Мокарию, многа же нестроения тогда содевахуся даже и до самого возраста царьскаго, дондеже царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии царьским венцем венчася рукою преосвященного Макария митрополита всея Русии, и законному браку приобщися» [1144]1144
Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Рогожское собр., № 82, л. 291 об. – 292; А. А. Зимин, Повести XVI века в сборнике Рогожского собрания («Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина», М., 1958, вып. 20, стр. 198–199).
[Закрыть].