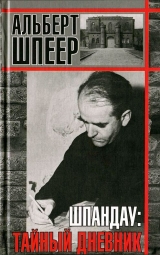
Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
Через шесть месяцев я снова отправился с Гитлером в Аугсбург. За это время заложили фундамент для новой сцены. Мы долго стояли и молча рассматривали котлован. Потом Гитлер расспрашивал о фундаменте, интересовался прочностью стен и подробностями строительства. Партийные функционеры и муниципальные чиновники осторожно отступали назад, чтобы его вопросы не сбивали их с толку. Если ответ его не удовлетворял, Гитлер демонстрировал свою осведомленность, пускаясь в длинные технические разъяснения. Я сам не мог понять, почему глава государства посвящает столько времени осмотру строительных площадок. Гитлеру, несомненно, нравилось показывать свои знания. Но, вероятно, еще большее удовольствие ему доставляло быть движущей силой всей этой активной деятельности.
Но на этот раз наша поездка имела далеко идущие цели. Когда мы снова сидели в «Дрей Мохрен» за кофе и штруделем под аккомпанемент легкой музыки, он поведал нам о своих планах. «Я изучил карту города, – начал он. – Если мы снесем полуразрушенные дома в старом городе, У нас появится место для большого бульвара. Пятьдесят метров в ширину и больше километра в длину. Потом мы подведем дорогу к железнодорожному вокзалу и разгрузим движение на древней Максимилианштрассе. Построим новую штаб-квартиру партии. Тогда здесь образуется центр нового сообщества Аугсбурга. И в довершение всего возведем башню. Какова высота самой высокой башни в Аугсбурге, Валь?» Гауляйтер в замешательстве посмотрел на мэра, потом обратился за помощью к городскому архитектору, который, поразмыслив немного, наконец назвал цифру. Гитлер добавил к ней еще двадцать метров, сказав, что в любом случае новая башня должна быть выше самой высокой колокольни города. Колокола на башне также будут больше и громче остальных. Крупные торговые города, такие как Гент или Брюгге, да и Аугсбург тоже, еще сотни лет назад шли этим путем, утверждал он. Именно поэтому они возводили такие здания, как шестиэтажная ратуша Эллиаса Холя в стиле барокко – самая красивая в Германии. И по этой же причине построили прилегающую к ней башню Перлахтурм высотой семьдесят метров. В Средние века церкви возвышались над домами и постройками бюргеров, и партийные здания должны превосходить современные конторские строения. «Вот почему я против высотных домов и небоскребов. Плутократические здания не должны доминировать над нашими городами. Именно мы создаем образ нового государства; наше государство принадлежит партии, а не банкам».
Быстрыми, уверенными штрихами Гитлер набросал свой замысел на карте Аугсбурга. Он несколько раз вносил исправления, пока наконец не придал законченную форму своей не совсем ясной идее: «Штаб-квартира гау будет здесь! Башня – здесь! Может, сюда поставим большую новую гостиницу, и Аугсбургу нужен новый оперный театр. В нынешнем будут идти только пьесы». Он хочет превратить Аугсбург в такой город, который больше не будет находиться в тени Мюнхена. Мюнхен многие годы смотрит на Аугсбург свысока; хотя в эпоху Возрождения два города занимали равное положение. Если он воплотит в жизнь свои планы в отношении Мюнхена, Аугсбург может оказаться под угрозой разрушения. «Вы только подумайте! Я собираюсь подарить Мюнхену самый большой оперный театр в мире, на пять тысяч мест!» Потом он привел в пример Париж, который довел до нищеты все провинциальные города; Линц постигла та же судьба из-за близости к Вене, заявил он.
21 февраля 1948 года. Вот что я написал за прошедшие несколько дней. Но, перечитывая свои записи, я уже не уверен, что Гитлер именно тогда в Аугсбурге высказал мысль о превосходстве партийных зданий над промышленными. Он мог говорить об этом и в Веймаре или Нюрнберге. Более того, позавчера я тщетно пытался вызвать в памяти его образ во время той, второй поездки в Аугсбург. В каком он был настроении? Ведь я очень хорошо помню все перепады его настроения во время первой поездки. И кто был с нами? Снова Брюкнер? Гитлер был в форме или цивильном костюме? Все это ускользнуло от меня, хотя другие вещи – отдельные фразы, сердитое покашливание, взгляд, смена интонации – навеки врезались в память. Поэтому, мне кажется, описание второй поездки в Аугсбург получилось слабым: не хватает деталей, живых мелочей, которые создают атмосферу. Все мои усилия напрасны; я не могу возродить их в памяти.
Конечно, отчасти это происходит потому, что за двенадцать лет тесного общения различные слои памяти накладываются друг на друга, особенно когда речь идет о таком человеке, как Гитлер, который был склонен снова и снова повторять аргументы, фразы, образы. Я понял, что у меня есть кусочки мозаики, из которых нужно сложить картинку. Если я действительно хочу написать книгу, моей задачей будет собрать разрозненные воспоминания и придать им ясную, понятную форму.
Что касается второй поездки в Аугсбург, я помню только, что в какой-то момент Гитлер сел на другого своего любимого конька: уже тогда он питал почти маниакальную страсть к строительству оперных театров. Он решил, что в каждом более-менее крупном городе должно быть не меньше двух театров. Все существующие здания были построены до Первой мировой войны, говорил он, хотя население крупных городов за этот период увеличилось втрое. «Мы повсеместно построим оперные театры. Опера служит народу; значит, театры должны быть просторными и иметь Места для народных масс, причем по низкой цене. Молодежь надо привести в оперу. Не с восемнадцати лет, а намного раньше. Тогда они до старости останутся верными поклонниками оперы. В Берлине я хочу построить как минимум пять новых оперных театров в разных районах города».
По своему обыкновению Гитлер произнес эту тираду менторским тоном, подкрепляя свои доводы обобщениями, основанными на его собственном опыте. Соответственно, любое конструктивное возражение выглядело бы критикой в адрес его опыта. Вот как он обосновывал свои напыщенные прожекты по строительству оперных театров: «Приходят ко мне люди с цифрами и говорят, что в Аугсбурге всего четыре тысячи любителей оперы. А я им на это отвечаю: «Не количество создает спрос, а изменившиеся обстоятельства». Четыре года назад, когда мы с доктором Тодтом прокладывали маршрут автострады от Мюнхена до Розенхайма, кто-то сказал мне, что там машины не ездят. Я ответил этому узколобому человеку: «Неужели вы думаете, что они не будут там ездить, когда мы закончим строительство?» Так же будет и с оперными театрами». Вдобавок, продолжал Гитлер, мы получим еще одно преимущество: у нас наконец появятся вагнеровские теноры; в тот момент ситуация, как всем нам было известно, сложилась катастрофическая. В Германии много талантливых певцов; они могли бы попробовать свои силы в небольших театрах, и тогда самый лучший голос выйдет победителем в этом конкурсе.
26 февраля 1948 года. Я не знаю, что Борман – который в то время уже был очень близок к Гитлеру, но все еще оставался заместителем Гесса, – имел против гауляйтера Валя и мэра Аугсбурга. В любом случае он воспользовался историей с театром для плетения интриг. Месяца через два после второго визита Гитлера в Аугсбург, когда мы стояли на террасе Бергхофа и болтали о том о сем, Борман с напускным безразличием доложил, что получил письмо от Валя. Тот сообщал, что по предварительным оценкам строительство театра обойдется в несколько сотен миллионов марок. Мэр просил через Валя дать ему письменное заявление, освобождающее его от финансовой ответственности. Борман продолжал с невинным видом: «Попросить герра Ламмерса оформить необходимые бумаги?» Это послужило сигналом – Гитлер переменился в лице. На мгновение он растерялся. А потом последовал взрыв: «Я всегда знал, что Валь идиот! А теперь он позволяет этому дураку мэру – как там его зовут? – этому Майру занять такую позицию по отношению ко мне. Неужели моих гарантий недостаточно? Этому бюрократу нужно письменное подтверждение? Когда я начинал в 1933-м, никто не давал мне письменных гарантий. – Гитлер говорил так громко, что его слышали все, кто стоял на террасе, хотя они делали вид, что увлеченно беседуют друг с другом. – Значит, он хочет получить письменный документ. Отлично, он его получит. Сию же секунду. Приказ о его увольнении! Жителям Аугсбурга предлагают сделать их город особенным, непохожим на другие – ведь после Веймара они станут единственным городом с форумом гау. Я говорю о возрождении Аугсбурга, а эти ослы думают о расходах. Во время последней поездки в Аугсбург я обратил внимание, какой бессмысленный взгляд был у Валя и этого, другого, когда я рассказывал им о своем проекте. Они его не достойны. Так им и передайте!»
Сегодня, размышляя обо всех этих планах строительства Аугсбургского форума, которые занимали его мысли на протяжении всего 1936 года, я думаю, что Гитлер столь явно отдавал предпочтение Аугсбургу не только из любви к средневековому облику и богатой истории бывшего города Фуггеров. Если он кого-то выделял, это часто означало, что он наказывает кого-то другого. Так же, как потом он затеял реконструкцию Линца, чтобы отомстить Вене за обиды своей молодости, так и с этими проектами для Аугсбурга им двигало желание унизить Мюнхен, который пытался превратить Аугсбург в пригород.
Хочу рассказать, чем закончились интриги Бормана. Валю удалось пробиться к Гитлеру в Берлине и, улучив подходящий момент, переубедить его. Мэру Майру разрешили остаться на посту, но, конечно, никаких письменных заявлений он не получил. Более того, они с Валем больше не участвовали в обсуждении предварительных планов. В лице Германа Гислера Гитлер нашел архитектора, который выполнял все его желания. Однако первый проект форума слишком напоминал веймарский проект, который тоже был работой Гислера. Когда Гитлер обнаружил этот недостаток, Гислер украсил башню орнаментом в стиле барокко, и Гитлер остался доволен. Они решили расписать стены цветными фресками, – эта идея пришлась по душе Гитлеру, потому что его форум возрождал старую традицию швабских архитекторов. Кстати, деньги на проект получили за счет моратория на жилищное строительство. Валь написал большую статью, в которой объяснял выбранный курс. По его словам, дома можно построить всегда, а величественные исторические памятники нужно возводить только при жизни величайшего немца всех времен.
12 марта 1948 года. Несколько дней ничего не писал. Я выдохся и потерял уверенность в себе. Поэтому я очень рад, что сегодня мы снова начали работать в саду. Зеленеет трава, привезли конский навоз и удобрение, щебечут воробьи. Утром, как только нас вывели в сад, я сразу же взялся за дело.
В другой стороне сада Нейрат и Дёниц разбили первые грядки, Редер высыпал удобрение, Ширах разровнял его граблями. Гесс, как всегда, участия не принимал и сидел на скамейке. Функ остался в постели из-за болезни. Я взял грабли и стал сгребать листья с цветочных клумб. Повсюду из земли полезли сорняки. Я относил листья к кострищу. Лонг, Хокер и Дакерман тем временем жгли сухую траву. Редер, используя вместо ведра лейку, таскал из погреба удобрение; Ширах вываливал его в тачку и вывозил на большое поле.
Через час Дёниц перестал работать. Он сел на скамью, прислонившись спиной к ореховому дереву, и завел разговор с Дакерманом. Я тоже быстро устал и просто бродил по саду. Во время прогулки я нанес визит Гессу на его скамейке. Он страдал от боли. «Сегодня нет желания поговорить?» Он безмолвно покачал головой.
16 марта 1948 года. Прошлой ночью видел реалистичный сон. Жаворонок поднимается в синее вечернее небо. Потом поворачивается и летит ко мне. С необычной доверчивостью он садится рядом со мной. Только когда я проснулся, до меня дошло, что он был размером с сову. Он говорил со мной, разумеется, о чем-то приятном. Но я забыл, что он сказал. Ощущение, что сообщение было важным.
Раньше мне часто снились тревожные сны: я падал с высоты нескольких сотен метров вдоль бесконечных фасадов зданий. Здесь, в Шпандау, я избавлен от подобного.
Большей частью я вижу приятные сны, хотя бы потому, что действие в них почти всегда происходит на свободе. Безусловно, сны – это противовес действительности. Они носят компенсирующий характер. Соответственно, здесь мне часто снятся простые прогулки в воображаемой сельской местности, красочные закаты.
Вообще воспоминания о природе вытесняют воспоминания об искусстве. В своих снах я никогда не возвращался в Палаццо Дукале в Урбино, который произвел на меня неизгладимое впечатление архитектурным решением в целом и утонченностью деталей. Этот дворец всегда казался мне воплощением мечты, идеалом, к которому я хотел стремиться. Но пейзажи моей юности, долина реки Неккар, альпийские ледники, темные озера в бассейне реки Хафель, почти осязаемо присутствуют в моих снах.
26 марта 1948 года. Несколько дней не мог заставить себя перечитать рассказ об Аугсбурге. В то же время я нервничаю, что так долго тайком ношу записи при себе. Плохое настроение, неуверенность в себе, усталость – я чувствую себя ужасно. И я постоянно теряю вес. Сегодня я дошел до нижнего предела – 66 килограмм. Это на двадцать килограммов меньше моего обычного веса. Стал задумываться, могу ли я и дальше отдавать свой хлеб вечно голодному Дёницу. Я вижу по общей раздражительности, как сильно голод действует на нервы.
29 марта 1948 года. Я живу сразу в нескольких плоскостях. У меня уже выработалась привычка отделять свою эмоциональную жизнь от всего, что меня окружает в Шпандау. Эта сфера ничего не значит. Для меня гораздо важнее мечты; в них я со своей семьей, возвращаюсь в свою молодость и брожу по местам, где много храмов, дворцов, фонтанов и скульптур. Полная противоположность моим снам.
Но самым главным для меня стал мир книг. Макиавелли в ссылке тайком от друзей в буквальном смысле приглашал книги в гости. У него был настоящий ритуал для вечерней встречи с ними – он надевал свое лучшее платье, зажигал свечи. Разумеется, я не могу этого сделать. Но когда в шесть часов вечера моя камера закрывается на засов, я испытываю Радость. Я знаю, что меня ждут четыре часа наедине с моими книгами.
2 апреля 1948 года. Наконец прочитал главу, посвященную Аугсбургу, от начала до конца. От долгого хранения в подошве ботинка или нижнем белье бумага истрепалась. Расшифровать написанное будет непросто. Чувство неуверенности усилилось. Мне кажется, я точно описал ход событий, но упустил главное. Первое и самое несущественное возражение: если я буду тратить столько бумаги на описание каждой истории с Гитлером, мне потребуются тысячи страниц. Более серьезная трудность заключается в том, что я наивно позволил себе застрять на совершенно разных эпизодах. Более того, во время тех поездок в Аугсбург Гитлер наверняка обсуждал политические вопросы; но ни один из них не сохранился в моей памяти. Если я хочу рассказать о том времени, мне не следует слишком углубляться в мир архитектуры и изображать Гитлера великим зодчим, который вдобавок был еще и политиком. Наверное, мне надо составить предварительный план, чтобы систематизировать материал. Прежде чем взяться за работу, я должен решить, какие моменты следует выделить и насколько подробным должно быть описание того или иного события. Это я сделать смогу; систематизация всегда была моей сильной стороной. Есть ли у меня литературные способности? В общем-то, мне все равно. Моя задача – научиться писать естественно и не перегружать повествование трудными для понимания подробностями. К примеру, я не уверен, что разговоры в фойе гостиницы понятны и интересны читателю.
Утешает меня только одно – в моем распоряжении почти два десятилетия для написания книги. Правда, это же утешение приводит меня в ужас. Но в любом случае я возьму небольшую паузу – пусть пройдет время. События еще слишком близки и слишком болезненны.
3 апреля 1948 года. Сегодня подал знак Влаеру. Много страниц. Но все прошло хорошо.
10 апреля 1948 года. Эти годы не бесполезны. Что вообще может быть бесполезным? Время не бывает потерянным. В процессе ежедневного чтения я постигаю, сколь скудными базовыми знаниями обладает человек, получивший техническое образование. Как мало он на самом деле знает и понимает.
До сих пор мое чтение ограничивалось, в основном, писателями конца девятнадцатого века: Золя, Стриндберг, Достоевский, Толстой. Теперь я перешел к итальянскому Возрождению. Читаю книги по искусству и истории культуры, а также воспоминания современников, хроники, стихи и философские трактаты. В городской библиотеке Шпандау сорок тысяч томов. И я, как студент, составил долгосрочный план: следующие год-два я посвящу эпохе Возрождения, потом возьмусь за античный мир, потом ранний христианский период; и, возможно, на сладкое оставляю эру барокко. Программа на десять лет. В завершение я бы, пожалуй, написал эссе по архитектуре Джотто, воплощенной в его фресках. В этих фресках, написанных за сто лет до Брунеллески, которого искусствоведы считают первым архитектором эпохи Возрождения, проступают основные черты архитектуры Возрождения. Меня всегда интересовала тема «архитектурных элементов в живописи». Ведь то, что никогда не было построено, тоже является частью истории архитектуры. И, мне кажется, нереализованные проекты позволяют лучше понять дух эпохи, ее архитектурные задачи, чем воплощенные в жизнь творения архитекторов. Последние часто не соответствовали замыслу из-за недостатка средств, упрямых или несгибаемых покровителей или из-за предрассудков. Гитлеровский период тоже изобилует нереализованной архитектурой. Она приобретет совершенной другой облик, если когда-нибудь я достану из стола все планы и фотографии макетов, сделанные в те годы. Я выписываю заметки для будущих эссе из книг, которые читаю – примерно страниц десять убористым почерком в неделю.
25 апреля 1948 года. В течение трех месяцев каждое воскресенье я по два часа работал над большим рисунком. Сегодня закончил. Две колонны рухнувшего храма в греческом стиле, перед ними сидит скорбящая женщина. Солнце только встало и уже освещает капители. Скоро его лучи дотянутся до развалин; женщина выпрямится после ночи, проведенной в молитвах. Это рисунок ко дню рождения моей матери.
27 апреля 1948 года. Под руководством нашего главного садовника Нейрата мы сажаем овощи. Мы уже собрали урожай цикория и редиски. Выложили две грядки навоза для парника, накрытого стеклянным колпаком. Теперь я строю теплицу. По очереди работаю каменщиком, плотником, стекольщиком и начальником производства. Благодаря работе на свежем воздухе я чувствую себя здоровым. Я загорел. Крепко сплю и утром просыпаюсь бодрым и свежим. Меня больше не мучает бессонница, как в Нюрнберге, где я вел малоподвижный образ жизни.
Впервые в жизни я большую часть дня занимаюсь физическим трудом. И уже через несколько дней я начинаю испытывать желание полностью отдаться делу и, возможно, даже перебарщиваю. Вечерами часто болит спина. Выбит из сил, но доволен.
29 апреля 1948 года. По-прежнему напряженно и почти до изнеможения работаю в саду. Я удивляюсь своей энергии. Хотя я всегда так работаю. По-другому было только в самом начале, в школе и в университете, и когда я был молодым архитектором. Но вскоре после того, как мной, так сказать, завладел Гитлер, меня охватила страсть к работе, которая стала мне необходима, как наркотик. Даже во время коротких отпусков я переезжал из города в город, осматривал все больше соборов, музеев, храмов или башен, стараясь достичь блаженного состояния вечерней усталости. Мое отношение к работе сродни зависимости.
Конечно, должность министра вооружений отбирала у меня все силы. Мне пришлось целиком посвятить себя работе, чтобы восполнить недостаток знаний. С утра до ночи, даже во время еды на скорую руку, я вел важные переговоры, диктовал письма, проводил совещания, принимал решения. На каждом совещании возникали проблемы; мне приходилось искать ответы, принимать решения чрезвычайной важности. Раз в две недели я посещал разбомбленные заводы, штабы на фронтах или строительные площадки, чтобы набраться новых впечатлений, соприкоснуться с практической деятельностью. Думаю, я выдержал напряжение только благодаря этим поездкам. Разумеется, они добавляли мне работы, но в то же время придавали силы. Мне нравилось работать на пределе возможностей. В этом заключалось мое основное отличие от Гитлера, который считал вызванное войной постоянное напряжение тяжким бременем; он все время мечтал вернуться к спокойному ритму прежних лет.
5 мая 1948 года. В Шпандау только птицы могут навешать нас без всякого пропуска. Черные как смоль грачи улетели на восток; их место заняла дюжина серых ворон. Они ведут ожесточенные бои за власть с пустельгами, свившими гнездо в углублении крыши. Пара вяхирей, живших здесь прошлым летом, вернулась из Марокко, где проводила зиму. Еще у нас обитают несколько синиц, две сороки, а недавно по саду прогуливались две куропатки. Должно быть, где-то по соседству в Шпандау держат голубей. Время от времени они усаживаются на шестиметровую стену из красного кирпича и наблюдают за нами. В довершение этой сельской идиллии издалека доносится лай сторожевых собак.
– Идите все сюда, – зовет нас Функ. – Я должен сказать что-то важное. В мире царит зло. Повсюду обман. Даже здесь!
Мы с интересом подошли к нему.
– Должно быть двести листов. Но кто их считал? А я вот посчитал! Не поленился. И оказалось, их всего сто девяносто три. – Он бросает слова в наши озадаченные лица. – Я говорю о туалетной бумаге, конечно.
Появляется русский директор, маленький энергичный человек, имени которого мы не знаем. Мы расходимся.
– Почему разговариваете? Вы же знаете, что это verboten.
Он удаляется, но вскоре вновь неожиданно возникает в саду. На этот раз он застукал за разговорами Функа и Шираха. Они получили предупреждение. Ширах пренебрежительно бросает:
– Диктатура пролетариата.
11 мая 1948 года. Хотя, живя вместе, нам приходится тесно общаться, мы до сих пор держим личную жизнь при себе. По установившемуся правилу, мы не обсуждаем семейные вопросы. Попытка сохранить некое подобие частной жизни.
Сегодня Ширах впервые нарушил это негласное правило. Мы сооружали парник, и он стал рассказывать о родительском доме в Веймаре и своем детстве. Его отец был директором местного театра; благодаря страсти к сцене Гитлер познакомился с его отцом. Всякий раз, приезжая в Веймар, Гитлер навещал Ширахов. Подростком Ширах иногда сопровождал гостя в театр. С лейкой в руке, Ширах вспоминал, как его поразили удивительно глубокие познания Гитлера в сценическом искусстве; ему было интересно все: диаметр вращающейся сцены, подъемные механизмы и особенно осветительная техника. Он знал все виды осветительных систем и мог со знанием дела рассуждать об освещении определенных сцен. Мне тоже доводилось это слышать. Я не раз присутствовал при обсуждении декораций для музыкальных постановок Вагнера с Бенно фон Арендтом, которого Гитлер назначил «главным декоратором рейха» и ответственным за оформление опер и оперетт. Гитлер с радостью поставил бы напыщенного Арендта на место Эмиля Преториуса, который на протяжении многих лет занимался оформлением сцены для Байрейтского фестиваля. Но на этот раз Винифред Вагнер не поддалась на уговоры; она сделала вид, что не понимает, к чему клонит Гитлер. В качестве компенсации Арендт получил другие должности, которые Гитлер оплачивал из своего кармана.
Однажды в рейхсканцелярии Гитлер приказал принести из своей спальни аккуратно выполненные, раскрашенные цветными карандашами чертежи оформления сцены для всех действий «Тристана и Изольды»; он велел передать их Арендту для вдохновения. В другой раз он вручил Арендту серию набросков для сцен из «Кольца Нибелунгов». За обедом он с гордостью рассказал нам, что каждую ночь в течение трех недель работал над этими набросками. Меня это очень удивило, потому что в тот момент у Гитлера был особенно напряженный график: посетители, речи, осмотр достопримечательностей и другие общественные дела. Когда Арендту поручили оформление оперы «Мейстерзингеры», которая должна была открывать партийный съезд, Гитлер снова проявил живой интерес к мельчайшим деталям, обдумывая, какое освещение лучше всего подойдет для сцен под луной в конце второго акта. Он впал в экстаз от великолепных цветов, которые выбрал для финальной сцены на лугу мейстерзингеров, и от очаровательных домиков с остроконечными крышами напротив мастерской башмачника Ганса Сакса. «Мы должны нести иллюзии в массы, – заявил он однажды в 1938-м, отдав делегатам СА приказ поставить штурмовиков на Арене Луитпольда. – Иллюзии нужны им не только в кино и театре. У них достаточно суровой реальности в жизни. Жизнь так мрачна и реальна, поэтому людям надо испытывать восторг от повседневной рутины».
Идеи Гитлера относительно постановки, безусловно, не были самыми современными, но они определенно соответствовали указаниям Рихарда Вагнера. Гитлер мог безжалостно отбросить неудобные традиции, но сохранял консерватизм в интерпретации опер Вагнера и даже едва уловимые нововведения считал опасными и подвергал тщательному анализу. Он стремился сохранить традицию и не допустить на руководящие должности слишком смелых новаторов, поэтому всегда вмешивался в назначения на все важные посты в театре. К примеру, в августе 1942-го он сказал мне, что одобрил кандидатуру Карла Эльмендорффа на должность директора Дрезденского оперного театра. Даже в таком незначительном вопросе, как заявление Фуртвенглера в апреле 1936 о том, что он не будет дирижировать в течение года (кроме Байрейта), Гитлер настоял на утверждении текста заявления.
Наш разговор с Ширахом, хотя из-за присутствия охранников мы вели его вполголоса, приобрел весьма оживленный характер. Стоя на коленях у парника, мы вспоминали разные случаи, подтверждавшие маниакальную страсть Гитлера к театру. Когда-то мы видели в ней доказательство его всестороннего гения, но сейчас эта мания казалась нам странной и незрелой. Ширах рассказал, как Гитлер орал о тщеславии дирижеров; по его мнению, Ханс Кнаппертсбуш был ничем не лучше руководителя военного оркестра, а Караяну он не доверял, потому что тот дирижировал без партитуры и поэтому не замечал ошибок певцов. Он совсем не считался ни с публикой, ни с певцами. Ширах полагал, что Гитлер наверняка бы вмешался, если бы Караян не был протеже Геринга, а Кнаппертсбуш не пользовался покровительством Евы Браун, которая, как девчонка, была неравнодушна к его привлекательной внешности. Среди неприятностей, которые принесла ему война, по мнению Гитлера, была необходимость отказаться от целого мира театрального искусства. Всякий раз, когда Геббельс приезжал в ставку фюрера, Гитлер первым делом спрашивал его о любимых певцах. То же самое происходило, когда Шауб, его адъютант, возвращался из Берлина. Он с удовольствием слушал сплетни, и бомбардировка оперного театра причиняла ему больше боли, чем уничтожение целого жилого квартала. Однажды он сказал Шираху, что очень сильно любит Байрейт и мечтает провести последние годы жизни в этом удивительном городке, насквозь пропитанном духом Рихарда Вагнера.
13 мая 1948 года. Сегодня – снова у парника – Ширах спросил меня, откуда Гитлер брал огромные суммы для своего частного фонда. Неужели доход от «Майн Кампф» покрывал многочисленные расходы, хотел он знать. Ведь Гитлер не только финансировал производство и новые театры, он также помогал молодым художникам, собирал обширную коллекцию картин и, наконец, оплачивал роскошный Бергхоф с чайным домиком и «Орлиным гнездом» на вершине горы. Мы вместе подсчитали его доходы и получили сумму, которая никак не могла покрыть подобные расходы. Тогда я вспомнил историю с маркой. Однажды его фотограф Гофман обратил внимание Гитлера на тот факт, что он мог бы потребовать выплату роялти за использование его портрета на каждой марке, и Гитлер без колебаний ухватился за это предложение. Третьим источником доходов был «Фонд пожертвований немецкой экономики Адольфу Гитлеру», организованный Борманом. Он предоставил дополнительные миллионы в его распоряжение. Раз в год Гитлер приглашал на прием в рейхсканцелярию особо щедрых предпринимателей. После роскошного банкета лучшие певцы берлинских оперных театров давали гала-концерт. В 1939 году в моем присутствии несколько ведущих промышленников подарили Гитлеру на пятидесятилетие сундук с оригиналами некоторых партитур Рихарда Вагнера. Среди них была переплетенная четырехтомная рукопись «Риенци» и партитуры «Золота Рейна» и «Валькирии». Особенный восторг у Гитлера вызвала оркестровая зарисовка для «Гибели богов»; он показывал собравшимся гостям то один лист, то другой, делая замечания со знанием дела.
В конце разговора Ширах прошелся по Герингу. Во всяком случае, сказал он, Гитлер тратил все свои деньги на искусство. Геринг, с другой стороны, точно так же шантажировал промышленность, но использовал огромные средства исключительно для удовлетворения своей жажды роскоши. В личном плане, по словам Шираха, Гитлер до самого конца сохранил склонность к аскетизму, а Геринг был заурядным расточителем.
Мы оба разделяли эту точку зрения.
15 мая 1948 года. Моя жена скоро приедет на первое свидание. За год, проведенный в Шпандау, накопилось четыре пятнадцатиминутных свиданий, и нам разрешили встретиться на час. Судя по посещению Флекснера, никакого уединения не будет. Мы просто снова увидим друг друга. Не успел я получить разрешение, как меня охватил страх, что ее могут арестовать во время поездки по Восточной зоне. Я попросил пастора Казалиса передать жене, чтобы она ни в коем случае не приезжала.
16 мая 1948 года. Прошлой ночью, лежа в постели, думал о разговоре с Ширахом. Как приятно осознавать, что, наконец, я могу обсудить с товарищем по заключению важные вопросы, а не насущные проблемы тюремного быта. Больше того, это первый за несколько месяцев разговор о Гитлере и о прошлом, не омраченный раздражением.
Тем не менее, мне кажется, что мы слишком много внимания уделили любви Гитлера к Вагнеру, а ведь он любил оперетту не меньше, чем серьезные оперы Вагнера. Он искренне считал Франца Легара одним из величайших композиторов в истории музыки. Гитлер ставил «Веселую вдову» в один ряд с лучшими операми. Точно также «Летучая мышь», «Продавец птиц» и «Цыганский барон», по его мнению, были лучшими образцами культурного наследия Германии. После одного представления «Веселой вдовы», на котором дирижировал сам Легар, – в то время ему шел восьмой десяток – композитора представили Гитлеру. Несколько дней Гитлер не мог унять радость от этой важной встречи. Балет он любил не меньше, чем оперетту, но его раздражало, что танцоры выставляют себя напоказ, выступая в обтягивающих трико. «Мне всегда приходится отводить глаза», – с отвращением говорил он. С другой стороны, он резко назвал современный экспрессивный танец, наподобие созданного Мари Вигман или Палуккой, позором для культуры. Геббельс однажды уговорил его пойти на такое представление, рассказывал он мне; больше он туда ни ногой. А сестры Хоппнер из берлинского театра оперы и балета, напротив, были совершенно другим делом, они воплощение красоты. Он часто приглашал их на чай в свои личные апартаменты. Сидя на диване с сестрами по бокам, он даже в моем присутствии держал их за руки, словно восторженный подросток. Некоторое время Гитлер сходил с ума от американской танцовщицы, которая выступала практически обнаженной в Мюнхене. Через посредничество Адольфа Вагнера, гауляйтера Мюнхена, он пригласил ее на чай; за исключением Юнити Митфорд, она была единственной иностранкой, допущенной в ближний круг Гитлера. Он ясно дал понять, что добивался бы ее благосклонности, если бы не проклятое официальное положение.








