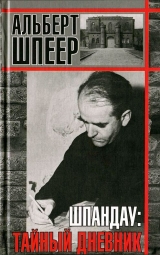
Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц)
За прошедшие несколько дней записал ряд высказывании Гитлера. Они всплывают в памяти без особых усилий с моей стороны; с начала процесса мои мысли стали заметно менее сдержанными. Просто удивительно, сколько я всего наверстал, и еще более удивительно, что столько замечаний Гитлера прошли мимо меня, не оставив следа. Недавно я припомнил, что в моем присутствии Гитлер старался сдерживать свою ненависть к евреям. Но он говорил гораздо больше, чем я могу вспомнить в подавленном состоянии. Неприятно думать, что, как бы мы ни хотели быть честными, наша память может нас обмануть, в зависимости от ситуации.
20 декабря 1946 года. И снова главная проблема. Все сводится к одному: Гитлер всегда ненавидел евреев; он никогда не делал из этого секрета. К 1939 году я уже мог бы предвидеть их судьбу; после 1942-го должен был знать наверняка. В последние месяцы перед Второй мировой войной, которая явно началась не в самый подходящий для него момент, тон его тирад стал более агрессивным. Мировое еврейство настаивает на войне, упорно твердил он; а потом он заявил, что это евреи спровоцировали войну и винить нужно только их. «Они позаботились, чтобы мое предложение мира осенью 1939-го было отвергнуто. Их лидер Вейцман открыто говорил об этом в то время». Гитлер предельно ясно дал понять свою точку зрения на заседании в Рейхстаге 30 января 1939 года, утверждая, что если начнется война, не немцы, а евреи будут уничтожены. А спустя годы, когда все было потеряно, он не раз напоминал своим слушателям об этом заявлении. И одновременно оплакивал невинных немецких женщин и детей, погибших во время воздушных бомбардировок. После особенно мощных налетов на Гамбург летом 1943-го, в ходе которых были убиты десятки тысяч гражданских лиц, он несколько раз повторил, что отомстит евреям за эти загубленные жизни. Если бы я слушал более внимательно, наблюдал более пристально, я бы, безусловно, понял, что, говоря эти слова, он оправдывал массовые убийства, совершенные по его приказам. Как будто беспорядочные бомбардировки отвечали его целям, давая запоздалое оправдание преступлению, давно задуманному и зародившемуся в самых темных уголках его личности. Кстати, многие ошибочно полагают, что у Гитлера в буквальном смысле шла пена изо рта, когда он говорил о своей ненависти к евреям. (Нас, заключенных, все время спрашивают, правда ли это.) Он мог небрежно бросить, между супом и овощным рагу: «Я хочу уничтожить евреев в Европе. Эта война – решающая схватка между национал-социализмом и мировым еврейством. Кто-то должен проиграть, и это точно будем не мы. К счастью я родился в Австрии, поэтому знаю евреев слишком хорошо. Если мы потерпим поражение, они нас уничтожат. С какой стати я должен жалеть их?»
В такой манере он обычно говорил на военных совещаниях и за столом. И все окружение, не только рядовые лица, но и генералы, дипломаты, министры и я сам – все мы сидели с мрачными и угрюмыми лицами. Но, насколько я припоминаю, мы испытывали нечто сродни стыдливости, как будто близкий нам человек сделал неловкое признание. Никто не выражал своего отношения к его словам; в лучшем случае кто-нибудь угодливо соглашался. Однако теперь мне кажется, что неловкое признание делал не Гитлер, а мы. Возможно, я считал, что он говорит не в буквальном смысле; определенно я именно так воспринимал его слова. Но как я мог предполагать, что его идеологический фанатизм вдруг испарится, когда дело дойдет до евреев? Так что в своих показаниях на процессе я не солгал: я действительно не знал об убийствах евреев. Но это только поверхностная правда. Вопрос и мой ответ на него были самыми трудными минутами за те долгие часы, что я провел на свидетельском месте. Я испытывал не страх, а стыд за то, что я, в сущности, знал, но никак не реагировал; стыд за мое равнодушное молчание за столом, стыд за мою моральную апатию, за сдерживаемые эмоции.
21 декабря 1946 года. А еще эта его омерзительная манера разговаривать! Как получилось, что я ни разу не почувствовал отвращения, ни разу не возмутился, когда Гитлер говорил об «уничтожении» или «истреблении» – а в последние годы он говорил об этом постоянно. Те, кто обвиняет меня в оппортунизме или трусости, безусловно, смотрят на ситуацию слишком упрощенно. Ужасно – и это беспокоит меня больше всего, – что я действительно не замечал этих выражений, они никогда не резали мне ухо. Только сейчас, задним числом, я испытываю ужас. Отчасти это объясняется тем, что мы жили в тесном, замкнутом мире иллюзий, оторванные от реальности (и, возможно, от своего «я», вернее, той его части, которая заслуживала уважения). Интересно, в штабе союзников, как и у нас, тоже говорили не о победе над врагом, а о его «истреблении» или «уничтожении»? Как, к примеру, выражался маршал авиации Харрис?
Конечно, все эти разговоры были связаны с идеологической лихорадкой, которой Гитлер заражал любые мероприятия, но особенно кампанию против большевизма. Он ощущал себя защитником Европы от, по его выражению, красных орд. Он в буквальном смысле считал, что это вопрос жизни и смерти. Он возвращался к этому снова и снова. В последние годы мы то и дело слышали: «Мы должны выиграть войну, иначе народы Европы будут безжалостно уничтожены. Сталин не остановится. Он пойдет дальше, на запад; его уже призывают французские коммунисты. Как только русские займут Европу, все наши культурные памятники будут уничтожены. Европа превратится в пустыню, где не будет ничего – ни культуры, ни народов, останутся одни отбросы и повсеместный хаос. Не забывайте, Сталин – это Чингисхан, возродившийся из мрака веков. По сравнению с тем, что произойдет, если мы проиграем, опустошение наших городов покажется невинной шуткой. Мы с нашими двумя сотнями дивизий не смогли остановить русских; разве это под силу нескольким дивизиям союзников? Англосаксы отдадут Европу без борьбы. Я в этом уверен. Они бросят ее на съедение каннибалам. Знаете, после крупных операций по окружению мы находили человеческие кости. Только представьте: они от голода ели друг друга. Лишь бы не сдаваться. Теперь вы понимаете, что это низшая раса, недочеловеки».
Я не раз слышал от него эту последнюю фразу, и даже тогда она поражала меня своим противоречием. Он называл русских Untermenschen именно за то поведение – во всяком случае, в смысле их упорного сопротивления, – которого снова и снова требовал от собственных солдат. Но в то время я не обращал внимания на это противоречие, хотя сегодня оно приводит меня в бешенство. Как это могло быть?
Может быть, противоречие каким-то образом растворялось в личности Гитлера и стало очевидным только после его смерти. Все признают, что Гитлер восхищался тем, что ненавидел; правильнее было бы сказать: он ненавидел то, чем восхищался. Его ненависть на самом деле была восхищением, которое он отказывался признать. Это относится к евреям, Сталину, коммунизму в целом.
Потом еще это его радикальное мышление. Оно уже давало о себе знать незадолго до начала войны. В конце августа 1939-го, когда Гитлер уже решил напасть на Польшу, он стоял на террасе своего дома в Оберзальцберге и говорил, что на этот раз Германии придется пойти ко дну вместе с ним, если она не выиграет войну. На этот раз, добавил он, будет пролито очень много крови. Как странно, что никого из нас не удивило это замечание, что такие зловещие слова, как «война», «рок», «катастрофа», вызывали у нас ощущение благородного воодушевления. Во всяком случае, я отчетливо помню, что, услышав это высказывание от Гитлера, я подумал не о страшных бедах, которые за этим последуют, а о величии исторической минуты.
15 декабря 1946 года. Камера превратилась в ледник, изо рта вырывается пар. Я плотно укутался в одеяла. Ноги обмотал нижним бельем, надел на себя всю одежду, какая есть, в том числе зимнюю армейскую куртку, разработанную при моем участии в 1942 году. У нее есть капюшон, который я натянул на голову.
16 декабря 1946 года. Прочитал в журнале «Fabre» за 1 апреля статью «Психоанализ и создание истории» Мичерлиха, судебного психолога, который явно восстанавливает силы и даже набрал вес. Интересная статья; а в остальном номер показался мне весьма посредственным. Хотя, возможно, находясь здесь, в другом мире, я уже не улавливаю перемены настроений в обществе. Меня впервые охватывает чувство отчуждения.
Или в этом есть нечто большее? Какова на самом деле моя позиция? Я признаю то, что было, и осуждаю прошлое. Но дешевое морализирование, которое сейчас стало модным, вызывает у меня отвращение. Вероятно, Германии придется на некоторое время превратиться в воскресную школу. Дело не в том, что я хочу приуменьшить свое участие в случившемся. Просто я не могу мириться с этим тоном, даже если так было бы проще.
17 декабря 1946 года. Мой импровизированный спальный мешок согревал меня всю ночь. Только сейчас, в тюрьму я понял, насколько зимняя армейская форма не соответствовала своим требованиям. Наша зимняя куртка не согревает меня даже здесь, в камере; она впитывает много влаги и плохо сохнет.
Обычно недружелюбный охранник заглядывает в «окошко» и приветливо со мной здоровается. Он надеется, что я отдам ему рисунок Цеппелинфельда.
Ах да – сегодня сочельник.
Как всегда, утром мы подметали и мыли коридор. Говорил с другими заключенными. Поздравляли друг друга с Рождеством. В одиннадцать часов пар с глухим шумом понесся по трубам отопления, но моя батарея, похоже, засорена. Или не хватает напора – камера находится в конце коридора.
В два часа я выхожу на получасовую прогулку с Дёницем, Ширахом, Редером и Нейратом. Гесс и Функ остались в своих камерах. За нами наблюдают два охранника с автоматами. Мы по-прежнему должны гулять по отдельности. Температура ниже нуля; я вышел на прогулку в армейской куртке, натянув на голову капюшон. Дёниц добродушно кричит мне, что я выгляжу счастливым и довольным.
Вернувшись в камеру, я вижу на койке рождественские письма от жены и родителей. Разволновавшись, я читаю их с длинными паузами.
В нашей часовне на втором ярусе стоит елка, украшенная свечами, с оловянным ангелом на верхушке. Примитивная атмосфера вычищенной двойной камеры напоминает мне катакомбы ранних христианских конгрегаций. Вшестером мы поем рождественские гимны; один Гесс не принимает участия. Капеллан Эггерс, американец, читает проповедь, написанную для нас нюрнбергским священником Шидером. Перед тем как нас разводят по камерам, Функ с шутками, маскирующими его рождественские чувства, вручает Дёницу сосиску; Ширах сдержанно дарит мне кусок бекона, так как мы с Дёницем не получили посылки с подарками. Нейрат преподносит мне несколько рождественских печений; потом американский капеллан приносит шоколад, сигары и несколько сигарет. Я дарю Дёницу сигару.
В нашем крыле стоит тишина; все заперты по камерам до конца дня. По радио поет женский голос.
Три часа спустя. Не могу избавиться от мысли, что так я буду встречать Рождество еще девятнадцать раз, и снова и снова пытаюсь не думать об этом. Я вспоминаю сочельник 1925 года, когда я приехал к будущей жене в уютную квартиру ее родителей с видом на реку Неккар. Тогда мне было двадцать. На сэкономленные из студенческой стипендии деньги я купил ей настольную лампу с шелковым абажуром и основанием в виде фигурки из нимфенбургского фарфора. Весной 1945-го в Берлине у меня еще была фотография стола, на котором она разложила свои подарки в то Рождество. Потом снимок потерялся. Я любил эту фотографию. Я отпраздновал Рождество с ее родителями, потом уехал в горы, в родительский дом, расположенный посреди паркового леса над долиной Неккара. Это довольно большой дом для людей среднего класса. Елку обычно ставили в просторной гостиной перед камином, облицованным дельфтским изразцом. Эта сцена всегда присутствовала в моей жизни; каждый год на Рождество мы ехали домой по занесенным снегом дорогам. После неизменного ритуала всем раздавали подарки, в том числе слуге Карлу, горничной Катрин, кухарке Берте. Рядом с елкой всегда стояли два ведра с водой; отец дрожащим голосом запевал рождественский гимн. Он обожал Рождество, но совершенно не умел петь, поэтому гимны в его исполнении звучали бессвязно, и после одной-двух строчек он замолкал.
Потом в прилегающей столовой, отделанной деревянными панелями в неоготическом стиле, подавали рождественский ужин. Когда-то здесь устраивали праздничный обед по случаю моего крещения. Мать доставала столовую посуду, полученную в наследство от ее родителей, коммерсантов из Майнца: кобальтовый лиможский обеденный сервиз с золотой отделкой, сверкающие хрустальные бокалы, столовое серебро с перламутровыми ручками и канделябр мейсенского фарфора. Карл облачался в сине-лиловую ливрею с фамильным гербом на специально изготовленных пуговицах, что было не совсем законно; горничная надевала кружевной чепец к черному шелковому платью. В белых перчатках они подавали традиционный вареный вестфальский окорок с картофельным салатом. Мы запивали это Дортмундеким пивом, потому что отец издавна входил в состав правления крупнейшей местной пивоварни.
Как обычно, в семь часов приходит сержант Ричард Берлингер. В соответствии с правилами безопасности он забирает у меня очки и карандаш, потом сдвигает в сторону внешний фонарь.
25 декабря 1946 года. Прохладная ночь. Сегодня я водонос. Распухли пальцы. Несколько дней назад на первом этаже разместили подсудимых по предстоящему процессу лидеров СС. Я пытаюсь подбодрить их несколькими словами; охранник не вмешивается. Их всех ожидает смертная казнь.
Несмотря на холод, я много рисую, чтобы отвлечься. К пяти часам пальцы снова распухли. Я заворачиваюсь в свои четыре одеяла и, натянув на голову капюшон, читаю Псалом крестьянина Тиммерманна. Вечером приносят горячий напиток, но я не могу понять что это: чай или кофе. Ширах передал мне большой кусок великолепного пирога и немного масла из своей рождественской посылки.
Размышляю о Наполеоне, которого Гёте сначала окрестил чудовищем, а десять лет спустя провозгласил историческим явлением мирового значения. А что, если европейский миф о Наполеоне и связанный с ним культ великого человека создали предпосылку для той покорности, с которой европейская буржуазия (да и рабочий класс, обожествлявший своих Маркса, Энгельса и Ленина) уступила Муссолини и Гитлеру? Мы все были очарованы великими историческими личностями; и даже если человек не представлял собой ничего выдающегося, а только играл роль, причем без особого таланта, мы ему поклонялись. Именно так было в случае с Гитлером. Думаю, он добился успеха отчасти благодаря той наглости, с которой он изображал из себя великого человека.
28 декабря 1946 года. Когда я возвращался из душа сегодня, мне принесли рождественскую посылку от родных. Меня потрясла ее скудость. Как же плохо обстоят дела во внешнем мире! Я глубоко тронут. Мой старший сын, двенадцатилетний Альберт, прислал мне два выпиленных лобзиком орнамента; другие дети наклеили серебряные звезды на красную оберточную бумагу. Глядя на эти подарки, я на время лишился самообладания.
Из-за короткого замыкания ненадолго гаснет свет. Благословение для моих глаз, потому что даже ночью мы живем в сумерках. В половине одиннадцатого, прислонившись к двери, я слушал музыку, доносившуюся из приемника охранника.
Полночи провел в размышлениях. Я должен научиться воспринимать тяготы заключения как своего рода спортивные упражнения.
30 декабря 1946 года. Хорошо спал. Пятна обморожения на руках почти прошли. В камере сегодня гораздо теплее; пар изо рта едва заметен.
В половине одиннадцатого охранник, приковав меня к себе хромированными наручниками, ведет меня на встречу с адвокатом Кранцбюлером и профессором Краусом. На процессе Кранцбюлер защищал Дёница, а профессор Краус представлял Шахта. Оба будут выступать на стороне обвиняемых на предстоящих «малых нюрнбергских процессах». На встрече также присутствовал доктор Шармац, прокурор с американской стороны. Естественно, я был рад такому развлечению: но именно это и превращает меня в типичного заключенного.
Жена прислала мне новый номер архитектурного журнала «Баувельт». На его страницах я увидел план реконструкции Берлина, разработанный Шаруном. Совершенно невыразительный эскиз; единственный графический элемент проекта – долина реки Шпрее (которую не видно). Город будет поделен на утилитарные районы прямоугольной формы. План не учитывает концепцию «архитектоники» Берлина, в нем нет ощущения эволюции города и нет никакого упоминания о проблеме железнодорожного вокзала, над которой я столько времени ломал голову. Такой план – символ столицы, потерявшей надежду. Из крайности гигантизма в крайность отречения; на смену мегаломании приходит застенчивость. Крайности – это настоящая немецкая форма выражения. Конечно, это не так. Но оказавшись в нынешней исторической ситуации, мы неожиданно начинаем в это верить и, как ни странно, получаем огромное количество разных доказательств, пока истина (всегда сложная и запутанная) не превращается в какое-то неясное пятно.
31 декабря 1946 года. Сегодня кончается 1946 год. «Альберта Шпеера к двадцати годам тюремного заключения». Как будто это было вчера.
1 января 1947 года. В новый год вошел в подавленном настроении. Подметал коридор, прогулка, потом – в церковь. Мы с Дёницем пели громче обычного, потому что Редер болен, а Функа должны положить в лазарет. Только напряжение, в котором я находился во время процесса, заставило меня поверить, что я верю. Сейчас церковные ритуалы снова кажутся мне лишенными смысла. Ограниченность перспективного восприятия человека. Но это лишь наиболее очевидные условия, окрашивающие наши мысли. А сколько условий влияет на каждое суждение; условий, о которых мы даже не подозреваем?
3 января 1947 года. По моим подсчетам, я прошел примерно четыреста километров по тюремному двору. Подошвы моих ботинок износились. Я подал заявку в тюремную администрацию и получил пару поношенных, но еще хороших американских армейских сапог.
6 января 1947 года. Руководство тюрьмы недовольно нашей ежедневной уборкой. Мы, главным образом, старались растянуть рабочее время часа на два, изобретая всевозможные сложности, и большую часть времени проводили в разговорах, опираясь на метлы. Работу у нас отобрали, и теперь наши преемники – из руководства СС – делают ее за полчаса. С тех пор большую часть суток – двадцать три часа, если быть точным, – я провожу в своей камере.
7 января 1947 года. В Берлине двадцать семь ниже нуля. Говорят, люди жгут остатки мебели. Наш душ замерз.
8 января 1947 года. Доктор Шармац только что принес пухлый протокол допроса, и мне пришлось снова его подписывать. Ранее подписанный экземпляр украл охотник за сувенирами! Шармац сообщил мне, что фельдмаршал Мильх просит меня выступить свидетелем на его процессе. На протяжении многих лет Мильх был моим другом и, в качестве главы авиационного вооружения, коллегой. Невысокий полный человек с круглым бычьим лицом. Мне иногда казалось, что длинная сигара, постоянно торчавшая у него во рту, была попыткой подражать Уинстону Черчиллю.
Несмотря на его временами взрывной характер, нам с ним удавалось отражать многочисленные попытки его шефа Геринга посеять раздор между нами. Нелегко будет встретиться с ним на процессе. Мильха обвиняют в тех же преступлениях, что и меня: до весны 1944-го, пока он не передал мне руководство авиационным вооружением, он использовал принудительный труд и труд заключенных из концлагерей.
Конечно, все эти процессы – это суд победителей над побежденными. До меня постоянно доходят слухи, что немецких военнопленных вопреки закону тоже заставляют работать на базах снабжения и вооружения. Кто им судья?
И, конечно, мы могли бы возразить, что наш процесс провели слишком поспешно, что адвокатам было сложно защищать двадцать одного подсудимого, привлеченных к суду одновременно. Но все эти возражения – я по-прежнему в этом уверен – опровергаются основополагающим принципом: если руководство страны начинает войну, оно обязано принять на себя тот же риск, которому подвергает каждого солдата.
Согласен, этот факт я осознал только во время суда. Даже в конце войны мысль, что я могу оказаться в числе подсудимых на процессе, о котором уже объявили союзники, казалась мне абсурдной. Тогда в свободное время я просил своих помощников принести мне кипы документов: протоколы совещаний с Гитлером, письма или решения Комитета по центральному планированию и тому подобное. Как правило, лежа на кровати, я наугад просматривал эти документы в поисках кусков текста, которые могут показаться изобличающими меня. И вновь, полагаю, ограниченность суждений помешала мне разглядеть признаки моей вины в ворохе бумаг. В основном я видел интересы своей страны – государства, находившегося в состоянии войны, – и эти интересы меня оправдывали. Во всяком случае, так было принято всегда. Поэтому я не уничтожил ни одного документа, кроме докладной записки промышленника, предлагавшего использовать отравляющий газ против советских войск. Напротив, я почувствовал уверенность и приказал спрятать мои папки в надежное место. Через несколько недель, вскоре после моего ареста, я передал их американцам для изучения. На процессе прокуроры обвинили меня в преступлениях против человечества, используя отрывки из этих документов.
8 января 1947 года. Благодаря дружелюбию одного из охранников я курил трубку после наступления темноты до одиннадцати вечера.
9 января 1947 года. Признаки гриппа, влажные руки, по ночам болят уши. Нельзя болеть ни в коем случае!
13 января 1947 года. Снова весь день провел в постели. Не рисовал, не читал, не писал. Восхищаюсь Функом, который месяцами лежит, прикованный к кровати, и при этом не теряет рассудка.
15 января 1947 года. Впервые с августа заглянул в зеркало. Во время процесса я использовал для этой цели кабинку переводчиков. Мне удавалось увидеть свое отражение на фоне темной одежды. Сейчас это всего лишь осколок зеркала, но и его достаточно. За несколько месяцев я, кажется, постарел на несколько лет.
22 января 1947 года. Я не ожидал, что стану подсудимым на объявленном процессе против военных преступников. Но в августе 1945-го в шесть часов утра в спальный корпус лагеря для интернированных ворвался один из моих заместителей. Запыхавшись, он остановился в дверях и, с трудом подбирая слова, сообщил, что меня внесли в список главных обвиняемых на Нюрнбергском процессе, более того, я занимаю в нем безнадежное третье место. Я был потрясен.
В лагере находился один химик, у которого, по слухам, были капсулы с ядом вроде той, которую проглотил Гиммлер, чтобы покончить с собой. Я намекнул ему, что ищу такую капсулу, но он уклончиво отказал мне. Почему никто, ни Гитлер, ни распределительный центр СС, не подумали, что я тоже имею право на привилегию самоубийства, которую они предоставили Ханне Райч и даже секретаршам Гитлера? Недавно я услышал лекцию врача, который небрежно заметил, что достаточно выпить настойку из размельченной сигары. Но к тому времени искушение ушло; даже если бы я смог набраться мужества совершить самоубийство, у меня больше не было желания.
23 января 1947 года. По коридору идет ребенок, наверное, капеллана, и весело и беспечно болтает. Меня это трогает больше, чем события внешнего мира.
24 января 1947 года. Я пережил процесс, с одной стороны, благодаря моему адвокату, доктору Гансу Флекснеру, невысокому берлинцу, обладавшему удивительным даром красноречия, а с другой – благодаря доктору Гилберту.
Флекснер, которого мне назначил суд, так объяснял свою линию защиты: «Вы будете сидеть третьим от конца. Соответственно, вы подпадаете под одну классификацию, а Геринг, Гесс, Риббентроп и Кейтель – под другую, они будут признаны лидерами. Если вы возьмете и объявите себя ответственным за все происходившее в те годы, то выставите себя более важной фигурой, чем на самом деле, и вдобавок привлечете к себе неуместное внимание. Это не только произведет чудовищное впечатление, но может также закончиться смертным приговором. Почему вы сами упорно твердите, что вы погибли? Пусть это решит суд».
В целом именно так мы и действовали. Ведь я, конечно же, не хотел получить смертный приговор. Давая свидетельские показания, я избегал всего, что можно было бы вменить мне в вину, кроме признания, что миллионы депортированных людей привозили в Германию против их воли и что я чувствую ответственность за совершенные преступления. Но это отклонение от нашего плана имело решающее значение. К тому же мои показания вызвали многочисленные упреки со стороны других подсудимых. В частности Геринг все время повторял, что своим признанием я пытаюсь завоевать расположение суда, однако не учитываю тот факт, что им всем придется отвечать за мои слова. Не знаю. Мне все же кажется, что этих опытных юристов не так легко обмануть – ни моими признаниями, ни отрицаниями других обвиняемых. Доказательством служит тот факт, что Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, и комиссар Гитлера в Нидерландах Артур Зейсс-Инкварт, которые тоже выражали раскаяние, не избежали смертного приговора.
26 января 1947 года. Дело в том, что в зале суда я завоевал некоторую долю симпатии или, скорее, уважения[3]3
30 июня 1970 года Дин Роберт Г. Стори, который на процессе выполнял обязанности заместителя прокурора при судье Роберте X. Джексоне, написал мне: «Как вам, вероятно, известно, судьи и прокуроры Соединенных Штатов считали вас наименее виновным из всех подсудимых». 2 августа 1971 года в радиопередаче Мерил Фрейзер Дин Стори заявил: «Никогда не забуду слова судьи Паркера. Он фактически сказал: самое сильное впечатление на суд произвел Альберт Шпеер, который говорил правду и раскаялся. А потом после короткого разговора он заметил: «Лично я как судья считал, что десять лет были бы справедливым приговором». Насколько я понял, русские настаивали на смертном приговоре для всех».
[Закрыть]. Но Геринг был не прав, когда говорил, что я завоевал расположение, приняв на себя ответственность. Только недавно во время встречи с американским прокурором Шармацем он рассказал мне о словах судьи Джексона, которые он сказал Флекснеру сразу после моего перекрестного допроса: «Передайте своему клиенту, что он единственный заслужил мое уважение». Вероятно, причина заключается в том, что я старался говорить правду и не прятался за дешевыми алиби. Впрочем, я почти у всех вызываю симпатию. Я вспоминаю своего учителя Тессенова, который открыто поддержал меня, когда я был еще студентом, а потом Гитлер, потом судьи, а теперь многие охранники. Способность нравиться – это преимущество, но считать ее только преимуществом было бы примитивно. Вероятно, в каком-то роде это проблема моей жизни… Когда-нибудь я должен до конца в этом разобраться.
28 января 1947 года. Несколько дней назад у нас появились новые охранники – литовские беженцы, и я с сожалением попрощался с американскими солдатами. Но литовцы даже разрешают нам навещать свидетелей по новым процессам, которые сидят в другом крыле тюрьмы: генералов, промышленников, послов, государственных секретарей, партийных функционеров. Я встретил много старых знакомых. Двери были открыты; повсюду велись оживленные разговоры. Меня окружают бывшие коллеги, мы обмениваемся опытом.
Невдалеке замечаю Отто Заура, моего бывшего начальника отдела в министерстве вооружений, который, оттеснив меня в сторону, подобострастной лестью и хитрыми уловками обился расположения Гитлера. Я с интересом наблюдал, как он старательно выполняет приказ добродушного сержанта Берлингера принести ведро воды. Без конца кланяясь и шаркая ножкой, он начинает мыть пол. И тем не менее это очень деятельный человек – всем своим существованием он обязан режиму. Повиновение и активность – опасное сочетание.
Я вспоминаю характерный эпизод, произошедший в мае 1943-го в Восточно-Прусском штабе армии. Гитлеру показывали деревянный макет 180-тонного танка в натуральную величину, на разработке которого настоял он сам. Никто в танковых войсках не проявлял интереса к производству этих чудовищ: для создания каждого из них потребовалось бы объединить ресурсы, необходимые для выпуска шести-семи «Тигров», к тому же возникнет неразрешимая проблема поставок и запчастей. Эта громадина будет слишком тяжелой, слишком медленной (около двенадцати миль в час), более того, ее производство можно будет начать только с осени 1944. До начала осмотра мы – профессор Порше, генерал Гудериан, начальник штаба Цейтцлер и я – договорились выразить наш скептицизм хотя бы в форме крайней сдержанности.
Придерживаясь нашей договоренности, Порше, когда Гитлер спросил, что он думает об этой машине, дал краткий уклончивый ответ: «Конечно, мой фюрер, мы можем построить такие танки». Все остальные молча стояли рядом. Заметив разочарование Гитлера, Отто Заур стал с воодушевлением расписывать возможности чудовища и его значение для развития военной техники. Через несколько минут они с Гитлером вели восторженный диалог, с каждым словом все больше впадая в эйфорию. С таким же энтузиазмом Гитлер говорил со мной, когда мы обсуждали будущие архитектурные проекты. Подстегиваемые неподтвержденными данными о создании русских сверхтяжелых танков, они, отмахнувшись от всех технических недочетов, восторгались боевой мощью танка весом 1500 тонн. Они решили перевезти его по частям в железнодорожных вагонах и собрать прямо перед выводом на поле боя[4]4
По предложению одного инженера, за год до этого Гитлер действительно приказал построить такой танк. Предполагалось, что он будет оборудован короткоствольным минометом с необычно большим калибром в восемьдесят сантиметров. Кроме того, у него будут двойные орудийные башни, вооруженные длинноствольными пятнадцатисантиметровыми пушками. Передняя часть будет покрыта броневым листом толщиной 250 миллиметров. Приводить этот танк в движение должны были четыре дизельных двигателя для подводных лодок, обеспечивавших ему мощность в 10 000 лошадиных сил.
[Закрыть].
По нашей просьбе с фронта привезли заслуженного полковника танковых войск. Наконец ему удалось вставить замечание, что взрыв ручной гранаты или зажигательного снаряда около вентиляционного отверстия может привести к воспламенению топливных паров. Раздраженный этим неприятным замечанием, Гитлер ответил: «Значит, мы оборудуем его пулеметами, которые можно будет изнутри направлять в любую сторону». Повернувшись к полковнику-танкисту, он добавил назидательным тоном: «В конце концов, со всей скромностью могу сказать, что я не новичок в этой области. Именно я перевооружил Германию». Разумеется, Гитлер понимал, что 1500-тонный танк – уродливое чудовище, но все равно был благодарен Зауру за поддержку. В завещании, которое он составил незадолго до смерти, он снял меня с поста министра вооружений и назначил Заура моим преемником.
Пока я наблюдал, с какой готовностью Отто Заур выполняет распоряжения охранника, в памяти всплыл еще один случай. В последние недели войны он добился у Гитлера разрешения на переезд в Бланкенбург вместе со своим штабом. Всегда наглый и жесткий с промышленными магнатами, он сам был начисто лишен смелости. Поэтому я сочинил текст и подложил в его почту: «Как сообщает Британская радиовещательная корпорация, нам стало известно, что Заур, известный заместитель Шпеера, сбежал в горы Гарц и спрятался от наших бомб в Бланкенбурге, но наши бомбардировщики и там его найдут». В панике он тут же перенес свой штаб в ближайшую пещеру.
29 января 1947 года. Ослаб после очередной простуды. Часто кружится голова. Мои физические силы заметно уменьшаются; пропадает также способность сосредотачиваться.
3 февраля 1947 года. Утром кружилась голова. Побаливает сердце. Лежу в постели и не могу читать; строчки плывут перед глазами. Доктор проявляет заботу. Как всегда. Весь день предавался мечтам.








