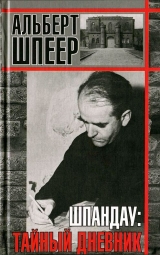
Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц)
Под стать обострившемуся политическому конфликту в нашей тюрьме идет гражданская война между Востоком и Западом из-за работы в саду. Русский директор требует убрать несколько клумб с распустившимися цветами. По его словам, цветам не место в тюремном саду; к тому же в правилах они не предусмотрены. Западные державы, жалуется он, постоянно нарушают обязательные соглашения. После долгих переговоров стороны достигают компромисса: цветы мы больше не сажаем, но те, что уже растут в саду, разрешено оставить.
24 июля 1949 года. Русский месяц. Голодное время. По утрам – треть литра густой ячменной похлебки, кофе из цикория, несколько кусков хлеба; днем – жидкий суп, кисловатый на вкус, и такое же количество хлеба; вечером – картофельное пюре, несъедобное мясо, крошечный кусочек масла и опять хлеб. Так продолжается изо дня в день без малейших изменений. Когда я жалуюсь на однообразное питание, охранник говорит мне: «В Москве снаряжали экспедицию на Дальний Восток. Среди разрешенных вещей был граммофон и пятьдесят пластинок. Когда исследователи решили послушать музыку в своей палатке, оказалось, что им прислали пятьдесят экземпляров одной и той же пластинки».
26 июля 1949 года. Сегодня, услышав во дворе обрывок разговора о Гитлере между Дёницем и Ширахом, я внезапно осознал, как холодно я думаю и пишу о нем. Ведь я был рядом с ним больше десяти лет, я обязан ему своей карьерой и славой. Более того, мне было хорошо в его обществе – во всяком случае в мирные годы. Я сознательно или неосознанно закрывал глаза, когда не замечал его неуклюжей напыщенности, плохо подобранных галстуков, огромных букетов – или я сейчас обманываю себя и других, когда постоянно принижаю его даже в собственных глазах? Если не ошибаюсь, за последние несколько месяцев я не упомянул ни об одной привлекательной черте его характера; в общем-то, во мне не осталось ни капли верности ему. Это предательство?
25 июля 1949 года. По-прежнему размышляю о своих взаимоотношениях с Гитлером. Тема предательства.
26 июля 1949 года. Не могу разубедить себя; я – предатель. И не только потому, что Гитлер утратил все права на мою преданность; нельзя быть верным чудовищу. Но иногда я задаюсь вопросом: может, во мне сидит какое-то необъяснимое чутье, которое, хочу я того или нет, заставляет меня подчиняться духу времени; словно преобладающее течение тащит меня за собой. Мое чувство вины в Нюрнберге, безусловно, было абсолютно искренним, но жаль, что я не испытывал его в 1942-м. И еще я был бы больше уверен в своих оценках, если бы сегодня – хотя бы в чем-нибудь – был не согласен с духом времени, который сейчас вынес окончательный приговор Гитлеру. Но я и в нем не вижу ничего хорошего; во всяком случае, ничего, что могло бы компенсировать его чудовищные преступления. В свете этих преступлений – что можно считать предательством?
1 августа 1949 года. Дождливое лето с холодными ветрами и грозами, часто льет как из ведра. Но я все равно загорел. В двенадцать часов русские покинули тюрьму. На сторожевые башни вернулись американские солдаты. Русские автоматы были обычно направлены в нашу сторону, в сад, а оружие американцев нацелено наружу.
На обед давали баранину с вареным картофелем и еще столько разных вкусностей, что я, наверное, полночи не засну. Днем нас взвешивал американский врач. За прошедший месяц каждый заключенный похудел примерно на три килограмма.
Гессу смена меню тоже пошла на пользу. После медосмотра мы вместе сидели на лавочке, греясь на солнце. Я пытался завязать с ним разговор. Поскольку политика – тема щекотливая, и ее обсуждение ни к чему не приведет, а Гесс оживляется, только когда речь заходит о прежних временах, я заговорил о Еве Браун. Я рассказал ему об одном случае, свидетельствующем о чрезвычайной холодности Гитлера. Однажды весной 1939-го Ева Браун, которая иногда изливала мне душу, в смятении поведала, что Гитлер предложил ей оставить его и найти другого мужчину – сказал, что он больше не может быть таким, каким она хочет его видеть. Он говорил напрямик, не пытаясь смягчить свои слова, но, может быть, он на мгновение осознал, на какие жертвы приходится идти девушке, чтобы быть его любовницей. Поначалу Гесс слушал внимательно, но вскоре отмахнулся от моих слов со скучающим видом, и я пошел работать.
11 сентября 1949 года. Минуло еще шесть недель. Месяцы сменяют друг друга. Я где-то прочитал, что скука – единственная мука ада, о которой забыл Данте.
30 сентября 1949 года. Конец третьего года. Сенсационные события нашего лета: сотни воробьев стащили семена подсолнуха. Мы собрали скудный урожай овощей. Но мои цветы радуют глаз; среди них теперь появились люпины дивного розового цвета, выросшие из английских семян. Я опять прочитал дюжины книг – без всякого интереса. Продолжаю учить английский и французский, хотя не вижу в этом никакого смысла. Скоро снова возьмусь за рейсшину и угольники и начну проектировать дом. Все бессмысленно.
Год четвертый
Отношение Гитлера к Аденауэру и Гёрделеру – Дориан Грей – Риббентроп и ответственность за войну – Парижские встречи с Вламником, Майолем и Кокто – Гитлер: о подавлении мятежей – Порванные рубашки – Депрессия – Утренний инцидент с Гессом – Поездка в Винницу и разрыв Гитлера с Ширахом – Планы по Востоку
18 октября 1949 года. Несколько дней назад Функу сделали операцию. Западные врачи хотели провести ее в американском госпитале, но русский директор не разрешил. В Шпандау привезли передвижную операционную армейского типа. Сложную операцию проводил французский врач. В соответствии с правилами присутствовали три охранника. Один потерял сознание. В подвале наготове стоял гроб.
За Функом ухаживает французская медсестра. Мы ее не видим – как только она появляется, нас запирают в камерах. Я этому даже рад. Я столько лет был лишен женского общества, что теперь боюсь оказаться неловким и неуклюжим.
22 октября 1949 года. Функ вне опасности. Он без ума от мадемуазель Антисье, но, к его огорчению, она не разделяет его чувства. Однако не лишает его иллюзий.
24 октября 1949 года. Говорят, Аденауэр, бывший мэр Кельна, стал главой нового западногерманского правительства. Помню, Гитлер назвал его способным человеком; кажется, это было в 1936 году за чаем в Нюрнбергской гостинице «Дойчер Хоф». Либель незаметно подвел разговор к значимости мэров, желая похвастаться своей работой в Нюрнберге. Благодаря дару предвидения и решимости, заметил тогда Гитлер, Аденауэр создал кельнский «зеленый пояс» с системой объездных дорог; он также пригласил в Кельн крупных градостроителей и построил уникальную ярмарочную площадь на правом берегу Рейна. По словам Гитлера, он по сей день находится под впечатлением проекта Аденауэра, погрузившего город в долги. Что значат несколько дурацких миллионов по сравнению со смелым планом города, с архитектурной концепцией? Жаль, что из-за политической позиции Аденауэра Гитлер не использовал способности этого человека.
Гитлер ценил Аденауэра за упорство: наверняка он поссорился бы с этим сложным человеком при первой же встрече. Однажды он попытался договориться с одним из мэров-аристократов, и хотя тот не без симпатии относился к «национальной революции», они мгновенно повздорили. «Этот Гёрделер ставит мне палки в колеса! – не раз жаловался мне Гитлер. – Он прекрасно знает, как я хочу поставить новый национальный памятник Рихарду Вагнеру. Я лично сказал ему, что утвердил проект Хиппа. Но он все время придумывает новые уловки, чтобы помешать сносу жалкой старой статуи, возведенной неумелым скульптором. – В голосе Гитлера появились стальные нотки: – Гёрделеру хорошо известно – я даже обсуждал с ним детали, – что мне особенно нравится большие величественные рельефы, что все должно быть сделано из лучшего унтерсбергского мрамора. Мне пришлось снять Гёрделера с поста рейхскомиссара из-за его бюрократического подхода к работе. Если он в скором времени не образумится, он больше не будет мэром. Через шесть месяцев напомните мне об этом, Борман».
И в 1937-м Гёрделер так-таки лишился всех официальных постов. В то время никто и вообразить не мог, что семь лет спустя заговорщики выберут прежнего мэра Лейпцига преемником Гитлера.
26 октября 1949 года. В соответствии с мерами по самосохранению я приступил к выполнению программы упражнений, направленных на укрепление сердца и мышц. Я собираюсь засыпать яму объемом примерно сто пятьдесят кубометров, и для этого мне придется перетаскать песок из кучи на другом конце сада. Вдобавок я отмерил расстояния в сто и двести метров и иногда совершаю пробежки на эти дистанции. Врач прописал мне спортивную обувь. Я не бегал несколько лет, и теперь мои «достижения» приводят меня в уныние.
2 ноября 1949 года. Побегал несколько дней, и у меня распухло колено. Врач прописал постельный режим. Глотаю таблетки в огромных количествах и принимаю витамины.
С каждым письмом из Гейдельберга приходят семейные фотографии. Я рассматриваю их снова и снова, сравнивая со старыми снимками – хотя бы так я смогу видеть, как растут дети. Долго ломал голову над одной фотографией, которую получил сегодня: лоб явно Фрица, и стрижка тоже предполагает, что это один из мальчиков, но подбородок, похоже, принадлежит Хильде, а по глазам – вроде бы Маргарет. Может, это все-таки Маргарет с короткой стрижкой? Надеюсь, это не Эрнст. Совсем недавно я перепутал Эрнста с Арнольдом.
Прошло больше четырех лет с тех пор, как я видел их в последний раз. Эрнсту, самому младшему, было тогда полтора года; сейчас ему больше пяти. Арнольд подошел к подростковому возрасту, а Альберту уже пятнадцать! Через пять лет трое из моих детей станут взрослыми. Раньше я с удовольствием ждал этого периода в жизни детей. Теперь во мне все больше крепнет чувство, что я потерял детей навсегда, а не только на срок заключения. Откуда возьмутся чувства после двадцати лет разлуки? Иногда я боюсь, что если меня вдруг выпустят раньше срока, это нарушит процесс взросления. Когда меня посещают такие мысли, я иногда думаю, что было бы лучше, если бы я никогда не вернулся домой. Что они будут делать с шестидесятилетним незнакомцем?
4 ноября 1949 года. Все еще в постели. Сегодня снова пять часов провел за чтением. Размышлял. Грустил по дому. Тосковал по семье. Боли в груди и в области сердца.
Несколько часов изводил себя мыслями о том, что дети меня забыли, а жена хочет развестись. Фантазии? Или мое подсознание таким безумным образом реагирует на страх перед встречей с семьей, страх перед возвращением домой?
5 ноября 1949 года. Депрессия. Почти нет желания жить.
7 ноября 1949 года. Днем приснился сон: мы с женой ссоримся. Она в гневе уходит от меня по саду. Я иду за ней. Внезапно от нее остаются только глаза. Они полны слез. Потом я слышу ее голос. Она говорит, что любит меня. Я пристально смотрю в ее глаза; потом крепко обнимаю. Я просыпаюсь и понимаю, что плакал впервые после смерти отца.
8 ноября 1949 года. В течение последних нескольких дней, во время дневного отдыха, Джек Донахью приносил мне книгу, только что вышедшую на воле. Ее написал драматург Гюнтер Вайзенборн. Студентом я видел в Берлине его пьесу о подводных лодках. При Гитлере его посадили в тюрьму, и эта книга, под названием «Мемориал» – его дневник, воспоминания о тех годах. В одном отрывке он вспоминает, как незадолго до начала войны увидел Гитлера в Мюнхенском Доме художника, сидящего в кругу приближенных:
«Человек, которого они назвали фюрером, в тот вечер изображал хорошего парня с выражением милого изумления в глазах. Когда этот человек произносил несколько слов, все сидящие вокруг него паладины подобострастно наклонялись вперед, тянулись к одной точке: рту деспота с кляксой усов на губе. Словно теплый ветер покорности молча склонил эти надменные головы, и я не видел ничего, кроме складок жира на шеях наших лидеров…
Толстощекий Гитлер принимал эту волну раболепия. Он в свою очередь слегка склонился к Шпееру, который сидел справа от него и изредка ронял несколько учтиво скучных слов. Обрушившийся на него поток почтения Гитлер передавал Шпееру; это напоминало эстафету обожания. Шпеер, казалось, был окружен восхищением и любовью; именно он сгребал подношения, будто какую-то мелочь».
Странно читать подобное наблюдение в этой камере. Оно напомнило мне одно замечание моего помощника Карла Марии Хеттлага. Однажды после вечернего визита Гитлера в мою мастерскую он сказал, что я – безответная любовь Гитлера.
Это была не гордость. И не попытка отстраниться от Гитлера. Сегодня с моей нынешней выгодной позиции мне кажется, что в отношениях с людьми я всегда держался отчужденно, и эта отчужденность, возможно, была разновидностью застенчивости. С другой стороны, я был молодым человеком тридцати лет, которому все говорили, что он строит на века – и я чувствовал груз огромной ответственности. Я видел себя в разрезе истории. Может, я и хотел бы проявить свое глубочайшее почитание; но я никогда не умел свободно выражать свои чувства. Не мог даже в этом случае, хотя мне часто казалось, что Гитлер возвышается над всеми, кого я знаю, может, даже над моим отцом, которого я искренне уважал.
20 ноября 1949 года. Продолжаю размышлять о глубинных причинах моего сдержанного отношения к людям. Двенадцать лет в ауре гитлеровской власти, вероятно, лишили меня непосредственности, которая, безусловно, была мне свойственна в юности. Не стоит убеждать себя, что меня просто подавляло влияние великой личности и порученных мне исторических задач. Это также было рабство в самом широком смысле слова, а не только в его сублимированном, психологическом значении. Ведь мои честолюбивые замыслы полностью зависели от прихотей Гитлера. Вчера он мог назвать меня гением архитектуры, но кто мог гарантировать, что завтра он не скажет: «Гислер мне нравится больше Шпеера»? Вполне возможно, с 1943-го он в самом деле предпочитал мне моего мюнхенского соперника.
Вскоре после того, как я получил первые крупные архитектурные заказы от Гитлера, я стал периодически испытывать чувство тревоги в длинных туннелях, в самолетах или закрытых комнатах. Сердце начинало бешено колотиться, сдавливало грудь, я задыхался, и давление резко подскакивало. Через несколько часов приступ проходил. Я обладал властью и свободой, и в то же время испытывал тревогу! Сейчас в камере я и думать о ней забыл.
В свое время меня в течение нескольких дней тщательно обследовал профессор фон Бергман, известный в Берлине специалист по внутренним болезням. Он не нашел никаких нарушений в моем организме. Проблемы исчезли без всякого лечения после начала войны, когда Гитлер переключился на другие дела, и я больше не был в центре его внимания или же привязанностей.
Недавно я прочитал у Оскара Уайльда: «Влиять на другого человека – это значит передать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. И добродетели у него будут не свои, и грехи, – если предположить, что таковые вообще существуют, – будут заимствованные».
Но пока я читал «Портрет Дориана Грея», в голову пришла мысль: щеголь сохранил красоту, потому что все его уродливые черты забирал портрет. Что, если я сейчас передаю свое нравственное уродство своему автобиографическому описанию? Может, это способ выжить?
22 ноября 1949 года. Снова на ногах. Русский врач прописал мне каждый день ходить в течение нескольких минут с получасовыми перерывами.
Часы на соседней церковной башне только что пробили 11 вечера. Свет в камере давно погасили. Но через большое смотровое отверстие в камеру проникает свет и падает на мою небольшую чертежную доску. Я пишу, и все мои чувства обострены, настроены на любые признаки опасности. Сейчас стало сложнее, потому что некоторые охранники носят ботинки на резиновой подошве – очевидно, чтобы не потревожить наш сон. Но для нас это создает проблемы в те четыре-пять часов, когда мы по-настоящему предоставлены самим себе. Однако сегодня на пост в коридоре заступил русский охранник Мушин, а он носит грубые ботинки на кожаной подошве. Так что я могу работать спокойно.
Возвращаясь к «Дориану Грею», или заимствованной личности: после знакомства с Гитлером в мою жизнь, безусловно, вошло нечто для меня чуждое, нечто прежде далекое. Я, скромный, неопытный архитектор, еще не нашедший собственный стиль, внезапно начал мыслить невероятными категориями. Архитектурные мечты Гитлера стали моими мечтами. Мои мысли приобрели государственный масштаб, имперские размеры – все это никогда не принадлежало моему миру. Во всяком случае, после Нюрнберга я убедил себя, что Гитлер был великим соблазнителем. Но так ли это? Он в самом деле лишил меня индивидуальности? Однако что бы я ни писал или говорил, сложное ощущение связи с ним сохраняется по сей день. Может, тогда правильнее было бы сказать, что он помог мне найти свою индивидуальность? Что, если по-новому взглянуть на мои архитектурные концепции? Вот что получается.
Все мои архитектурные замыслы тридцатых годов, главным образом, основывались на отказе признать современность, чем я и руководствовался, работая помощником Тессенова. Меня не случайно привлекал Тессенов с его пристрастием к единству, простоте, тонкой работе, а не Гропиус или Мис ван дер Роэ. В этом отношении Гитлер не лишал меня индивидуальности. Я испытывал неприязнь к большим городам и порожденному ими типу людей, развлечения моих однокурсников были мне не понятны, вместе с тем я любил плыть на лодке по реке, ходить в походы, лазать по горам – все это было неотъемлемой частью романтического протеста против цивилизации. В Гитлере я, прежде всего, видел человека, стремящегося сохранить мир девятнадцатого века, спасти его от тревожного мира больших городов, который всех нас ждет в будущем. В этом смысле я фактически ждал появления Гитлера. Более того – и в моих глазах это служит ему оправданием, – он дал мне силы, позволившие мне выйти за пределы моих возможностей. Если так, я не могу сказать, что он лишил меня индивидуальности: напротив, благодаря ему я впервые открыл в себе более яркую личность. Готов пойти даже дальше: а что, если сейчас, в тюрьме, именно Гитлер – какая любопытная мысль! – подтолкнул меня к поиску еще одной, новой личности? Без опыта и знаний, приобретенных за годы работы с ним, смог бы я понять, что все историческое величие значит меньше простого жеста гуманности; что мировое господство, о котором мы мечтали, ничто по сравнению с готовностью протянуть руку помощи другому человеку? Необычная перемена точки зрения.
23 ноября 1949 года. Сегодня получил письмо от матери, в котором она вспоминает, что Аннелиз Хенкель в Первую мировую войну была помолвлена с моим дядей Германом Хоммелем. Если бы дядя женился на энергичной Аннелиз, Рассуждает мать, стал бы ее будущий муж, Иоахим Риббентроп, послом в Лондоне и, в конечном счете, министром иностранных дел?
Однажды я видел Риббентропа, когда мне было семнадцать, и родители повезли меня в Висбаден. Он поразил меня, потому что в безоблачную погоду шел под зонтом, а в руке держал котелок. Этот высокий светловолосый человек с всегда высоко поднятой головой казался мне высокомерным и недоступным. До того дня я видел подобные нелепые типы английских джентльменов только в юмористических журналах.
Заместитель Риббентропа Мартин Лютер однажды рассказал мне, как отзывалась о Риббентропе его теща, богатая совладелица завода по производству шампанского: «Удивительно, что мой безмозглый зять сумел забраться столь высоко». Через несколько месяцев Риббентроп отправил Лютера в концентрационный лагерь, потому что Лютер, сомневаясь в умственных способностях своего шефа, вместе с Гиммлером интриговал против него. Гиммлер не бросил бывшего сообщника и проследил, чтобы в лагере его устроили на безопасную должность библиотекаря. Вечные антагонисты Геринг, Розенберг, Геббельс и даже Борман сходились во мнении, если речь заходила о Риббентропе. Все считали его надменным глупцом, который все хочет сделать сам. Мне тоже бросилось в глаза широко известное тщеславие министра иностранных дел, когда я побывал в его официальной резиденции, бывшем президентском дворце, восстановленном во время войны за огромные деньги. Почти во всех общих комнатах были фотографии Гитлера в широких серебряных рамках с длинными хвалебными посвящениями Риббентропу. Они стояли повсюду: на тумбочках, столах и буфетах. При ближайшем рассмотрении становилось понятно, что Риббентроп попросту сделал несколько отпечатков одного и того же снимка.
24 ноября 1949 года. Сегодня я случайно подслушал в коридоре слова Дёница. Настоящий виновник войны, уверял он, – это Риббентроп, который был слишком высокомерен и неверно оценил реакцию англичан. Редер с ним согласился, а я, услышав его ответ, вспомнил один случай, который произошел, кажется, летом 1939. Гитлер с одним из своих адъютантов шагал по террасе Бергхофа. Остальные гости почтительно удалились на застекленную веранду. Но в разгаре оживленной беседы Гитлер позвал нас на террасу.
«Им следовало прислушаться к Мольтке и нанести удар, – заговорил он, продолжая свою мысль, – как только Франция восстановила силы после поражения в 1871-м. Или в 1898 и 1899-м. Америка воевала с Испанией, французы бились с англичанами в Фашоде, у них возникли споры из-за Судана. У Англии тоже были свои проблемы с бурами в Южной Африке, и вскоре ей пришлось направить туда войска. Все удачно сложилось в 1905-м, когда Россия проиграла Японии. Дальний Восток не представлял никакой угрозы. Правда, Англия с Францией были в хороших отношениях, но без России не могли тягаться с армией рейха. Это старый принцип: кто захватил инициативу в войне, тот и выиграл сражение. Все-таки шла война!» Увидев наши ошеломленные лица, Гитлер раздраженно бросил: «Война идет всегда. Кайзер слишком долго колебался».
Подобные сентенции обычно приводили Риббентропа в состояние крайнего возбуждения. В такие минуты было заметно, что среди нас только он думает, будто вместе с Гитлером раскрывает сокровенные тайны политических действий. В тот раз он тоже выразил согласие с Гитлером с характерной смесью подобострастия и высокомерия завзятого путешественника, чье знание иностранных обычаев все еще производило впечатление на Гитлера. Таким образом, вина Риббентропа не в том, что он проводил собственную военную политику. Он виноват в том, что, используя авторитет мнимого космополита, поддерживал провинциальные идеи Гитлера. Сама же война от начала до конца была идеей и работой Гитлера.
– Вот что никогда не понимали ни кайзер, ни его политики, – громогласно объяснял всем присутствующим Риббентроп. – Разница только в том, стреляют пушки или нет. Война идет даже в мирное время. Не понимая этого, нельзя заниматься внешней политикой.
Гитлер бросил взгляд на своего министра, в нем читалось нечто, похожее на благодарность.
– Да, Риббентроп, – сказал он, – да! – Он был заметно тронут, что хоть кто-то в этой компании его по-настоящему понимает. – Нужно помнить об этом, когда придет время и меня здесь не будет. Обязательно. – И продолжил, словно захваченный собственным пониманием природы исторических процессов: – Тот, кто займет мое место, непременно должен создать возможность для новой войны. Нам не нужна стабильная обстановка, мы не хотим топтаться на месте, погрязнув в сомнениях. Следовательно, в будущих мирных договорах мы должны оставить открытыми несколько вопросов, которые создадут для нас предлог. Вспомните, к примеру, Рим и Карфаген. Мирный договор всегда прямиком вел к новой войне. Вот вам Рим! Вот это искусство управлять государством.
Довольный собой Гитлер крутил головой, с вызовом глядя на почтительно внимающих гостей. Ему явно нравилось представлять себя рядом с государственными деятелями Древнего Рима. Сравнивая Риббентропа с Бисмарком – я сам не раз это слышал, – он подразумевал, что сам он выше буржуазной националистической политики. Он видел себя в масштабах мировой истории. И мы тоже.
Мы прошли на веранду. По своему обыкновению, он резко сменил тему и заговорил о каких-то пустяках. На протяжении нескольких месяцев темой разговоров в Бергхофе была книга Зощенко «Спи скорей, товарищ». Гитлер пересказывал отрывки, пока не начинал задыхаться от смеха. Борман получил приказ послать шофера в Мюнхен и для каждого из нас купить по книге. Я так и не узнал, что ему больше нравилось: юмор Зощенко или его критика Советского Союза. Впрочем, в то время я об этом не задумывался.
Сегодня вечером я впервые за четыре с лишним года пил коньяк. Мне его принес Джек Донахью. Всего один глоток. Но он оказал на меня разрушительное воздействие. Кружилась голова, я едва держался на ногах. Пришлось лечь. В то же время я с трудом сдерживал желание спеть или посвистеть. Смог встать только через час. В порыве радости от победы над головокружением я зашел к Гессу. Он лишь сказал: «Что это с вами?»
25 ноября 1949 года. Продолжаю вчерашние размышления. Когда несколько месяцев спустя началась война, война, незримо присутствовавшая во всех разговорах летом и осенью 1939-го, давление на меня ослабло, и не только в психологическом смысле. Я и физически стал гораздо свободнее. Теперь свита Гитлера состояла из адъютантов и генералов, и я впервые за многие годы снова мог жить собственной жизнью. Я с семьей, без Гитлера, ездил в Оберзальцберг в своем БМВ, перекрашенном в серый военный цвет. Тем временем мой отдел улучшал и оттачивал планы строительства, доводил до совершенства деревянные макеты.
Всем нам казалось, что с каждым месяцем мы почти без усилий приближаемся к поводу для создания триумфальных арок и аллей славы. Внезапно появились настоящие основания для возведения Народного дома и берлинского дворца фюрера: победы в Польше и Норвегии, завоевание Франции. В подземной усыпальнице Дворца солдатской славы отвели места для саркофагов командиров, отличивших в этих баталиях.
С каким весельем шли мы к катастрофе! Ганс Стефан, один из моих ближайших помощников, нарисовал серию карикатур. На одной из них среди огромных храмов стоит брошенный маленький домик – остаток идиллического прошлого. Груды камней, развороченная земля и копёры – именно это ждет жителей Берлина, когда начнутся работы. Полицейский ведет группу несчастных заключенных через новый широкий бульвар, по которому с ревом несется машин сорок. Гигантский кран должен поднять громадный стержень колонны для портика Народного дома, но по ошибке цепляет здание рейхстага. Орел на земном шаре, венчающем купол, выворачивает слишком длинную шею, пытаясь увидеть с высоты трехсот метров, что происходит на земле. Он окликает пролетающую мимо пустельгу, которая решила узнать, почему внизу, под облаками, все кричат «Хайль!». Из тяжелых гаубиц палят по многоквартирным домам – их сносят, потому что они стоят на пути большого бульвара. Через два года эту работу за нас сделали бомбардировщики союзников.
28 ноября 1949 года. Унылая ноябрьская погода; плотный туман окутал Шпандау. Несколько часов пытался заставить себя писать, но меня охватила апатия.
3 декабря 1949 года. Сегодня узнал от Пиза, что больше года назад фрау Ширах разошлась с мужем и вступила в новые отношения. Но, с другой стороны, в их браке ее отчасти интересовала его власть, а его отчасти интересовали ее деньги. Дети вроде бы приняли сторону отца. Первым эту новость рассказывает мне охранник – признак моей обособленности от других заключенных.
Одновременно Пиз отдает мне письмо, которое пришло по официальным тюремным каналам. Арно Брекер, говорится в нем, передает мне привет. У него дела явно идут не в пример лучше, чем у меня. Последний раз я видел его в 1941-м в Париже до того, как меня назначили министром вооружений. Мы обычно встречались в известном ресторане в Буживале на Сене, и мэтр Франсуа обслуживал нас, как старых друзей. Мы сидели на солнышке в саду, который каскадом спускался по склону холма: немецкие офицеры и французские художники, промышленники, аристократы. Иногда к нам присоединялись эксцентричные американцы. Здесь ничто не напоминало о войне, вражде, Сопротивлении.
После обеда мы иногда поднимались в небольшую квартирку Альфреда Корто на верхнем этаже и сидели на свернутых коврах, потому что стульев не хватало. Корто играл Шопена или Дебюсси. Никогда не забуду «Затонувший собор» Дебюсси в его исполнении.
Как отличались для нас с Брекером официальные мероприятия, которые устраивал вместе со своей женой Отго Абец, немецкий посол в Париже. Там французские художники держались скованно и производили впечатление замкнутых, неразговорчивых людей. Возможно, потому, что приемы устраивал победитель. Во всяком случае, в небольших компаниях, когда они не чувствовали за собой наблюдения, они были открытыми и приятными собеседниками. В посольстве им было неуютно. Куда-то исчезало обаяние и остроумие Кокто; Деспио угрюмо сидел в углу на диване под огромным гобеленом; трепетный исполин Вламинк почти не открывал рта; Дерен общался с французскими коллегами; Майоль выглядел смущенным; и Корто тоже явно чувствовал себя неловко. Даже градостроитель Гребер, который в 1937 году оказал мне дружескую поддержку при строительстве павильона для Всемирной выставки в Париже, не сказал ни слова в ответ на мое предложение помощи.
25 декабря 1949 года. Радуюсь подаркам из дома: теплые лыжные носки и календарь прошли цензуру. Тюрьма тщательно подготовилась к рождественскому ужину. Каждый из нас получил в подарок добротный темно-коричневый вельветовый костюм. Придется заказать семье две фланелевые рубашки, шарф и теплые тапочки в тон.
26 декабря 1949 года. «Мы должны быть готовы любое восстание подавить в зародыше», – заметил Гитлер в 1940-м, внимательно изучая оборонные укрепления в проекте берлинского дворца. Он решительно произнес свое любимое высказывание, которое с годами превратилось в навязчивую идею: «Повторения ноября 1918-го не будет!» И добавил: «Все, кто выйдет на улицу во время беспорядков, будут растоптаны. Враги времен Веймарской республики, где бы они ни были – в концлагере или дома, – будут немедленно расстреляны. А еще я расквитаюсь с католиками. В считанные дни сотни тысяч испустят свой последний вздох. Я всем докажу, как быстрые жесткие действия способны расправиться с революцией в самом ее начале. Тех, кто надеется на нее, ждет сюрприз». Вероятно, Риббентроп думал об этих словах, когда, спустя годы, на Нюрнбергском процессе заявил, что мы не проиграли бы войну, если бы Гитлер стоял у власти в 1914–1918 годах.
27 декабря 1949 года. Сегодня Гесс удивил нас, заявив, что снова потерял память. После всех этих лет он опять задает Шираху, Функу и мне нелепейшие вопросы. Утверждает, что никогда раньше не видел нашего английского директора, который совершает обход почти каждый день. Он с испугом спрашивает, что тут делает этот чужой человек. В саду он интересуется, кто такой Розенберг, о котором только что говорил Ширах. Мне не хочется его обижать, поэтому я покорно ему объясняю. Через полчаса появляется Функ. «Представляете, Гесс только что спросил меня, кто такой Розенберг». Интересно, что побудило Гесса снова взяться за эти старые дурацкие штучки?








