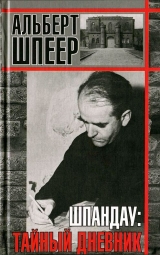
Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
Год пятый
День стирки – Конский навоз в камере Шираха – Русские запретили ёлку – Гитлер и «красные» испанцы – Гесс изобретает освещение для автомобильных дорог – Последняя поездка Гитлера в Линц: планы строительства, его могила, фестиваль Брукнера, сталелитейный завод – Воображаемый театр – Грубые шутки Гитлера – Мой сад камней в Шпандау – Эксперименты с горохом и фасолью
6 октября 1950 года. Директора урезали свидание с женой до сорока пяти минут, хотя по правилам мне полагается один час. Русский директор может воспользоваться своим правом вето и наложить запрет на суммирование времени посещений.
Я стал скромен в своих желаниях: я был рад даже этому укороченному свиданию с женой через двойное стекло. Большую часть времени мы просто смотрели друг на друга, напряженные и подавленные, а минуты мучительно отсчитывали свой ход. Ни она, ни я не могли вести себя «естественно»: мы не актеры.
Всегда жизнерадостный Пиз молча поманил меня к смотровому отверстию в железной двери. Я смотрел вслед жене, пока она не скрылась за внешними воротами. Она торопилась покинуть это место, и я разделяю ее чувство. Но в этот раз при прощании она казалась более спокойной.
7 октября 1950 года. После свидания провел бессонную ночь. Меня переполняла тревога. Вопреки моему совету, жена решила ехать на машине через русскую зону, а не лететь самолетом. Боюсь, как бы с ней что-нибудь не случилось; в полудреме мне даже привиделось, что ее арестовали. Но утром в камеру с улыбкой заходит Террей и ободряюще шепчет: «Вам телеграмма». В правилах не предусмотрено телеграфное сообщение, поэтому я никогда ее не получу.
9 октября 1950 года. По ночам часто слышу нашего петуха значит, сплю плохо. Он кукарекает между двумя и тремя часами ночи, когда в тюрьме стоит полнейшая тишина. Пауза. Потом издалека доносится едва слышный ответ другого петуха. Примерно полчаса они переговариваются на расстоянии пары километров. Что объединяет этих двух петухов? Может, они росли вместе? По соседству есть много других, но нашему явно нужен тот, далекий.
14 октября 1950 года. Начал двухнедельный курс лечения сном.
Следующий отпуск подобного типа собираюсь взять в марте, и, таким образом, монотонное течение года обретет ритм. Это также помогает мне организовать свою тюремную жизнь. Ширах и Функ давно сдались и каждую ночь принимают снотворное, из года в год. По-моему, это опасно для здоровья, а с психологической точки зрения, по меньшей мере, недальновидно.
22 октября 1950 года. В середине курса лечения я уже чувствую прилив жизненной энергии. Накопившаяся нервозность и другие проблемы испарились. Я полон сил. Даже мир снов утратил свою бесцветность: прошлой ночью я побывал в большом соборе в романском стиле, хотя смутно чувствовал, что нахожусь в тюрьме. Я встретил архиепископа в праздничном облачении. Мы шли по великолепным залам. Иногда нам попадаются группы посетителей, которые почтительно с ним здороваются. Его авторитет льстит мне. Мы поднимаемся по ступеням. Забираемся на вершину башни, и вдруг я понимаю, что стою на внешней стене, на осыпающемся оконном выступе. У меня кружится голова, и я каким-то образом на четвереньках заползаю внутрь. Мы мило беседуем на разные темы. Под конец архиепископ просит меня прочитать праздничную проповедь по случаю Пасхи. Я объясняю, что я светский человек и протестант в придачу, но его это не разубеждает. Я привожу новые Доводы: если я прочту проповедь, Советский Союз сделает крайне нежелательные выводы и выступит против моего Досрочного освобождения. Этот аргумент заставил архиепископа изменить решение.
30 октября 1950 года. Понедельник, день стирки. Дёниц с Ширахом стирают наши носки в большом чугунном баке. В тридцати метрах от них мы с Гессом полощем нижнее и постельное белье в ванной комнате. Охранники разделились; один из них следит за пятью заключенными, которые остались в тюремном блоке, а другой идет вместе с нами в ванную. Это создает больше возможностей для разговора. Ванная комната – главная база новостей.
Стоукс, обычно неразговорчивый и неприступный, рассказывает, что северные корейцы сейчас со всех ног удирают от американских войск. Преследователи при поддержке других сил ООН наступают к реке Ялу, которая служит границей между Кореей и Китаем. Неожиданный поворот событий; теперь может произойти все что угодно. Я бросаю грязное белье в чан, рассеянно насыпаю мыльный порошок – в три раза больше, чем нужно, разжигаю огонь и кипячу воду. Тем временем Гесс рассуждает о продолжительности военных действий, которые, считает он, могут переместиться в Китай.
Дёниц просит меня помочь ему отнести железный бак в ванную. На полпути мы без сил опускаем нашу ношу на землю.
– Что вы делаете с грязной водой, когда приносите ее в ванную? – спрашиваю я Дёница.
– Вы правы. Выливаем! Надо было сделать это прямо там, в корпусе!
1 ноября 1950 года. После трех лет бесплодных ежедневных обысков в камерах сегодня русские кое-что нашли в кровати Шираха: шарик конского навоза, аккуратно завернутый в бумагу – предположительно, это тот навоз, который мы используем в саду. Охранники не знают, кто позволил себе такую шутку, но она вызвала страшный переполох. По приказу начальника охраны Летхэма вещественное доказательство поместили на стол в пустой камере, соседнюю комнату закрыли на два замка. На стол направлен луч небольшого прожектора. После донесения Летхэма примчался британский директор; камеру открыли и отключили прожектор. Группа молча разглядывала лежащий на столе предмет, потом директор направился к выходу, и все остальные в смущении и негодовании поспешили за ним.
Только дверь в камеру тщательно закрыли, как появился русский директор. Он задал несколько вопросов, потребовал снова открыть дверь и без слов осмотрел объект преступления. Это повторялось еще два раза, поскольку американский и французский директора тоже захотели изучить вопрос, хотя бы для соблюдения требований протокола. Через некоторое время стало известно решение дирекции: конский навоз перенести в секретариат тюрьмы. Место его погребения будет определено позже. Этот вопрос, несомненно, будет обсуждаться на следующем заседании четырех директоров.
2 ноября 1950 года. Нелепая ассоциация. Описывая сцену осмотра шарика конского навоза в луче прожектора, я совершенно не к месту вспомнил, как Гитлер после изучения проектов строительства нового Берлина приказал поместить на большой купол глобус земного шара в качестве опоры для гигантского орла. «Он должен держать глобус в своих когтях», – решил Гитлер. Мне немного стыдно из-за этой крайне прозаической ассоциации. Наверное, ее навеял прожектор, который присутствовал в обоих случаях. Кто знает?
3 ноября 1950 года. Недавно переписал отрывок из «Степного волка» Германа Гессе о том, что каждый человек, какой бы неприметной ни была его роль в обществе, должен попытаться не усиливать напряженность, которая существует между людьми.
Но Шпандау! Западные охранники делают глупые замечания после успехов своих войск в Корее: «Всех русских надо убить». Некоторые заключенные охотно с ними соглашаются. Время от времени я указываю то одному, то другому, что они снова забывают разницу между борьбой с доктриной и борьбой с целым народом. Теперь кое-кто говорит – сегодня я слышал это не раз, – что я поддерживаю коммунистов. Взгляды, которые я приобрел во время Нюрнбергского процесса, осознав, что слишком долго шел ошибочным курсом, становятся непопулярными.
8 ноября 1950 года. Только что ко мне заходил Функ и сказал, что жена Шираха получила развод. Ему не разрешили встретиться с адвокатом, хотя это не политическое, а гражданское дело. Мне кажется, тюремные власти должны были бы обеспечить ему юридическое представительство. Ширах не выглядит слишком расстроенным. Но, возможно, он просто держит себя в руках. Мне его жаль.
11 декабря 1950 года. Сегодня из нелегального письма моего бывшего секретаря узнал, что несколько недель назад военная ситуация в Корее развернулась на 180 градусов. Двухсоттысячная китайская армия полностью деморализовала войска ООН, ведущие бои под руководством американцев. Они отступали, и, очевидно, в этой отчаянной ситуации встал вопрос об использовании атомной бомбы. Охранники от западных держав, которые всегда держат меня в курсе успехов своих войск, ничего мне об этом не говорили.
Хорошо, что мы не получаем газет. Чтение новостей повергло бы нас в уныние; так было во время суда в Нюрнберге. Только бы это не привело к войне!
12 декабря 1950 года. В часовне висит рождественская гирлянда. Зажгли третью свечу. В прошлое Рождество при посредничестве капеллана Казалиса прихожане церкви св. Николая в Шпандау подарили нам красиво украшенную елку. К несчастью, Казалис совершил ошибку, поблагодарив людей от нашего имени. Берлинская пресса ухватилась за этот случай, разукрасила его глупыми сентиментальными подробностями, и в итоге русский директор так разозлился, что в этом году не разрешил нам поставить елку. Но в конце концов смилостивился и позволил повесить рождественскую гирлянду.
20 декабря 1950 года. Вот уже несколько дней вокруг Гесса идет какая-то мерзкая возня. Он все время жалуется на боль, говорит, что не может встать с кровати. Недавно охранники, якобы по приказу директоров, подняли Гесса вместе с матрасом – он так истощен, что почти ничего не весит, – и, не обращая внимания на его крики, сбросили на пол. В ответ на мой протест против такого грубого обращения один из охранников сказал: «Нам же запрещено прикасаться к заключенным, не так ли?» И ухмыльнулся.
23 декабря 1950 года. Утром Гесс не успел съесть завтрак за положенные полчаса. Он жалуется на спазмы желудка. Дежурный русский охранник, несгибаемый Гурьев, приказывает мне забрать у Гесса еду. Когда я отказываюсь, он повторяет уже резче: «Унесите еду». Я снова отказываюсь, и так продолжается раз шесть-семь: приказ и отказ, угроза наказания. Наконец, Гесс обращает на нас внимание и спрашивает, из-за чего мы спорим. Услышав мои объяснения, он машет рукой: «Ой, перестаньте, заберите еду». Конфликт исчерпан. Гурьев спрашивает с неподдельным интересом: «Почему вы отказывались?» Я объясняю, что не хочу быть инструментом властей против товарища. Он минуту обдумывает мои слова, потом внимательно смотрит на меня и согласно кивает.
23 декабря 1950 года. Рождественское утро началось со спора в камере Гесса. Новый строгий начальник охраны по фамилии Ковпак требует, чтобы Гесс умылся. Гесс громким голосом отвечает, что умывался накануне вечером. Вмешивается Стоукс и говорит, что нормальный человек моется три раза в день. Гесс отвечает: «Я нормальный и моюсь один раз в день». После этого спор становится жарче, и в паузах Гесс кричит, стонет и молит о сочувствии. Наконец он позволяет увести себя в умывальную комнату, но отказывается идти за завтраком, заявив, что его принесет Шпеер. Когда ему говорят, что это против правил, Гесс с былым высокомерием объявляет, что в таком случае он не будет завтракать.
24 декабря 1950 года. Прошлой ночью у Нейрата был легкий приступ стенокардии. Утром он рассказал об этом, пожимая плечами. По словам санитара, врачи боятся, что Нейрат может умереть в считанные часы, что у него очень высокое давление. Но «старый дворянин», как все его тут называют, не подает вида; он приветлив и спокоен.
Никакого рождественского настроения, и, на мой взгляд, так даже лучше. На нашем рождественском концерте, который уже почти превратился в традицию, мы слушали пластинку с записью великого Пятого концерта Бетховена Для фортепиано, ми-бемоль мажор, в исполнении Вильгельма Кемпфа. Лонг в такт позвякивал ключами, но музыка так меня растрогала, что я был почти ему благодарен.
Долгое время стоял у окна и смотрел сквозь решетки. Всего в нескольких метрах от моего окна грачи делали пируэты, поблескивая иссиня-черными перьями. Они каркали и садились на землю, смешно подпрыгивая. Я невольно вспомнил легендарных ворон Кифхойзера, предвещающих несчастье.
Я собрал остатки хлеба после завтрака. Как только я появляюсь на пороге, ко мне подходит вожак стаи, всклокоченный от волнения. Старый грач со сломанным клювом следует за мной, перелетая с ветки на ветку; ему надо держаться рядом со мной, иначе ему не достанется ни крошки. Гесс с его довольно скудным чувством юмора называет меня вороньим маньяком.
Я мрачно вспоминаю последние три Рождества войны. В то время я считал своим долгом проводить этот день со строительными отрядами организации Тодта; в 1942-м – на Бискайском заливе, где строили бункеры, в 1943-м – у Северного Ледовитого океана на севере Лапландии; в последний раз – на немецко-бельгийской границе. Все еще шло Арденнское сражение, и организации Тодта было приказано восстановить разрушенные мосты. Звучали речи о стойкости; был рождественский ужин; певцы и рабочие пели песни; но никто не пел рождественских гимнов, которые мы сегодня пели вшестером со слезами на глазах. Почему мне ни разу не пришло в голову, что рабочим, возможно, не хватает гимнов?
В 1942-м мы праздновали Рождество в окрестностях Бордо. За ужином начальник строительной бригады сказал, что группа бывших испанских коммунистов, которых интернировали в соседний лагерь, приглашают меня на рождественский прием. Без сопровождения отряда СС – в конце войны этой чести, кроме Гитлера и Гиммлера, удостаивались только Дёниц, Борман, Кейтель, Риббентроп, Функ и Геббельс – я с небольшой свитой поехал в лагерь. Прием уже начался. Один испанец коротко представил меня собравшимся; толпа ответила редкими хлопками. Артисты исполняли народные танцы и другие популярные произведения, каждое выступление заканчивалось под гром аплодисментов. Холодный прием, который мне оказали в начале, сменился оживлением, когда я выставил на стол приличный запас вина и сигарет. Эти испанцы, сражавшиеся за Республику, в конце Гражданской войны бежали через Пиренеи во Францию, и вот уже три года их держат за колючей проволокой. Это были смелые люди с приятными лицами; мы просидели далеко за полночь и тепло расстались.
Две недели спустя я рассказал Гитлеру об этом случае и попросил обеспечить привилегированное положение для этих испанцев. Они ненавидели Франко, который вынудил их бежать, говорил я, а также французскую демократию, которая бросила их за решетку.
– Очень интересно, – воодушевился Гитлер. – Вы слышали, Кейтель? Вам известно, что я думаю о Франко. Когда мы собирались встретиться два года назад, я все еще считал его настоящим лидером, но увидел толстого маленького сержанта, который был не в силах понять мои далеко идущие планы. Мы оставим этих «красных» испанцев про запас – ведь их тысячи. Они потеряны для демократии и для реакционной клики Франко тоже – так что с ними у нас есть шанс. Я, безусловно, верю вам, Шпеер, верю, что они – удивительные люди. Должен сказать, что во время Гражданской войны идеализм был не на стороне Франко; идеалы были у «красных». Конечно, они грабили и оскверняли, но тем же занимались и сторонники Франко, причем без веских на то оснований – «красные» вымещали вековую ненависть к католической церкви, которая притесняла испанский народ. Когда я думаю об этом, многое становится понятным. Франко прекрасно знает, почему всего полгода назад возражал против того, чтобы мы задействовали этих «красных» испанцев. Но однажды, – Гитлер проткнул пальцем воздух, – однажды мы найдем им применение. Когда покончим с Франко. Тогда мы отпустим их домой. И вы увидите, что будет! Все начнется заново. Но только мы уже будем на другой стороне. Мне на это наплевать. Пусть узнает, каким я могу быть!
Гитлер не выносил возражений и не мог простить испанского диктатора за отказ следовать его планам, особенно в отношении оккупации Гибралтара. Личная злость всегда значила для Гитлера больше, чем идеологическое соглашение. В тот же день он приказал хорошо обращаться с «красными испанцами».
31 декабря 1950 года. Корниоль в хорошем расположении духа будит нас в шесть часов, напевая «Марта, Марта, ты исчезла», и открывает дверь. «Последний день года!»
1 января 1951 года. В восемь утра на смену заступил Лонг. Он был пьян по случаю праздника. Когда я сказал, что хотел бы отнести Гессу книгу, он открыл мою камеру и запер ее за мной, ничего не желая слушать о том, что пустую камеру закрывать незачем. Устроил долгий диспут по этому вопросу. Потом Лонг направился к соседней двери, выставив перед собой ключ, словно меч. Держась рукой за стену, он долго не мог попасть в замочную скважину. Я отдал книгу Гессу, и Лонг, пошатываясь и держась за стены, отвел меня обратно к камере. Но когда мы подошли к двери, он отказался ее открывать. Никакие мои слова на него не действовали. В конце концов мы пришли к компромиссу: он впустит меня в камеру Функа. Приглашающим жестом он распахнул дверь.
Смена года повергла Функа в глубокую депрессию – поскольку он приговорен к пожизненному заключению, прошедший год ни на йоту не приблизил его к свободе. Я стараюсь его развлечь и рассказываю несколько случаев из тех времен, когда я был министром вооружений – обычные, но забавные истории, к примеру, как однажды слишком нервный лейтенант арестовал меня в окрестностях Кале. К нам заглядывает Гесс, привлеченный нашим весельем: Лонг забыл запереть его камеру. Сверкая глазами, он поделился с нами идеей освещения автомагистралей. Он прочитал, что в Америке начали ставить фонари на автомобильных дорогах. Но, конечно, это сплошное расточительство, как и все в Америке. В Германии, считает он, расходы можно окупить намного проще – ведь тогда машинам не нужны будут передние фары. Это сэкономит электричество, утверждает он, а на сэкономленные средства можно поставить прожекторы. Я возразил, что генераторы все равно будут работать, подавая ток к свече зажигания. Гесс отмахнулся; генератор можно отключить, как только зарядится батарея. Таким образом, энергия будет накапливаться, топливо – экономиться, и все сэкономленные деньги можно будет пустить на освещение дорог. Учитывая, сколько машин в скором времени будет в Германии, денег наберется больше, чем нужно для дорожных фонарей.
Мы слушали, онемев от изумления, потом Функ совершенно не к месту произнес:
– Во всяком случае, герр Гесс, я рад, что вы выздоровели. После недолгого раздумья Гесс строго посмотрел на меня приказал тщательно проработать эту идею. Затем, довольный собой, вернулся в камеру.
6 января 1951 года. После дневного перерыва Лонг подошел к камере Гесса и крикнул командным тоном: «В сад!» Гесс не пошевельнулся. «На выход, на выход!» Гесс со стоном заявил, что у него только что был приступ. «Нет приступ, лучше сад», – непреклонно произнес Лонг на каком-то жутком языке, считая, что говорит по-немецки. Снова долгий и шумный спор. В конце концов появился начальник охраны Террей и пробормотал: «В саду так чудесно». Ко всеобщему удивлению, Гесс вышел без дальнейших возражений.
12 января 1951 года. Имею ли я право смеяться над фантастической задумкой Гесса? Меня рассмешила не только сама нелепая идея, выношенная в его замутненном мозгу, но и его твердая уверенность в ее осуществимости, а также серьезность, с которой он поручил мне разобраться с этим вопросом. И в этом, мне кажется, кроется настоящий пережиток прошлого: убежденность, что все возможно, что действительность можно подогнать даже под самые безумные идеи. Я еще очень хорошо помню, как после 1933-го правительственные приемные заполонили толпы реформаторов и изобретателей. Все несли предложения, от которых зависело спасение нации или, в крайнем случае, прогресс человечества. И иногда кому-нибудь из них удавалось заручиться поддержкой влиятельного функционера и, соответственно, получить средства и разрешение на выполнение своего проекта. Процветало дилетантство, и хотя большинство этих безумных идей были абсолютно безвредными, некоторые из них несли в себе смерть – например, расовые теории, основанные на размерах черепа, бесполезные с научной точки зрения эксперименты на людях и многие Другие. Одним из матадоров на этой арене был Гиммлер. Но иногда я думаю, а не относятся ли планы строительства Берлина и тому подобные вещи к той же категории?
13 января 1951 года. Может быть. Может быть. Но почему мои мысли постоянно возвращаются к тому периоду? Может, я ближе к Гессу, чем мне кажется? Или это всего лишь желание чем-то себя занять, и именно оно заставляет меня собирать обрывки воспоминаний и случаи из прошлого и воспроизводить их на бумаге? Неужели действительно существует такая вещь, как простое времяпрепровождение?
Однажды в воскресенье, в начале апреля 1943-го, мы провожали Гитлера на железнодорожном вокзале в Берхтесгадене. У него был специальный поезд, который из соображений безопасности везли два тяжелых локомотива. К локомотивам был прицеплен бронированный вагон с зенитными орудиями. Всю дорогу на крыше этого вагона стояли закутанные с ног до головы солдаты, готовые в случае необходимости применить оружие. Следом шел вагон Гитлера, в центральной части которого был организован просторный салон. Стены были обшиты панелями палисандрового дерева. Скрытые лампочки, кругом идущие по всему потолку, отбрасывали синеватый свет, от которого лица приобретали трупный оттенок; поэтому женщины не любили находиться в этой комнате. Разумеется, там была кухня и помещения для личных нужд Гитлера: спальня, роскошная ванна, гардероб, приемная и комната для прислуги. Прямо к этому вагону был прицеплен «командный вагон», снабженный всевозможными средствами связи с внешним миром. Вдобавок там располагался кабинет с военными картами, и, таким образом, вагон становился передвижной ставкой фюрера. В следующем вагоне размещалась постоянная охрана Гитлера – двадцать с лишним человек. За ним шли вагоны для гостей, и в тот раз одно купе было предназначено для меня; следом – два спальных вагона первого класса, вагон для прессы и багажный вагон. Замыкал состав второй специальный вагон с зенитными орудиями.
Когда мы около шести часов утра сели завтракать за большим столом, Гитлер без умолка говорил о новом мосте Нибелунгов; он был, по словам Гитлера, воплощением его юношеской мечты. Он хотел обсудить две статуи на южном конце моста работы неизвестного мне скульптора по имени граф Плеттенберг – Зигфрид и Кримгильда, сидящие верхом на могучих конях. Еще издалека Гитлер принялся восхищаться скульптурами:
– Какая прекрасная поза! Эта мускулатура – великолепная работа! А этот прямой, открытый взгляд! Посмотри, с какой решимостью он сжимает шпагу! – Под брюхом коня извивался дракон. – Блестяще! – воскликнул Гитлер – Немецкое искусство. Обратите внимание на детали конской головы. Плеттенберг – необычайно талантливый художник.
Это был совершенно другой Гитлер. Тревоги по поводу производства танков, которые он обсуждал со мной накануне вечером, отошли в сторону.
– Вы только посмотрите на Кримгильду! – продолжал он. – Какое восхитительное тело. Графу, наверное, позировала его жена. А поза – само совершенство!
Хотя по замыслу статуя должна была олицетворять скромность, в облике этой полуобнаженной Кримгильды с полутораметровыми косами было что-то развратное.
Я прошептал кому-то из стоящих рядом со мной людей, что огромная выпирающая грудь станет идеальным гнездом для голубей.
– Вы что-то сказали? – резко спросил Гитлер. Потом продолжил: – На другом конце моста, вон там, будут стоять Гюнтер и Брунгильда. Плеттенберг уже сделал превосходные эскизы. Как только все будет готово, основа для создания города искусств – каковым я вижу Линц – будет заложена. Видите, какой запущенный вид у берега Дуная? Я хочу, чтобы Гислер поставил там дома – один краше другого. Но прежде всего в Линце необходимо построить новый музей и новый оперный театр. Он стоит в горах, и его расположение гораздо удачнее, чем у Вены или Будапешта. Вон там, на склоне холма, мы построим стадион; оттуда будет великолепный вид на панораму города. Мы уже нашли первоклассный оркестр для оперы, оркестр Св. Флориана; Йохум сделает его одним из лучших в мире.
Хотя Гитлер рассказывал о своих планах с серьезным, я бы даже сказал, торжественным видом, создавалось впечатление, что это говорит не взрослый человек, а ребенок. На долю секунды мне показалось, что все это не более чем детская игра в кубики, только с большим размахом. Но я быстро подавил в себе эту мысль. В конце концов, ландшафт здесь действительно красивее, чем в Вене или Будапеште, расположенных ниже по Дунаю. Линц в самом деле производил впечатление сонного, застоявшегося болота. И что плохого, если он хочет превратить родной город в культурную столицу?
14 января 1951 года. Теперь и советским охранникам выдали ботинки на резиновой подошве. Тараданкина, который ночью громко шагал по коридору, стуча каблуками с железными подковами, заменили. Теоретически новую обувь заказали из сочувствия к заключенным, которые до последнего времени просыпались всякий раз, когда охранники совершали ночной обход. Но эта забота создает для меня проблемы, потому что теперь я практически не слышу приближения охранников.
15 января 1951 года. Еще несколько заметок по Линцу (поскольку вчерашние записи пришлось отослать). Помимо большого дворца заседаний, Гитлер хотел построить гигантскую башню высотой 160 метров. Он позволит лишь Ульмскому собору сохранить свою «рекордную высоту» в 172 метра. А вот венский собор Святого Стефана будет превзойден, заметил он, причем намного. Помню, Гитлер сказал: «Таким образом я восстановлю справедливость в отношении епископа Рудигиера. Он хотел построить башню для церкви Линца, которая была бы выше колокольни Св. Стефана. Из Вены пришел приказ, что линцская башня должна быть на два метра ниже венской». Думаю, именно в тот день Гитлер под влиянием собственного энтузиазма впервые объявил, что когда-нибудь его саркофаг поместят в новую достопримечательность Линца, самую высокую башню Австрии.
Склеп австрийских императоров в Вене, усыпальницы прусских королей в гарнизонной церкви в Потсдаме и могила Наполеона I в Доме инвалидов в Париже произвели на Гитлера глубокое впечатление, и его мысли постоянно возвращались к собственному надгробному памятнику. Сначала он хотел быть похороненным вместе с жертвами путча 9 ноября 1923 года, в таком же железном саркофаге на площади Кёнигсплац в Мюнхене. Соединиться после смерти со старыми друзьями по партии было бы красивым жестом, считал Гитлер. Его также привлекала идея погребения под открытым небом. Поддавшись романтическому настроению, он утверждал, что солнце, дождь и снег объединяют эти могилы с вечными силами природы; или же говорил, что у него всегда сжимается сердце, когда он выглядывает из окна своего кабинета на Кёнигсплац и видит, как снежная мантия на тех саркофагах тает под лучами весеннего солнца. Иногда Гитлер также упоминал захоронение в усыпальнице линцской башни. В тот день в Линце он явно представлял свою могилу высоко над городом, в верхней части башни. Но потом он иногда говорил о собственной, отдельной могиле в Мюнхене, для которой он собирался делать эскизы.
Удивительно, но Гитлер никогда не думал о том, чтобы быть похороненным в столице завоеванной им империи; во всяком случае, за двенадцать лет я ни разу не слышал от него о подобном желании. Он часто говорил о своей могиле как о средстве политического влияния на нацию, которое нельзя недооценивать. И в самом деле, когда я слушал его рассуждения на эту тему, у меня часто возникало ощущение, что он мечтал о помпезном мавзолее для себя не столько из жажды славы, сколько из политических побуждений. Он руководствовался теми же мотивами, когда говорил, что хочет хотя бы год править рейхом из дворца фюрера в Берлине – тогда здание пройдет сакраментальный обряд посвящения. В то время его идеи казались мне бескорыстными; сегодня я понимаю, что они были высшей формой самовосхваления и исторического тщеславия.
В тот день нашей целью был металлургический завод Линца, где находился крупнейший в Германии цех по сборке наших сверхтяжелых танков. У нас оставалось немного времени, и Гитлер провез нас по местам своей молодости. Он показал нам гостиницу на берегу Дуная, где в 1901-м почти год жил Карл Май. Потом мы проехали мимо бывшего дворца барона фон Туна, где в 1783 году Моцарт написал Линцскую симфонию. У Земельного театра мы выбрались из машины и вошли в огромный зал, построенный, по всей видимости, в начале восемнадцатого века. Здесь все пришло в запустение; плюшевая обивка кресел вытерлась и порвалась; занавес запылился. Но Гитлер, казалось, этого не замечал. Он с волнением показал нам дешевые места на галерке, откуда он впервые увидел «Лоэнгрина», «Риенци» и другие оперы. Потом жестом дал понять, что хочет остаться один. Какое-то время он с отсутствующим взглядом мечтательно смотрел куда-то вдаль. Между тем мы в некотором смущении стояли в стороне; никто не осмеливался шевельнуться, и прошло минут пять, прежде чем Гитлер вернулся к действительности.
– Теперь в замок, пожалуйста, – произнес он тоном хозяина и одновременно музейного экскурсовода.
Мы прошли через арочные ворота и оказались в знаменитом внутреннем дворе замка Ландхаус с его трехэтажными аркадами.
– Здесь вы видите, на что были способны гордость бюргеров и самоуверенность патриция четыреста лет назад. Если вы сравните Линц того времени с его тремя тысячами жителей с сегодняшним городом и задумаетесь о его развитии в будущем, мои планы в отношении этого города не покажутся вам слишком экстравагантными.
Мы проехали еще несколько сот метров к так называемому Земельному музею.
– Его построил Бруно Шмитц, – рассказывал Гитлер. – Серьезный архитектор, как вам известно. В молодости я часто совершал паломничество сюда и любовался всем этим великолепием. Посмотрите на эти ворота – какие роскошные украшения! А эта стеновая панель со скульптурным орнаментом. Ее длина – больше ста метров. А некоторые уверяют нас, что это был период упадка! Что это искусство распада. Отнюдь. Я сам думал о чем-то подобном, когда делал наброски фриза для моей триумфальной арки после тюремного заключения в Ландсберге. Брекер сделал превосходные эскизы, но эти ничем не хуже. Правда, потом мои вкусы изменились под влиянием Трооста. Но сейчас, когда я опять вижу это здание, должен признать, что оно остается одним из высших достижений немецкой архитектуры.
Через полчаса мы прибыли на металлургический завод, который установили здесь только после присоединения Австрии. Нас уже ждали Гудериан, генеральный инспектор бронетанковых войск, и гауляйтер Эйгрубер.








