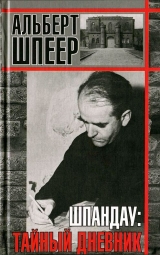
Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
14 марта 1952 года. Моя склонность принижать себя, обвинять себя, безусловно, заводит меня слишком далеко. В конце концов, не я один попал под его странное обаяние. Видные государственные деятели тоже были им очарованы, к Примеру Гинденбург, Ллойд-Джордж, Муссолини и многие другие. Он не только толпу дергал за ниточки; он был отличным психологом и блестяще манипулировал людьми. Он чувствовал страхи и ожидания каждого собеседника. Вероятно, он не был столь уж великим политиком, как мы думали в то время, и, безусловно, как показала вторая фаза войны, не был выдающимся полководцем. Но он был и остается непревзойденным психологом – другого такого я никогда не встречал. Я легко могу себе представить, что когда-нибудь историки назовут его великим именно в этом смысле.
Даже как военачальник он больше думал о психологическом воздействии оружия, чем о его боевой мощности. Это качество проявилось еще в то время, когда он разрабатывал сирену для «Юнкерсов» и считал, что сводящий с ума вой действует эффективнее, чем разрывная сила бомб. Его странности проявились в необычных и неудачных, в военном отношении, формах, когда автоматы были готовы к производству, а он месяц за месяцем откладывал их массовый выпуск, потому что, по его словам, винтовка вынуждала солдата научиться хорошо стрелять и обращаться со штыком и, следовательно, развивала боевые качества. Эта склонность придавать любой военной технике психологическое значение дошла до абсурда, когда он попросил меня и Роммеля разработать автоматически вращающиеся огнеметы, работающие по принципу машин для поливания газонов. Они, уверял он, станут главным средством защиты против вторжения. Судя по опыту Первой мировой войны, для солдата нет ничего страшнее направленного на него снопа пламени. Мысль о том, что можно сгореть заживо, сеяла панику, между тем смерть от пули всегда настигала неожиданно и считалась почетной.
К весне 1944-го было выпущено больше двадцати тысяч огнеметов. Некоторые из них предполагалось поставить на минных полях вдоль Атлантического побережья; стрельба из них велась автоматически. Кроме того, он собирался поджечь нефтяные резервуары с помощью дистанционного Управления и превратить район высадки в огромное море огня. Возражения военных экспертов были для него пустым звуком, если он начинал разглагольствовать о разрушительном психологическом воздействии.
27 марта 1952 года. Сегодня Пиз рассказал мне, что на Потсдамском шоссе в Ванзее, в самом центре американского сектора стоит русский танк Т-34 – это памятник победе над Берлином. Похожие памятники установили по всей Европе, говорит Пиз. По большому счету, это гитлеровская идея, которая, должен признать, всегда вызывала у меня чувство неловкости. Летом 1941-го, за три дня до нападения на Советский Союз Гитлер, его личный врач Карл Брандт и я прогуливались по широким гравийным дорожкам в парке рейхсканцелярии. Слева за деревьями простирался длинный желтый фасад канцелярии с большими окнами в рамах из серого известняка. По обе стороны аллеи через равные промежутки стояли статуи; здесь была скульптура человека, укрощающего быка, работы Луи Туайона – я сам ее устанавливал; обнаженная женщина работы Фрица Климша; а перед личным крылом Гитлера, в том месте, где мы делали поворот, стояла бронзовая греческая статуя: Посейдон, повелитель бури, гневно вонзает трезубец в море. Ее выловили в океане близ мыса Сунион. Но на каждом круге мы также проходили мимо моделей танка, T-IV, которые напоминали Гитлеру о его бульваре победы в Берлине. Слева и справа от этого широкого проспекта, протянувшегося на несколько километров, как аллея сфинксов в Карнаке, на мраморных пьедесталах должны были стоять захваченные у врага орудия. Я всегда испытывал инстинктивную неприязнь к этой идее; теперь при виде стоящих бок о бок классических скульптур и технических агрегатов это чувство стало еще сильнее. Я в вопросительной форме высказал свои сомнения Гитлеру, но он меня не слушал. В ответ он обрушил на меня целый поток слов о том, какое удивительное, незабываемое впечатление производит демонстрация военных побед. Тот факт, что его – и моя – архитектура использует традиционные стилистические элементы, колонны, аркады, карнизы, пилястры, вряд ли совместимые с гусеницами бронетранспортеров или с орудийными стволами и лафетами, казалось, волновал его не больше, чем сейчас русских. Он видел только внешние эффекты, поэтому смотрел на все глазами эклектика и без колебаний ставил рядом купола и моторы, аркады и пушки.
Снова задавался вопросом, на чем была основана моя неприязнь. Почему бараны и сфинксы в Египте или даже более поздняя скульптурная композиция – Львиные ворота Хетгера рядом с мои родным городом – не вызывают во мне чувства эстетического неприятия и даже кажутся экспрессивными? Ответ, по-видимому, кроется в том, что продукты промышленности не годятся для увековечивания. Для достижения настоящей импрессии, а не просто внешнего эффекта, к которому стремился Гитлер (или русские), памятник должен обладать мифическими свойствами. Техника всегда противостоит мифологии. Ручка Гёте может стать экспонатом музея, а пишущая машинка Цукмайера или Хемингуэя – нет. Меч Ахиллеса – не ружье, а копье Хагена – не огнемет. Гитлеровский бульвар победы выглядел бы нелепо.
1 апреля 1952 года. Вчера Нейрат перенес тяжелый сердечный приступ. Взволнованная беготня по коридору и сдавленные крики. Сегодня мы услышали, что он был при смерти. Но, похоже, появилось некоторое улучшение. Во всяком случае, сегодня обстановка относительно спокойная. Недавно мне показалось, что отношения между нами потеплели, хотя он всегда остается аристократом и держится отстраненно. Но он единственный из моих товарищей по заключению, чье отсутствие стало бы для меня потерей.
2 апреля 1952 года. Американский директор сообщил нам, что нас будут учить плести корзины. Мы считаем, что это – дискриминация, несовместимая с нюрнбергскими приговорами. Нас не приговаривали к исправительным работам или принудительному труду.
Посовещавшись, мы все решили, что должны твердо держаться своей позиции. Меня попросили написать моему Другу в Кобург. Он должен узнать у адвоката Дёница, может ли отказ стать поводом для наказания или препятствием для амнистии.
8 апреля 1952 года. Сегодня пришел ответ от Кранцбюлера. Он пишет, что нам не следует провоцировать инциденты, но наказание никоим образом не может повлиять на возможную амнистию. Адвокат, похоже, пребывает в заблуждении по поводу нашего положения – в этом же письме он говорит, что крайне важно, чтобы западные начальники тюрьмы относились к нам как к джентльменам!
11 апреля 1952 года. Утром нас вызвали в вестибюль на урок по плетению корзин. Мы единодушно заявили, что не будем выполнять эту работу без прямого приказа. Никто из присутствующих охранников не выразил желания предъявить нам требование в форме приказа. Тогда мы молча разошлись по камерам, оставив сердитого Джона Хокера наедине с ивовыми прутьями. На прошлой неделе Хокера направили – подумать только! – в психиатрическую больницу Витгенау для обучения искусству плетения корзин. Через несколько часов американский директор известил нас, что мы не обязаны плести корзины. Но русский директор, который с самого начала был против этой затеи, изменил свое мнение из-за нашего сопротивления. Теперь он требует, чтобы нас заставили плести корзины.
15 апреля 1952 года. Сбит с толку. Все время возникают новые проблемы. Во всех прежних спорах по поводу моего поведения в прошлом, спорах с самим собой и другими, мне приходилось признавать, что я не всегда отличал хорошее от плохого, но знал, что никогда не был предателем. Преданность была, так сказать, последним убежищем для моего самоуважения. Сегодня я получил по тайному каналу письмо от одной англичанки, некой миссис Анны Фримантл, которое она написала моему кобургскому приятелю. На первый взгляд, ее слова льстят моему самолюбию: из всех осужденных в Нюрнберге, пишет она, только я вызываю у нее и ее подруг, вдов Фрейтага фон Лорингофена и Адама Тротта цу Зольца, казненных за участие в заговоре 20 июля, уважение и даже некоторую симпатию. Она, миссис Фримантл, решила что-нибудь предпринять для облегчения моей участи и недавно рассказала о своем намерении друзьям, Бертрану Расселу и Жаку Маритену. По мнению обоих, я типичный преданный человек, но преданность – не такая уж добродетель, потому что преданность всегда предполагает определенную нравственную слепоту у того, кто предан. Если бы кто-то действительно знал, что такое добро и что такое зло, преданность бы осталась за бортом, сказали они.
Несколько часов нахожусь во власти неистовых эмоций. Не могу думать. С такой логикой мне не справиться. Она выбивает почву у меня из-под ног. По крайней мере, меня немного утешает, что я был предан не только Гитлеру, но и заговорщикам. Перед моими глазами до сих пор стоит картина: мы с Штауффенбергом после совещания в Бергхофе. Кроме нас двоих, присутствовали только Гитлер, Гиммлер, Геринг, Кейтель и Фромм. Мы с Штауффенбергом стояли у подножия широкой лестницы и разговаривали – это было за две недели до покушения. Штауффенберг держал в руке тяжелый портфель, в котором, предположительно, уже тогда лежали взрывные устройства; и на следующий день после 20 июля, когда стали известны подробности покушения, я вспомнил, что на совещании он поставил портфель рядом с моим стулом. Теперь же после утомительного заседания, в ходе которого Геринг, Гиммлер и Кейтель лишь согласно кивали в ответ на монологи Гитлера, Штауффенберг заметил, что все они здесь – оппортунисты и психопаты, что никто не осмеливается открыть рот. «С вами еще приятно разговаривать, но с теми идиотами говорить бессмысленно». Он так и сказал – «идиотами», и на мгновение я пришел в ужас. Хотя все мы иногда критиковали, нам было о чем поворчать, но мы никогда не позволяли себе употреблять такие слова. Я ничего не ответил Штауффенбергу, меня удержали остатки преданности Гитлеру. Но, по крайней мере, я не предал ни его, ни Штифа, ни Фромма, ни многих других, кто доверял мне и в моем присутствии критиковал некомпетентность наших лидеров. Полагаю, хотя бы это можно сказать в мою пользу.
17 апреля 1952 года. По-прежнему размышляю о преданности. Все не так просто, как мне казалось позавчера. Теперь, когда я всерьез задумался над этим вопросом, меня внезапно осенило, что в Третьем рейхе ни одно слово не звучало так часто, как слово «преданность». Его произносили все – не только Кейтели и Кессельринги, но и Бломберги, Манштейны и Клюге, все пользовались им, чтобы избавиться от сомнений. Не говоря о гауляйтерах, если они были способны на какие-то суждения. Даже испорченный и развращенный Геринг сказал мне во время долгой беседы в Каринхалле, что мне будет проще порвать с Гитлером, чем ему; что он должен быть преданным.
А сейчас я спрашиваю себя: может, преданность была всего лишь ковром, которым мы прикрывали нашу нравственную наготу: отсутствие решимости, страх ответственности, трусость, все те банальности, которые мы напыщенно назвали своим «долгом». Моя преданность всем подряд – Гитлеру, а также Штауффенбергу, рабочим-рабам, к которым я хорошо относился, и Заукелю, который сгонял их для меня – что это, если не некая форма безнравственности? Слишком поздно я начинаю понимать, что существует только один достойный вид преданности: преданность нравственности.
18 апреля 1952 года. Сначала хотел ответить миссис Фримантл. Теперь отказался от этой мысли.
19 апреля 1952 года. Причиной приступов Гесса часто становятся мелочи, которые он отказывается выполнять – требование выйти в сад или помыться, убрать камеру и вообще все, для чего необходимо двигаться. Угроза плетения корзин тоже вызвала у него приступ. Хотя угрозы уже нет, Гесс по-прежнему часами жалуется и стонет. Ночью тоже. В пустом коридоре звучит жутко. Никто не знает, он в самом деле испытывает боль или нет. Даже врачи, которые ему верят, сомневаются, что существует какая-то органическая причина, так как рентген ничего не показал.
20 апреля 1952 года. У каждого из нас бывают вспышки плохого настроения и тюремного психоза. Сейчас Ширах, похоже, вошел в штопор. Он открыто разорвал со мной отношения и даже перестал отвечать на мои приветствия. Не знаю почему. С другой стороны, в последнее время улучшились отношения с Дёницем.
Стирка закончена. Идет дождь. Кстати, сегодня был бы день рождения Гитлера.
22 апреля 1952 года. В саду выздоровевший Нейрат направляется к клетке с кроликами. Наблюдать за дикими кроликами – вот и все, что осталось этому некогда страстному охотнику. Несколько недель назад родные прислали ему его старую охотничью куртку – грустное напоминание. «Как часто я носил ее в своем охотничьем домике в Бальдершванге», – говорит он и пускается в красочное описание пейзажа, леса и дичи. Он никогда не говорит о работе на посту министра иностранных дел и о своих ссорах с Гитлером; он безучастно слушает нас, когда мы порой вспоминаем прошлое. Иногда мне кажется, что его отношение может в равной степени свидетельствовать как о снисходительности так и о равнодушии. Возможно, у него есть собственные мысли на этот счет. Сегодня Нейрат рассказал мне, как, будучи молодым управляющим при королевском дворе, спас принцессу Марию, будущую королеву Англии, во время пожара во дворце в Штутгарте, и как потом, став послом в Лондоне, регулярно поставлял ей яблоки из фруктового сада в окрестностях Кирхгайма-унтер-Тек в Вюртемберге. В молодости она очень любила эти яблоки.
23 апреля 1952 года. Молчание Нейрата раздражает; в нем присутствует какой-то элемент надменности. Что дает ему право на такую отчужденность? В конце концов, все мы несем бремя прошлого, почти в одинаковой степени, и все мы хотели бы притвориться независимыми. Я бы точно хотел.
Вечер. Во время прогулки в саду я осторожно намекнул об этом Нейрату. Старик резко остановился и медленно повернулся ко мне. Бесстрастным и отнюдь не враждебным тоном он сказал:
– О, для всех вас погиб всего лишь Гитлер и Третий рейх.
Он произнес это устало и окончательно, и я не осмелился спросить, что он имеет в виду. Кивнув мне почти доброжелательно, он продолжил прогулку. Я поплелся следом.
Конечно, все не совсем так, как сказал Нейрат. В общем-то, это даже несправедливо. В конце концов, из всех нас только я провел различие между Германией и Третьим рейхом, хотя и слишком поздно, и даже сделал логические выводы из этого различия. В Нюрнберге было множество показаний о том, как я противился приказам Гитлера об уничтожении. Неужели Нейрат не помнит, что с ноября 1944-го я настаивал на проведении этого различия даже при конфронтации с Борманом? Я специально поехал в Карин-халл, чтобы официально известить Геринга как уполномоченного по четырехлетнему плану о том, что я больше не буду подчиняться приказам Гитлера, согласно которым производство вооружения должно стоять выше снабжения народа продовольствием. Геринг сидел в своем фантастическом камзоле, который он так любил, и ответил мне почти отеческим тоном: «Мой дорогой Шпеер, я очень хорошо вас понимаю, но к чему мы придем, если все время будем отменять приказы? Такие вещи быстро входят в привычку, и вы сами не заметите, как лишитесь всякой власти». Мои возражения о том, что сейчас мы должны думать о выживании нации, Геринг отбросил обезоруживающим аргументом: «Но вы же не можете получать зарплату министра и игнорировать приказы фюрера. Скажитесь больным! Или поезжайте за границу. Я готов переводить вам деньги даже в Испанию, через Бернарда».
Я отклонился от темы. Продолжу завтра.
24 апреля 1952 года. Размышлял прошлой ночью. Может, Нейрат в чем-то прав. Во всяком случае, я внезапно понял, что здесь, в Шпандау, каждый занят собственными переживаниями и собственной ответственностью. Мы говорим об ошибках, которые совершили, об утратах, которые понесли. Мы думаем о друзьях, о семье, и если разговор становится общим, Функ с Ширахом обсуждают, перессорятся ли между собой союзники, как предрекал Гитлер. Но слово, которое всегда с такой помпой слетало с наших губ – слово «Германия» – не произносится никогда. Может быть, дело в том, что, за исключением Нейрата, среди нас нет настоящих консерваторов. Мы в разной степени техники, военные, руководители молодежного движения, карьеристы. Только для Нейрата слова «Германия», «нация» или «рейх» и аура, которая их окружает, означают нечто осязаемое, испытанное на себе. Меланхоличная сдержанность, с которой он слушает наши дискуссии, и его отношение, которое я принял за надменность, возможно, происходят из понимания, что Германия не только проиграла войну, но и лишила себя более чем тысячелетней истории. Однажды, кажется, в первые недели войны – контекста не помню – я слышал, как Гитлер гипотетически говорил о finis Germaniae (конец Германии, лат.). Нейрат – единственный среди нас, для кого это произошло. Наши споры, обвинения и встречные обвинения, все наши многословные протесты и возражения, наверное, кажутся ему вульгарными. Такое поведение помогает нам. Но не ему.
28 апреля 1952 года. Из библиотеки Шпандау прибыли шестьдесят книг, наша литература для чтения до следующей смены, которая будет через шесть недель. Из этой партии я выбрал: биографию Жана Поля, трехтомный труд лорда Картера по Тутанхамону, роман Шницлера, «Гиперион» Гёльдерлина, его письма и его биографию, письма Даутенди к жене, отчет об экспедиции на Северный полюс, жизнеописание Чингисхана, книги по Лукасу Кранаху, Мане и Фридриху Преллеру. Книги о Милане и Генуе станут заменой путешествиям.
Теперь мы также получаем книги из Берлинской центральной библиотеки в Вильмерсдорфе.
1 мая 1952 года. После разговора с Герингом, о котором я недавно писал, он пригласил меня на небольшую прогулку по лесистому парку. Была ночь. Некоторое время мы молча шли рядом. Внезапно он сказал, что должен остаться рядом с фюрером до конца войны. Но, словно в награду за откровенность, и в то же время компрометируя себя, он добавил: а что будет потом – это уже другое дело. Американцы относятся к нему с некоторой долей дружелюбия, сказал он: в последние годы иностранная пресса отзывалась о нем более благоприятно, чем о других политических лидерах Германии. Более того, его многочисленные связи с такими магнатами как Детердинг, и такими фирмами как «Дженерал Моторе», безусловно, помогут ему. У него есть свидетели, уверял он, которые подтвердят, что он хотел предотвратить войну. В Нюрнберге мне было искренне жаль, что я не сумел придти к соглашению с Герингом, и когда мы окончательно разругались во время процесса, я все время вспоминал, что он сказал мне на прощание после нашей ночной прогулки: «Кстати, не беспокойтесь, герр Шпеер. Я не доносчик».
20 мая 1952 года. Письмо от жены. У моей матери случился удар, и одну сторону ее тела парализовало; она неподвижно лежит в постели, не может говорить, и с ней больше нельзя общаться. Я должен готовиться к худшему.
27 мая 1952 года. После свидания с женой депрессия усилилась. Она привезла новые плохие новости о матери, немного поговорили, и то заикаясь. Что еще можно сказать?
10 июня 1952 года. Охранник Вагг, который обычно никогда не сообщает нам новости, со злорадством показал мне статью в газете, в которой говорится, что Государственный департамент отказал Хильде в визе.
13 июня 1952 года. Три дня назад Редер пожаловался французскому директору на Гесса, который стонет по ночам. Это действует ему на нервы, утверждает он. Майор Бресар спросил Нейрата, Дёница и меня, мешает ли Гесс нам спать тоже, но мы ответили «нет».
В девять утра майор Бресар, который обычно ведет себя достойно, вошел в камеру Гесса и заорал: «Давай, давай, подъем!» Гесс встал. Бресар приказал охранникам вынести одеяло и матрац из камеры до вечера. Гесс сел на стул и запричитал. В половине двенадцатого Пиз велел мне принести постель обратно. Через полчаса русский директор подчеркнуто дружелюбным тоном приказал мне снова вынести одеяло и матрац. Не менее дружелюбно я ответил, что не буду участвовать в применении карательных мер против моего товарища по заключению. Но Гесс вывел меня из тупика, попросив выполнить приказание.
Состояние матери остается неизменным.
14 июня 1952 года. В шесть утра по дороге в умывальную комнату вижу отчаянно жестикулирующего Бресара в камере Гесса. Постель скомканной кучей лежит на полу. Пиз даже не собирается выполнять приказ директора и вытащить Гесса из кровати силой. После ухода Бресара Пиз говорит:
– За все годы работы с заключенными ничего подобного не видел.
Русский директор, который вскоре видит сваленное на полу постельное белье, похоже, тоже испытывает неловкость.
– Никакой культуры. Это не мой приказ, ничего об этом не знаю.
Но через некоторое время Гессу сообщают, что впредь до особого распоряжения в половине седьмого утра кровать и постельное белье будут выносить из камеры и приносить обратно в половине десятого вечера.
Подозреваю, коалиция Шираха, Функа и Редера ведет хитрую игру. С одной стороны, они поддерживают Гесса в его упрямстве, с другой – подстрекают охранников к принятию жестких мер против «симулянта» и нарушителя их сна. Но когда с Гессом грубо обращаются, Функ строчит отчеты на волю, в которых преувеличивает страдания Гесса. Утром я рассказал ему, что с помощью хитрых вопросов более или менее установил, что Гесс притворяется, но Функ коротко ответил, что уже слишком поздно и он уже передал эту историю своему связнику.
15 июня 1952 года. Сегодня на двери камеры повесили уведомление, в котором говорится, что заключенный номер семь может каждое утро оставаться в постели до половины десятого, если плохо себя чувствует. Это официальное признание болезни Гесса. Однако болезнь не воспринимают всерьез: санитар говорит, что делает ему уколы всего лишь дистиллированной воды – эту уловку часто используют с истеричными людьми.
Утром в медицинском кабинете Редер раздраженно выговаривает охранникам Хокеру и Ваггу, что они напрасно пошли на попятную, что с Гессом надо вести себя жестко; на самом деле ничего у него не болит. Услышав это, Дёниц пришел в ярость. В умывальной комнате он говорит Нейрату и мне:
– Редер поплатится за это в лагере для военнопленных. И, на мой взгляд, он этого заслуживает. Он ведет себя ужасно не по-товарищески. Гесс имеет право симулировать, если ему так хочется. Мы должны поддерживать его. Не надо говорить ему, что вместо успокоительного ему колют воду. Неизвестно, что он тогда сделает.
17 июня 1952 года. Через четыре дня Гесс сдался. Теперь он встает в положенное время, педантично соблюдает распорядок дня. Сегодня мы вытащили одеяла в сад и развесили на солнце. Гесс принес только одно одеяло, перекинув его через руку. Следом за ним, как какой-то лакей, трусил начальник охраны Террей с остальными пятью одеялами.
Стараясь отвлечь Гесса, я сажусь рядом с ним на скамью и завожу разговор. К нам подходит Нейрат в сопровождении Дёница и спрашивает:
– Как звали того человека, который ратовал за создание Пан-Европы?
– Куденхове-Калерги, – отвечаю я.
После недолгого молчания Гесс интересуется:
– Почему вы помните Куденхове-Калерги?
– Мой отец был сторонником объединения Европы, – поясняю я.
– Пан-Европа – хорошая идея, – задумчиво произносит Гесс. – Но, к сожалению, ее поддерживает только одна европейская нация – та, что в определенный период времени занимает главенствующее положение в мире.
Я рассказываю Гессу, что осенью 1943-го хотел создать европейскую систему производства. Но Риббентроп благополучно зарубил мою идею на том основании, что только он, министр иностранных дел, должен решать все вопросы сотрудничества с другими странами. Гессу становится интересно.
– Что вы собирались делать?
Я объясняю, что хотел объединить разные отрасли производства по всей Европе в «кольца» по аналогии с системой организации, которую я внедрил в своем министерстве. К примеру, одно для угля, второе для стали, другие для машиностроения или электротехники. В каждом случае президентом будет лучший специалист в области, неважно, кто он: француз, бельгиец, итальянец или норвежец. Секретарем каждого кольца будет немец. Гесс, бывший секретарь фюрера, меланхолично заметил:
– Вы не так глупы!
Несколько минут мы сидели молча. Потом Гесс говорит:
– В конечном счете всем занимается секретарь.
Через некоторое время Гесс поднимает вопрос, не стал бы такой европейский союз стремиться к автаркии. Я отвечаю, что не стал бы, и привожу в пример голландскую или датскую систему. В этих странах, несмотря на большую плотность населения, импорт продуктов питания обеспечивает возможность экспорта яиц, масла и сыра. Но Гесс категорически против любой формы зависимости. В таком случае, говорит он, во время войны Европа оказалась бы отрезанной от запасов продовольствия, и континенту пришел бы конец. Я объясняю свою идею на примере поместья Нейрата – единственный источник всего, что я знаю по этому вопросу. За счет покупки продовольствия они выращивают сто свиней, а не десять, как раньше, а поголовье коров выросло в несколько раз. Хозяйство процветает.
– Ну, да, – медленно отвечает Гесс, – это, конечно, так. Но поместье Нейрата ни с кем не воюет.
Пятиминутная пауза. Гесс нарушает молчание и говорит совершенно невпопад:
– Я злюсь на себя. У меня больше нет желания протестовать. Теперь я делаю все, что они от меня требуют. Это деградация, нравственное падение, поверьте мне!
Пытаясь привести его в чувства, я напоминаю ему, как много он приобретает в результате уступок.
– Может, и так, – отвечает он. – Но я уже не тот, что был раньше.
Вечером ко мне в камеру заходит Пиз. «Вот, «Старз энд Страйпс» пишет, что вашей дочери разрешат поехать в Америку. Поздравляю». В статье говорится, что Макклой, верховный комиссар американского сектора в Германии, обратился к государственному секретарю Ачесону. Кроме того, газета пишет, что Хильду пригласила к себе влиятельная еврейская семья. Известие приводит меня в глубокое волнение, и я с трудом сдерживаю слезы. Когда дверь за Пизом закрывается, я падаю на кровать и отворачиваюсь к стене.
18 июня 1952 года. Думал о вчерашнем срыве. Почему меня так потрясло известие о том, что Хильде дали визу? Может, причина в том, что вся эта ситуация напомнила мне о моей полной беспомощности как отца? Конечно же, дети обвиняют меня за то, что даже не могут поехать за границу без сложностей; а я сижу здесь, в этой камере, и даже не могу дать им совет. Или меня переполняли чувства из-за вмешательства Макклоя? А может, меня взволновал тот факт, что предложение незнакомой еврейской семьи означает частичную реабилитацию для меня? Моя дочь, которой я не могу помочь, помогает мне сделать первый шаг к возвращению в достойную цивилизованную жизнь.
29 июня 1952 года. Сегодня после службы капеллан деликатно сообщил мне известие, к которому я давно был готов. Четыре дня назад умерла моя мать.
Нам приказано идти в сад. Я наклоняюсь над цветочной клумбой, чтобы никто не видел моего лица, и рассеянно Выдергиваю сорняки. Мои товарищи коротко выражают сочувствие. Они избегают официально приносить соболезнования, придерживаясь нашего правила не вмешиваться в эмоциональную жизнь друг друга.
4 июля 1952 года. Сегодня Редер с неожиданной горячностью отчитал меня за невинное замечание о том, что Гитлер с презрением относился к людям. Его поддержал Ширах; Дёниц и, как ни странно, Функ стояли в стороне и с довольным видом наблюдали за происходящим. Ширах, в частности, обвиняет меня в предательстве. Нельзя осуждать Гитлера, утверждает он, за то, что он не сдавался и держался до самого конца. Это – едва ли не единственная его черта, заслуживающая восхищения. Даже когда в нем не осталось уже ничего человеческого, он все равно пытался изменить ход судьбы. В этом, с чувством уверяет Ширах, Гитлер остался верен себе.
Как обычно, мы не продолжаем спор; все расходятся по камерам. После того как дверь за мной закрывается, я пытаюсь определить для себя, когда началось то, что они называют моей изменой. В первые дни после 20 июля 1944-го, когда поползли слухи, что мое имя фигурировало в списке кабинета министров, составленного заговорщиками? Или в сентябре, когда я отправил Гитлеру докладную записку, в которой впервые утверждал, что материальной базы для победы больше не существует? Или, наконец, во время того монолога Гитлера в рейхсканцелярии в конце ноября 1944 года, когда он цинично и с полным презрением к человечеству говорил об уничтожении Германии?
Я все еще помню, как он, едва предложив мне сесть, тут же грубо пошутил. Широким жестом он показал на развалины за окном.
– Как символично! Шпеер… – Он протянул руку, словно хотел схватить меня за локоть. – В одном только Берлине вам пришлось бы снести восемьдесят тысяч зданий, чтобы реализовать нашу новую программу строительства. К сожалению, англичане сделали работу, не совсем точно следуя вашим планам. Но они хотя бы запустили проект. – Он начал было смеяться, но потом увидел мое мрачное лицо. – Мы восстановим наши города, и они станут еще красивее, чем раньше. Я об этом позабочусь. В них будет огромное множество монументальных зданий. Но для этого мы должны выиграть войну!
Даже тогда в нем еще пылала прежняя страсть к эффектным строениям. Он, правда, забыл об обещании, которое дал мне год назад, что сразу после войны он позволит мне некоторое время заниматься одним лишь жилищным строительством.
– Эти бомбежки меня не волнуют, – продолжал Гитлер. – Я смеюсь над ними. Чем больше население теряет, тем фанатичнее оно сражается. Мы наблюдали это у англичан и даже в большей степени – у русских. Тот, кто все потерял, должен победить, чтобы вернуть утраченное. Наступление врага нам только помогает. Люди отчаянно сражаются, только когда война подходит к их дверям. Так уж они устроены. Сейчас даже законченный идиот понимает, что никогда не восстановит свой дом, если мы не победим. По одной только этой причине в этот раз у нас не будет революции. Сброд не получит шанса прикрыть свою трусость так называемой революцией. Это я гарантирую! Ни один город не попадет в руки врага! Перед отступлением мы каждый из них превратим в руины. – Его голова упала на грудь, но потом он резко выпрямился. – Я вовсе не собираюсь сдаваться. Провидение испытывает людей и отдает лавры тому, кто сохраняет силу духа. Пока я жив, мы выдержим это испытание. Побеждает не трус, а тот, кто не знает жалости. Помните об этом. Техническое превосходство – не главное. Мы давно его утратили. Это мне тоже известно. К тому же ноябрь всегда был моим счастливым месяцем. А сейчас – ноябрь. – Гитлер распалялся все больше. – Я не потерплю возражений, Шпеер. После войны народ может устроить всеобщее голосование, мне все равно. Но если сейчас кто-то будет мне противоречить, он без всяких вопросов отправится прямиком на виселицу. Если немецкий народ не способен меня оценить, я продолжу эту битву в одиночестве. Пусть уходят! Вы же понимаете, что награды можно ждать только от истории. От черни ничего не дождешься. Вчера они мне поклонялись, а завтра выбросят белый флаг. Гауляйтер Флориан сам рассказал мне об одном таком случае. Народ ничего не смыслит в истории. Вы не представляете, как мне все это надоело.








