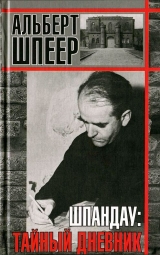
Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)
6 февраля 1947 года. В лыжном костюме иду на слушания, где я выступаю свидетелем Мильха. Пустой зал. Присутствуют всего трое: судья Мусманно, некий мистер Демми, прокурор, и адвокат защиты. Мильха здесь нет. Приятно снова оказаться в просторном помещении с настоящей мебелью. Странно, но это повышает чувство уверенности в себе. Я машинально слежу за юридической игрой в вопросы и ответы между обвинением и защитой и думаю, какую силу придавало буржуазии внутреннее убранство мира. Надежность окружающей обстановки внушает чувство безопасности. Дом бюргера был прочной крепостью, последним заслоном от внешнего мира, образно выражаясь. Гитлер все время искал нечто подобное. Чрезмерность, характеризующая все его дома, вплоть до загородного коттеджа, и даже монументальность его мебели говорили о том, как остро он в этом нуждается. И сколь красочно это характеризует меня.
Утром три часа даю показания, а чувствую себя вполне бодрым; после обеда потребуется гораздо больше сил. Обвинение воздерживается от перекрестного допроса; адвокат Мильха доволен, так как я заявляю, что решения в Центральном планировании принимал я, а не Мильх. Таким образом, я принимаю на себя большую ответственность за депортацию рабочей силы из оккупированной Европы, которая была в ведении Заукеля (тем самым частично снимая ее с Мильха).
8 февраля 1947 года. Первая прогулка за шесть дней. Больше не чувствую слабости. Может быть, это был всего лишь страх перед дачей свидетельских показаний?
Вечером под заголовком «Мильх выдавал промышленные секреты» читаю два абзаца о моих пятичасовых показаниях, и оба неверные. Мильх не раз говорил мне, что Гитлер приказал показать генералу Вуйемену, начальнику штаба французских ВВС, самые секретные модели самолетов, когда Вуйемен приехал с официальным визитом в Германию в конце лета 1938 года. Мильх также получил приказ продемонстрировать последние виды авиационного оружия и раскрыть наши методы обучения. От гостя не скрыли даже наше первое электронное оборудование, предназначенное для обнаружения самолетов. Возможно, демонстрацией нашего авиационного превосходства Гитлер надеялся добиться покорности французского правительства ввиду предстоящего Судетского конфликта. Но к 1944 году Гитлер, похоже, совершенно забыл о своих собственных распоряжениях и гневно настаивал, что Мильх выдал французам секрет радара.
Выступая свидетелем со стороны Мильха, я заявил, что на деле эти демонстрации снизили боевую мощь немецких люфтваффе. С другой стороны, Мильх имел все основания заключить, что у Гитлера не было никаких воинственных намерений на ближайшее будущее.
10 февраля 1947 года. Литовским охранникам по-прежнему сложно придерживаться строгих правил. Они то и дело разрешают мне пройти с ведром и шваброй в свидетельское крыло. Сегодня днем я говорил там с несколькими генералами, один из них передал мне привет от Гудериана. Дело в том, что сотни высокопоставленных военных держат в так называемом генеральском лагере в окрестностях Нюрнберга. Многим из них американцы поручили поработать над вопросами военной истории. Из этих разговоров у меня складывается впечатление, что все больше людей изображают Гитлера как диктатора, подверженного неконтролируемым приступам ярости и впадающего в неистовство по малейшему поводу. По-моему, это ложный и опасный путь. Если с портрета Гитлера стереть человеческие черты, если не принимать в расчет его убедительность, его привлекательные качества и даже австрийское обаяние, которым он умело пользовался, достоверной картины не получится. Безусловно, генералы не находились под пятой деспота целое десятилетие; они выполняли приказы человека, который часто спорил, приводя убедительные аргументы.
Некоторые генералы, как я слышал, также пытаются представить провал блицкрига против России как результат правления Гитлера. В основе всех подобных теорий лежит предпосылка, что Германия обладала материальным, техническим и боевым превосходством, которое бездумно растрачивал Гитлер. Это тоже неправда. Охотно признаю, что сам долгое время заблуждался на этот счет, но теперь не осталось никаких сомнений.
Я слышал, в свидетельском крыле Нюрнбергской тюрьмы держат также секретарш Гитлера. Но пока мне не довелось поговорить ни с одной из этих дам.
14 февраля 1947 года. Несколько дней назад, по моей просьбе, капеллан Эггерс передал мне мнения судей по приговорам на Нюрнбергском процессе. Из них получилась целая книга! Сегодня я их дочитал. Тягостное впечатление.
16 февраля 1947 года. Не знаем, что замышляет Гесс. При каждой удобной возможности он спрашивает нас о том, что нужно сделать; недавно он интересовался у Функа о сильных и слабых сторонах каждого из нас.
– Все его слова говорят о том, что он формирует новое правительство, – заметил Функ. – Какое безумие! Представляете, если у него под матрацем найдут список кабинета министров[5]5
Несколько месяцев спустя в камере Гесса в Нюрнберге действительно нашли заявление об образовании нового правительства. Он собирался передать его на радио и в прессу после того, как «примет на себя руководство правительством Германии на территории западных зон оккупации с согласия западных оккупационных сил». Пункт 2 этого заявления гласит: «Рудольф Гесс приказывает Шпееру помочь немецкому народу в получении продуктов питания, кухонного оборудования и транспортных средств. Это задание может быть выполнено только в сотрудничестве с силами союзников».
[Закрыть]!
18 февраля 1947 года. Поскольку ничего не происходит, мне вновь стали интересны мои сны, которые с удивительной точностью сохраняются в памяти на следующее утро. Раньше я с трудом вспоминал, что мне снилось ночью.
Я иду на официальный прием. В вестибюле встречаю знакомого, который просит тайком провести его внутрь, потому что он забыл пригласительный билет. Я даю ему поднос с тарелками и под видом официанта выхожу с ним на открытую террасу, где стоят огромные столы, накрытые белыми скатертями. Хозяин уже занял почетное место за столом в окружении гостей, пользующихся его благосклонностью. К несчастью, мой знакомый спотыкается о провод и вместе со своими тарелками растягивается на полу прямо у ног хозяина. Мое место оказывается за соседним столом, где гости сидят на неестественно большом расстоянии друг от друга. Все странно обособлены от своих соседей. Мы едим в полном молчании.
19 февраля 1947 года. Среди офицеров я встретил полковника, с которым был на конференции в парижской гостинице «Мажестик» в 1943 году и с которым мы, вопреки ожесточенному сопротивлению Заукеля, заключили соглашения об организации «защищенных отраслей». Французские обвинители отметили этот факт в мою пользу; я до сих пор помню номер документа, представленного в качестве вещественного доказательства, – RF 22. После этого моему адвокату больше не приходилось предъявлять доказательства по этому пункту.
Заукель пытался реабилитировать себя, представив меня инициатором программы рабского труда. На самом деле мне даже не приходилось его подталкивать, потому что он был одержим своим заданием. Более того, не один я пользовался трудом иностранных рабочих; из примерно шести миллионов человек, трудившихся в Германии осенью 1944 года, на военную промышленность работали всего два миллиона. Большинство распределили по двадцати другим отраслям производства, включая горную промышленность, химическую – которой, как ни странно, напрямую руководил Геринг до самого конца войны – сельское хозяйство, железную дорогу и почтовую систему.
20 февраля 1947 года. Опять давал свидетельские показания по делу Мильха. У обвинения появились дополнительные вопросы. Потом было интересное обсуждение с судьей Мусманно о значении международных трибуналов. Если бы после Первой мировой войны союзники выполнили свои угрозы и устроили суд над немцами, использовавшими принудительный труд в то время, сказал я, ведущие политические фигуры научились бы чувству ответственности. К примеру, можно было бы провести процессы без вынесения приговоров, отметив, что подобные вердикты победителей над побежденными имеют сомнительный оттенок. Если бы в истории были подобные прецеденты, мы бы, безусловно, поняли, что перешли черту.
Вечером закончил набросок калифорнийского дома для приятного молодого лейтенанта. Мне нравится обсуждать с ним вопросы строительства.
22 февраля 1947 года. Продуктивное время. Чтобы переключиться на другое, сделал эскиз летнего домика в штате Мэн. Слишком большой флаг символизирует американский патриотизм, который постоянно демонстрируют рядовые и офицеры срочной службы. Иногда он принимает удивительные, часто чрезмерные формы.
24 февраля 1947 года. Несколько раз перечитал номера «Баумайстер» («Зодчий»), которые позавчера получил из дома. Изучал детали. Эти архитектурные журналы пробудили во мне желание рисовать, и я сделал набросок разрушенного дома в окружении дубов.
Днем с огромным интересом читал «Букварь по Америке» Маргарет Бовери. Соединенные Штаты добились поразительных успехов. Гигантский эксперимент, здорово замахнулись!
Ближе к вечеру у меня произошла стычка с одним из литовских охранников по поводу моего права выглядывать из камеры в коридор. Он ударил меня. Я не доложил об этом, потому что, как я сказал ему, он потерял свою страну и, вероятно, семью тоже. Литовец ушел в растерянности. Если бы об этом стало известно, он, скорее всего, остался бы без работы и понес наказание.
За окном слышится первое щебетание птиц. Приятно и тепло. Подставляю лицо солнцу.
13 марта 1947 года. Утром отвели на встречу с Шармацем, приятным, симпатичным американцем. Я сказал ему, что не хочу выступать свидетелем обвинения на процессе промышленников. Я был министром, сказал я, поэтому мой долг – помогать своим подчиненным, а не обвинению. Шармац ответил непривычно официальным тоном: «Если обвинение вызовет вас в качестве свидетеля, и суд вынесет соответствующее распоряжение, в случае отказа вас могут обвинить в неуважении к суду». С той же сдержанностью я заявил, что все равно буду придерживаться этой позиции.
Дочитал «Дона Карлоса» Шиллера. Размышлял о развращающем влиянии власти.
14 марта 1947 года. Доктор Шармац сообщил, что обвинение решило не вызывать меня в качестве свидетеля.
В газете говорится, что перевод в Шпандау откладывается из-за разногласий между союзниками. За окном щебечут птицы.
18 марта 1947 года. На тюремном дворе пробивается первая зеленая травка. Вот уже несколько дней нам разрешают разговаривать друг с другом во время прогулок. Я обычно гуляю вместе с Дёницем или Функом. Все наши разговоры крутятся вокруг тюремных проблем.
Утром, когда мы обсуждали тупые бритвенные лезвия, Дёниц резко и зло сказал мне, что нюрнбергский приговор – насмешка над правосудием, хотя бы потому, что выступавшие в роли судей нации не могли вести себя иначе. Внезапно я осознал: бессмысленно напоминать ему, к примеру, о фотографиях, чтобы заставить его увидеть моральную законность вердикта. Вместо этого я выдвинул отнюдь не политические аргументы: вынесенный нам обвинительный приговор, подчеркнул я, может ускорить освобождение немецких военнопленных. Ведь нельзя обвинить нас в нарушении Женевской конвенции и в то же время удерживать миллионы военнопленных, используя принудительный труд на шахтах, военных складах, в сельском хозяйстве на протяжении нескольких лет после окончания войны. Подтверждением этому моему доводу служило путаное объяснение лорда Пакенхэма, парламентского заместителя военного министра, в палате лордов, когда он заявил, что правительству необходимо найти золотую середину между требованиями Женевской конвенции и потребностями британской экономики. Быстрый возврат военнопленных поставит под угрозу сбор урожая в этом году, сказал он.
«Это был аргумент Заукеля», – отвечает Дёниц. Факт остается фактом: он не в состоянии постичь весь ужас. К счастью, мы проводим вместе только полчаса; прогулка слишком короткая, и мы не успеваем развить наши противоположные точки зрения.
Снова в камере. Не могу отрицать, что Дёниц отчасти прав в своем неприятии нюрнбергских приговоров. Ярким примером неоднозначности процесса была попытка советских прокуроров включить в обвинительный приговор Геринга подробное обсуждение бомбардировки вражеских городов. Естественно, они это делали, потому что Советскому Союзу не хватало самолетов для массированных воздушных налетов. Представители Америки и Великобритании упрямо обходили вниманием эту рекомендацию, и даже в смертном приговоре Геринга нет ни слова о разрушении Варшавы, Роттердама, Лондона или Ковентри. Руины вокруг здания суда служат наглядной иллюстрацией того, насколько жестоко и эффективно западные союзники распространяли военные действия на гражданское население.
Но есть и другая сторона: союзники не больше немцев стремились к разрушению, вот только способность к разрушению у них была выше. Я вспоминаю один день в конце осени 1940 года, когда мы с Гитлером в зимнем саду рейхсканцелярии обсуждали наши планы строительства широкого проспекта в Берлине. После победы над Францией эти проекты вновь захватили его воображение. В своей обычной манере он совершенно бесстрастно заявил: «После войны мы отстроим Берлин как подобает столице, занимающей господствующее положение в мире. Лондон превратится в груду развалин, через три месяца от него ничего не останется! Я не испытываю ни малейшего сочувствия к гражданскому населению Британии!»
Четыре годя спустя, летом 1944-го, фельдмаршал Кейтель, начальник штаба Цайцлер, производитель вооружений Рёхлинг, Порше и я обсуждали с Гитлером критическую ситуацию, возникшую в результате остановки немецких топливных заводов. «Скоро наши Фау-1 и Фау-2 начнут атаки на Лондон, – торжествующе заявил Гитлер. – За ними последуют Фау-3 и Фау-4, пока Лондон не превратится в одну большую груду камней. Англичане будут наказаны. Они узнают, что такое возмездие! Террор будет Уничтожен с помощью террора. Этому принципу я научился во время уличных боев между СА и Ротфронтом». Никто не произнес ни слова. В обоих случаях, бесспорно, чувствуется та же ненависть, то же стремление уничтожить врага любыми способами. И именно поэтому суд победителей над побежденными вызывает сомнение. Но я благоразумно не признаю этого в разговорах с Дёницем.
19 марта 1947 года. Мой сорок второй день рождения. Сидя на полу камеры, принимаю солнечные ванны. Окошко маленькое, и каждые полчаса мне приходится передвигаться вместе с солнцем. Весной жизнь в камере становится невыносимой.
Думаю о семье. До 1933 года мы с женой на мой день рождения обычно уезжали кататься на лыжах в Тирольские Альпы. Потом я просто продолжал работу, и даже Гитлер не обращал внимания на день рождения. Если бы я хотел, чтобы он знал, мне следовало намекнуть Канненбергу, его мажордому, или – еще лучше – Еве Браун.
Вечером читал невероятно интересную книгу: «Семеро беглецов» Фредерика Прокоша. В ней, помимо всего прочего, описывается жизнь группы заключенных. Читая ее, я впервые осознал, что существует высокомерие униженных. Какой тривиальной и пустой кажется мне жизнь людей, которые проходят мимо моей двери и с любопытством заглядывают в «окошко».
24 марта 1947 года. Теперь мне удается каждый день спать по двенадцать часов. Если я и дальше так продержусь, то сокращу свое заключение на целых пять лет – по сравнению с моим обычным шестичасовым сном.
25 марта 1947 года. Дёниц получил известие от своего зятя, Хаслера, который во время войны служил в его штабе. Англичане наняли его на работу. Он должен предоставить им информацию о войне подводных лодок. Платить будут в британских фунтах. Дёниц считает, что это хорошие новости. Поразительно, но он не может скрыть свою гордость, рассказывая мне об этом.
26 марта 1947 года. В середине августа 1942-го я в сопровождении нескольких промышленников отправился в Винницу, ставку Гитлера на Украине. В тот период Германия стремительно наступала на Баку и Астрахань, и в ставке царила атмосфера веселья и приподнятого настроения.
После одного из совещаний Гитлер сидел на скамье за простым деревянным столом в тени деревьев, окружавших его дом. Стоял тихий вечер; мы были одни. Он начал тихим, осипшим после выступления голосом: «У меня давно все подготовлено. Следующим нашим шагом будет наступление на юг Кавказа, а потом мы поможем повстанцам в Иране и Ираке в их борьбе против англичан. Затем мы двинемся по побережью Каспийского моря в сторону Афганистана и Индии. У англичан кончатся запасы нефти. Через два года мы подойдем к границам Индии. С этой задачей вполне справятся двадцать – тридцать элитных немецких дивизий. И тогда Британская империя рухнет. Они уже потеряли Сингапур, и он достался Японии. Англичане будут беспомощно смотреть, как их колониальная империя разваливается на части!»
И это не воспринималось как преувеличение – в то время Гитлер практически не встречал сопротивления в Европе. Он лаконично продолжал: «Наполеон хотел завоевать Россию и весь мир через Египет. И он бы добился своей цели, если бы не совершал серьезных ошибок. Я не допущу таких ошибок, можете не сомневаться!»
Величие и могущество Британской империи натолкнули его на мысль о создании собственной империи. Он хотел объединить все германские народы: голландцев, норвежцев, шведов, датчан, фламандцев. Но в отличие от Гиммлера он не хотел их онемечивать. Для него отличительные особенности разных народностей – баварцев, швабов или рейнландеров – всегда были преимуществом. Он не посягал на их индивидуальность, хотя временами диалекты казались ему слишком грубыми. Таким образом, через сто лет разные германские народы придавали бы многогранность и силу основанной им империи; но немецкий язык был бы общим средством общения, как английский в Содружестве.
В 1938-м, когда Гитлер обдумывал размеры нового здания рейхстага, он не стал менять число избирателей, представленных каждым депутатом, но увеличил вдвое количество мест. Он рассчитывал на правительство, представляющее сто сорок миллионов человек. К 1942-му, после всех побед, в его голове несомненно крутились более крупные цифры.
– Огромные пространства России так и просятся, чтобы их заселили. Немецкие семьи, которые будут жить там в наших новых городах и деревнях, получат большие дома со множеством комнат, и очень скоро эти комнаты заполнятся детьми, – говорил Гитлер, когда мы сидели на скамье в Виннице и сквозь деревья смотрели на широкую равнину. Он опирался на мнение историков, считавших, что остготы останавливались здесь шестнадцать столетий назад, когда на два века обосновались на юге Украины. Высоко над нашими головами плыли красивые облака причудливой формы. Стояла полная тишина, и лишь изредка вдалеке раздавался звук проезжавшей машины. За десять лет, проведенных вместе, мы стали очень близки, и мне приходилось напоминать себе, что я сижу в полутора тысячах километров от Германии с правителем Европы и почти по-приятельски обсуждаю с ним предстоящее вторжение в Азию передовых танковых частей, стоявших в тысяче с лишним километров к востоку от Винницы. – Если в течение следующего года мы покроем хотя бы такое же расстояние, – сказал Гитлер и повторил это собравшимся промышленникам на следующий день, – к концу 1943-го мы поставим палатки в Тегеране, Багдаде и Персидском заливе. Тогда англичане наконец останутся без нефти… Но в отличие от англичан, мы не станем просто эксплуатировать нефтяные скважины, мы обоснуемся там. Мы нация не лавочников, а крестьян. Сначала мы применим демографическую политику. На примере Индии и Китая видно, как стремительно могут размножаться нации.
Потом он разработал систему премий, благодаря которой каждая семья будет видеть в ребенке источник дополнительного дохода. В 1932 году, говорил он, рождаемость в Германии практически не повышалась, но к 1933-му ситуация полностью изменилась. Не так давно он просматривал цифры и узнал, что по сравнению с ростом уровня рождаемости в 1932-м демографическая политика национал-социалистов увеличила население страны почти на три миллиона человек[6]6
До войны на территории немецкого рейха (включая Саар) в 1932 году родились 993 126 живых младенцев. Там же (то есть без Австрии) в 1933 году родилось на 21 000 младенцев меньше. Однако впоследствии было отмечено повышение по сравнению с показателями 1932-го: в 1934-м родилось на 205 000 младенцев больше, чем в 1932-м; в 1935 – на 270 000; в 1936 – на 285 000; в 1937 – на 285 000; в 1938 – на 455 000; в 1939 – на 420 000; в 1940 – на 409 000; в 1941 – на 315 000. Соответственно, в общей сложности на 2 674 000 человек больше появилось на свет, чем могло бы, если бы уровень рождаемости 1932 года остался прежним.
[Закрыть]. При таких цифрах несколько сотен тысяч убитых на этой войне не имели значения. Два или и года мирной жизни восстановят наши потери. Новый Восток сможет принять сто миллионов немцев; в самом деле, он собирался делать упор именно на это.
Гитлер говорил спокойным, сухим тоном, почти монотонно. Но у меня появилось удивительно отчетливое ощущение, что именно там и тогда он пришел к какому-то важному для себя заключению. Это и архитектура, как мне в то время казалось, были его настоящей страстью. В обоих случаях он оперировал огромными величинами.
– Давайте еще раз все хорошенько подсчитаем, Шпеер. В Германии восемьдесят миллионов жителей. К этому числу мы уже можем добавить десять миллионов голландцев, которые на самом деле немцы, и еще – запишите – Люксембург и его триста тысяч жителей, и Швейцарию с ее четырьмя миллионами. А также датчане – еще четыре миллиона; фламандцы – пять миллионов. Потом Эльзас и Лотарингия, хотя я о них невысокого мнения.
Только сейчас в его голосе зазвучало волнение, и он все чаще спрашивал, записал ли я, подсчитал ли, сложил ли. Если полученные цифры не соответствовали его ожиданиям, он добавлял немцев из Трансильвании или Моравии, потом из Венгрии, Югославии, Хорватии. «Все они вернутся к нам. Как и балтийские немцы, а еще триста тысяч южных тирольцев». В Норвегии и Швеции в общей сложности наберется одиннадцать миллионов, продолжал Гитлер. Более того, здесь, на Украине, он повсюду видел светловолосых голубоглазых детишек. Гиммлер подтвердил его предположение, что эти дети – потомки готов. Гауляйтер Форстер и гауляйтер Грейзер сказали ему, что как минимум десять процентов населения Польши имеют немецкие корни. Ту же историю он слышал от рейхскомиссаров в северной и центральной России. Пока он не мог точно подсчитать, сколько человек из восточных районов станут гражданами Германии. «Но все равно пока запишите десять миллионов. Сколько теперь получилось?»
К тому моменту я насчитал около ста двадцати семи миллионов. Но Гитлеру этого было мало, и он не успокоился, пока не вспомнил о будущих показателях рождаемости.
Сидя здесь и пытаясь восстановить в памяти все подробности этой сцены, столь похожей на многие другие, я буквально вижу перед глазами белесые доски нового стола, но не могу понять, какое впечатление произвело на меня тогда опьянение цифрами, в которое вогнал себя Гитлер. Я был потрясен или сразу понял, что эти планы безумны? Ведь именно эта мысль первой приходит мне в голову сейчас, всего несколько лет спустя. Я не могу этого понять. Одно я знаю точно: страстные эмоции, охватывавшие Гитлера во время этих видений, даже тогда были мне чужды. Но я не знаю, что меня сдерживало: нравственные сомнения или скептицизм технаря, который все сводит к проблеме организации. Чувствовал ли я в то время, что присутствую при рождении империи, или та порочность, с которой он раскидывал по земному шару миллионы людей, внушала мне ужас – хотя бы в глубине души? Может, сам ответ кроется в моей, так сказать, амнезии?
28 марта 1947 года. Депортация рабочей силы – бесспорно, международное преступление. Я не подвергаю сомнению свой приговор, хотя другие нации поступают сейчас так же, как мы. Я убежден, что при обсуждении немецких военнопленных кто-нибудь обязательно укажет на законы о принудительном труде, на то, как их интерпретировал и осудил Нюрнбергский трибунал. Смогла бы наша пресса столь открыто и критично обсуждать этот вопрос, если бы принудительный труд не был публично признан преступлением? Если бы я считал свой приговор несправедливым, потому что другие совершают ту же ошибку, эта мысль причинила бы мне больше страданий, чем сам приговор. Это означало бы, что у цивилизованного мира не осталось надежды. Несмотря на все ошибки, Нюрнбергский процесс сделал шаг в сторону возрождения цивилизации. И если мои двадцать лет тюрьмы помогут немецким военнопленным вернуться домой хотя бы на месяц раньше, мое заключение будет не напрасным.
29 марта 1947 года. В современных войнах победа часто зависит от последних десяти процентов. К примеру, на Кавказе с обеих сторон сражались второстепенные танковые части, остатки бронетанковых дивизий. Предположим, осенью 1942-го Гитлер, задействовав лучшее оружие и многочисленные войска, сумел бы укрепить позиции от Каспийского моря вдоль Волги и до Сталинграда. С юга их прикрывал бы непреодолимый массив кавказских гор. Если бы ему это удалось, он сделал бы большой шаг вперед в своей стратегической концепции, согласно которой он шаг за шагом добивался господства над миром.
Меня беспокоит моя двойственность. Я осознал опасный, преступный характер режима и публично признал это. Однако здесь, в этой злосчастной камере, меня преследуют фантазии, я представляю себя одним из самых уважаемых людей в мировом правительстве Гитлера. Может быть, это весна, идущая на смену тяжелой тюремной зиме, навевает мне столь беспокойные мысли. Но когда я думаю, что, став министром вооружений, смог сбросить бюрократические кандалы, ограничивавшие производство до 1942 года, и через какие-то два года число бронетехники увеличилось почти втрое, оружия с калибром более 7,5 было выпущено в четыре раза больше, мы удвоили производство самолетов и так далее – когда я об этом думаю, у меня голова идет кругом.
В середине 1941 года у Гитлера могла бы быть гораздо лучше вооруженная армия. В 1941-м уровень производства в основных отраслях, определяющих объемы вооружений, едва ли был выше, чем в 1944-м. Что мешало нам увеличить производство к весне 1942-го, как мы сделали позже? До 1942 – го мы даже могли бы мобилизовать примерно три миллиона мужчин из более молодых возрастных групп без снижения уровня производства. И нам не пришлось бы использовать принудительный труд рабочих с оккупированных территорий, если бы женщин обязали работать, как в Англии и Соединенных Штатах. Примерно пять миллионов женщин могли бы быть задействованы в производстве вооружений; и три миллиона солдат пополнили бы ряды многих дивизий. К тому же они были бы прекрасно вооружены в результате повышения объемов производства.
Фельдмаршал Мильх, командующий резервной армией генерал Фромм и я пришли к общему мнению, что военная неудача в начале войны (наподобие той, что испытали британцы в 1940-м в Дюнкерке) подстегнула бы нас и заставила мобилизовать неиспользованные резервы. Именно это я имел в виду, когда напомнил Гитлеру в своем письме от 29 марта 1945 года, что мы проиграли войну в некотором роде из-за побед 1940-го. В то время, говорил я ему, руководство отбросило всякую сдержанность.
Странно: я сижу в камере, верю в законность и суда и приговора, который отправил меня сюда, и в то же время не могу удержаться от искушения и постоянно прокручиваю в голове все упущенные возможности, шансы на победу, выскользнувшие из рук из-за некомпетентности, высокомерия и эгоизма.
Неужели война в самом деле проиграна только из-за некомпетентности? Вероятно, это все же не так. В конечном счете исход в современных войнах решают превосходящие технические возможности, которых у нас не было.
30 марта 1947 года. Перечитал записи за предыдущие дни. Сегодня отправляю домой большой пакет с рукописью; его отвезет капеллан. Нам все еще негласно разрешают писать воспоминания. Насколько я знаю, Франк, Розенберг и Риббентроп тоже оставили свои мемуары.
Вчера читал комментарии Гёте к трилогии Шиллера «Валленштейн». Он сказал в 1799 году: «Валленштейн сделал невероятную и необычную карьеру. Стремительному взлету благоприятствовали незаурядные времена, а удержался он наверху благодаря своей незаурядной личности. Но поскольку карьера возникла из необходимости, несовместимой с реальной жизнью и целостностью человеческой натуры, она рухнула и покатилась к разрушению вместе со всем, что было с ней связано». Возможно, Гёте писал эти строки, думая о Наполеоне, чья египетская кампания потерпела неудачу. Сам я не могу не думать о Гитлере, хотя понимаю, что их невозможно сравнивать. Я смутно чувствую, что все эти исторические сопоставления неуместны. Почему? Разрушительная энергия человека, направленная исключительно на уничтожение? Или его вульгарность, которая теперь внушает мне ужас? Что еще было в живом Гитлере, что до сих пор было скрыто от меня? Вопросы и снова вопросы. Большинство из них остаются для меня без ответа.
31 марта 1947 года. Полтора года назад автобус, в котором меня под усиленной охраной везли в Нюрнберг, с трудом пробирался через развалины. Я мог только догадываться, где раньше были улицы. Среди руин то и дело попадались выжженные или разбомбленные дома. По мере продвижения к центру города я совсем запутался и не мог сориентироваться в этой громадной груде камней, хотя довольно хорошо знал Нюрнберг, поскольку мне поручили проектировать здания для проведения партийных съездов. И посреди всей этой разрухи стоял чудом сохранившийся нюрнбергский Дворец правосудия. Как часто я проезжал мимо в машине Гитлера. Может, это и банально, но я не мог избавиться от мысли, что это здание уцелело не случайно, в этом есть некий глубокий смысл. Теперь в нем заседают юридические органы союзников.
Неизменно возвращается мысль, что другая сторона, конечно же, тоже совершила множество военных преступлений. Но мы не можем и не имеем права использовать их для оправдания собственных преступлений – я в это твердо верю. Более того, преступления национал-социалистов по своему характеру не идут ни в какое сравнение со всем, что могла бы совершить другая сторона. После пространных показаний Рудольфа Хёсса, коменданта Аушвица, даже Геринг раздраженно повернулся к Редеру и Йодлю и воскликнул: «Если бы не этот проклятый Освенцим! Гиммлер втянул нас в эту мерзость! Если бы не Освенцим, мы могли бы выстроить хорошую защиту. А так у нас нет никаких шансов. При упоминании наших имен все думают только об Освенциме и Треблинке. Это уже рефлекс». Однажды после очередной такой вспышки он добавил: «Как я завидую японским генералам». Но, как оказалось, зря: японским генералам вынесли столь же суровый приговор, что и нам.
1 апреля 1947 года. Сегодня жена прислала мне табели успеваемости наших детей. Похоже, у Альберта способности к рисованию. Ему следует учиться ремеслу. Хильда украсила свое последнее письмо дивными цветочными узорами. Логично предположить, что оптимальной профессией для нее было бы занятие резной мозаикой; во всяком случае, так мне представляется отсюда, из моей камеры. А если бы она проявила склонность к работе по дереву, то могла бы делать ценные предметы мебели. Все виды мебели будут пользоваться спросом – ведь столько сгорело в огне. В любом случае порядок в Европе еще не скоро восстановится. Имея в руках хорошую профессию, Альберт и Хильда будут неплохо обеспечены; а при условии благоприятного экономического развития они смогут продолжить свое образование. Во времена кризиса и потрясений интеллектуальные профессии подвергаются более суровому воздействию, нежели ремесла. В случае необходимости они смогут заработать себе на жизнь даже за границей. К тому же, занятие ремеслом развивает уверенность в себе. А в университетах, с другой стороны, студенты, в основном, учатся интеллектуальному высокомерию.








