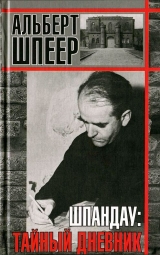
Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
22 июня 1964 года. Сегодня один из охранников тайком принес фотоаппарат «Минокс». Я отснял три цветные пленки, фотографируя главным образом сад. Я прятал миниатюрный фотоаппарат в руке, оставляя открытым только объектив. Снимки позволят моим родным понять, как выглядит мой мир за пределами комнаты для свиданий.
На большинстве фотографий – мои цветочные клумбы; они увидят, как я горжусь ими. В конце концов, цветы да эти заметки – это все, что занимало меня все эти двадцать лет.
Если снимки выйдут удачными, жена и дети увидят прелестные изображения ирисов, гвоздик, левкоев и люпинов – все, что они, безусловно, могут найти в ближайшей оранжерее.
23 июня 1964 года. Все чаще измеряю оставшееся время заключения по своим «тюремным часам». К настоящему моменту прошло 27 секунд после 21:26. Разочарован. Думал, уже гораздо позже. Самая маленькая единица времени – секунда – соответствует двум часам и десяти минутам в Шпандау.
24 июня 1964 года. Утром проснулся от страшной зубной боли. Шарков взглянул на меня, так как именно он подписывает пропуск к американскому стоматологу. Он коротко объявил:
– Зубная боль – не трагедия.
Но добавил, что позвонит своему директору по прямому телефону из тюрьмы в Карлсхорст.
Несколько часов спустя стоматолог – в звании полковника – сделал мне рентген; днем он удалил мне зуб, в процессе сломав другой. Моя челюсть превратилась в рудник; остатки удаляли с помощью молотка, зубила и дрели, и все это продолжалось больше часа. К слову, при этом присутствовал французский врач.
23 июня 1964 года. Еще пять недель без единой записи. Много работал в саду, мало читал. Апатия.
23 июля 1964 года. Некоторое время назад попросил Брэя посоветовать мне хороший американский словарь. Через несколько дней он принес толстый словарь Уэбстера.
– Это вам. Мой прощальный подарок.
Через несколько недель он нас покидает, потому что больше не может выносить тюремную атмосферу.
– Я прямо сейчас отнесу словарь в библиотеку, – сказал Брэй. – Никто не заметит. Но он для вас!
У меня возникла идея получше. Я подал заявку с просьбой разрешить моим родным прислать мне французский и американский словари. Когда ее утвердили, Хильда передала в администрацию толковые словари Брэя и толковые словари Уэбстера и Ларусса. Потом Шарков в свое ночное дежурство пролистал два объемных тома, проверяя, нет ли в них зашифрованных тайных посланий. Эти предосторожности показались мне нелепыми, но в то же время вселили в меня надежду. Они не стали бы утруждаться, если бы знали о моих нелегальных связях с внешним миром. Утром явился Андрысев и дружелюбно сказал:
– К сожалению, несколько страниц пришлось вырезать. Вы не возражаете?
Я не возражал.
Через несколько часов мне принесли словари. Из них вырезали пять или шесть статей, три из них начинались на букву «Г».
27 июля 1964 года. Я отсидел семь восьмых своего срока. К примеру, я прикинул, что после следующего свидания в октябре Эрнст приедет всего один раз. Осенью я уже не стану заготавливать кучу компоста. На этот раз я просто сожгу листья, а пепел пойдет на удобрение почвы. Я буду донашивать рубашки и нижнее белье и попрошу родных, чтобы на Рождество и день рождения они присылали мне только пластинки с записями одного инструмента; дома сейчас появился стереопроигрыватель, и только пластинки с записями одиночного инструмента не портят звучание.
4 августа 1964 года. Встреча Шлабрендорфа с зятем Хрущева Аджубеем, который по счастливой случайности приехал с визитом в Федеративную Республику, прошла хорошо. Русский делал многообещающие намеки в отношении моего дела. После его возвращения в «Известиях» – газете, в которой он служит главным редактором – написали что-то о «ликвидации некоторых последствий войны», если немецкая сторона готова пойти на уступки.
9 августа 1964 года. В последнее время опять читаю много книг по архитектуре. Если меня выпустят и я снова захочу работать, я должен быть в курсе последних разработок.
Теперь, когда я более внимательно изучаю все, что было сделано для восстановления после 1945-го, я с потрясением отмечаю, как сильно изменился облик страны. Я увижу заново отстроенные города, которые я оставил в руинах, но я также увижу, что они изменились до неузнаваемости. Судя по статьям и фотографиям в газетах, немецкие города утратили свою индивидуальность в пылу реконструкции. Стереотипные коммерческие здания и жилые кварталы стерли различия между торговыми городами на севере Германии и епископальными районами на юге Германии. Они также придали немецким городам международную безликость.
Но прежде всего меня удивляет победное шествие высотной архитектуры от центральных районов до пригорода – без учета каких-либо различий. В мое время существовало правило, что высотные дома – из эстетических соображений и с точки зрения экономической целесообразности – можно строить только в деловых районах города. Из-за чрезвычайно высоких расходов на закладку фундамента и возведение здания, а также затрат на техническое обслуживание, строительство многоэтажных домов приносило выгоду только в тех районах, где можно было установить наиболее высокую цену за квадратный метр и запросить максимальную арендную плату, как в Нью-Йорке, лондонском Сити или в центре Берлина. Но сейчас я вижу в газетах, что высотные дома строят не только в средних городах типа Ульма, Фрейбурга и Гиссена, но и в живописных поселениях Люнебургской пустоши и на горных дорогах. Порой мне кажется, что сейчас происходит второе разорение Германии, только на этот раз она сама себя губит. Страна всегда ревностно охраняла свою национальную индивидуальность; как много значила для нее национальная культура – даже чересчур много. Новое направление – отказ от всего, что было дорого в прошлом. Для человека с моим характером, с моей сентиментальной приверженностью к традициям было бы весьма болезненно, если бы это второе и, несомненно, последнее преображение архитектурного облика Германии было делом рук Миса ван дер Роэ, Таута, Гильберсеймера или Гропиуса. Но вот что произошло в действительности: как обычно, все прибрали к рукам посредственные производители дешевых товаров массового производства. Меня поражает, что за исключением нескольких способных зодчих, таких как Эйерман, Шарун или Швипперт, ни один талантливый архитектор не оставил свой след в градостроительстве за эти двадцать лет, в то время как в первое десятилетие после Первой мировой войны наблюдался всплеск гениальной архитектуры. На мой взгляд, за этим фактом скрывается более глубокая идея. Все эти годы я постоянно читал, что строители с превеликим удовольствием отказываются от архитектурных доктрин Третьего рейха. Но что если они отказались не только от нашего исторического классицизма? Мне кажется, утрачено стремление к форме. Это означает не только конец одного или нескольких стилей, но, вероятно, и конец самой архитектуры.
Глядя на это под таким углом, я с некоторым удивлением вижу Шаруна и Ле Корбюзье, Пёльцига и Мендельсона в одном ряду со мной, а на другой стороне стоят конструкторы сборных домов двадцать первого века. И все мы, как бы мы ни критиковали друг друга, станем фигурами уходящей эпохи.
15 августа 1964 года. Родился второй внук. На воле время не стоит на месте.
18 сентября 1964 года. Пять недель без единой записи. Сегодня отмечаю десятую годовщину подсчета километров. Я прошел 25 471 километр!
30 сентября 1964 года. Почти весь прошедший год, восемнадцатый год моего заключения, я пребывал в отчаянии и страхе. Конец уже виден, он становится все ближе и ближе, но эта мысль не приносит мне ни радости, ни облегчения.
Год девятнадцатый
Перспективы архитектуры – Падение Хрущева – Крушение всех надежд – Гесс спорит с французским генералом – Ширах угрожает донести на французского охранника русскому директору – Миновал Сиэтл – Что обсуждал Гесс на первом свидании со своим адвокатом – У Шираха проблемы с глазами – Решение Гитлера стоять насмерть связано с его желанием войти в историю – Моя архитектура света – Невосполнимая потеря – Длительное отчаяние
1 октября 1964 года. Несколько дней назад в конце британского месяца Маскер не смог утром приготовить себе чай. Со злости он написал в журнале: «Ночью украли чай. Дежурили русские Шарков и Солин». Русские обиделись. Со вчерашнего дня перестали здороваться; их директор сказался больным. Западные директора хотели послать больному коллеге букет цветов. Но его заместитель Шарков холодно отказал: «Он не настолько болен».
Сегодня ситуация прояснилась. Той ночью Пеллиот обнаружил, что у британских охранников, дежуривших у ворот, нет чая, поэтому он отнес им чай Маскера. Вот и все. Сегодня весь тюремный блок хохотал над этим.
А завтра, вне всяких сомнений, русский директор оправится от болезни.
2 октября 1964 года. Карл Пипенбург, мой бывший руководитель строительного управления, который в 1938 году много сделал для завершения рейхсканцелярии в срок, теперь владеет крупной строительной фирмой в Дюссельдорфе. Он передал, что я могу на него рассчитывать, если после освобождения буду искать работу. И мой бывший ближайший помощник Отто Апель тоже входит в число успешных архитекторов. Недавно он построил комплекс зданий для американского посольства в Бонне. Он тоже предложил взять меня на работу после выхода из тюрьмы. Эти новости немного приободрили меня. В тоже время они усиливают мои сомнения, которые я недавно пытался сформулировать. Я имею в виду не только тот факт, что мне в шестьдесят лет будет сложно занять прочное положение в компаниях моих бывших помощников. Я хочу сказать, что их проекты и здания, которые в целом производят на меня приятное впечатление, укрепляют меня в мысли, что мое время прошло. Еще я задаю себе вопрос, готов ли я после разработки проектов большого зала и рейхсканцелярии заняться строительством спортивного зала в Детмольде или прачечной в Ингольштадте. Роскошные сомнения, Бог свидетель!
3 октября 1964 года. Прочитал о недавнем визите Миса ван дер Роэ в Берлин. В возрасте восьмидесяти семи лет он собирается строить Галерею двадцатого века на Ландверском канале, недалеко от того места, где я хотел поставить Зал солдатской славы, наш Пантеон. Судя по всему, берлинское правительство немного беспокоится из-за того, что архитектор не берет в расчет сумму расходов. Я читаю об этом с удовольствием, но в душе я полностью на стороне Миса ван дер Роэ. Вообще-то это обычное явление, когда серьезная архитектура требует серьезных затрат. Мне всегда было интересно, способна ли экономическая демократия обеспечить стране соответствующее архитектурное выражение. Мне и сегодня понятно негодование Гитлера, который возмущался, что в двадцатые годы любой банк и любая страховая компания могли потратить на свое административное здание больше, чем правительство – на свои общественные сооружения. Но Мис также заявил, что Берлин невозможно узнать. А что буду чувствовать я?
15 октября 1964 года. Хрущева сняли. Дома расстроятся, потому что опять оборвались с таким трудом налаженные связи. Я сам почти ничего не чувствую. В первые годы я занимал скептическую позицию; но под ее прикрытием лелеял иллюзии, как все здесь. Теперь иллюзий не осталось. Во французском языке есть слово «assommer», которое означает и «избить до смерти», и «надоесть до смерти». Это слово точно описывает мое состояние.
24 октября 1964 года. Гесс уже несколько месяцев борется за свое право выписывать большие куски из книг, которые читает. Он попросил большую пачку писчей бумаги для этой цели, но пока его просьбу не удовлетворили. Сегодня он предъявил требование французскому генералу буквально в форме ультиматума.
– Я не возражаю против того, что мои бумаги подвергаются цензуре, – гневно заявил он, – и я даже готов позволить, чтобы их потом сжигали. Но я хочу держать все свои записи при себе, хотя бы некоторое время, чтобы иметь возможность их просматривать. С тонкими тетрадками я не могу этого сделать.
Когда тон Гесса стал резким и возбужденным, генерал резко развернулся и вышел из камеры. Но он в изумлении уставился на директора, когда тот подтвердил, что все наши записи периодически изымаются и уничтожаются.
– Это правда? – с удивлением и тревогой спросил он, потом отвернулся, качая головой.
8 ноября 1964 года. Сегодня подрезал розы и сгребал листья. Нуталл развел костер из нескольких номеров «Дейли Телеграф», а я подбрасывал в него ветки и листья. Светило солнце; наш новый термометр показывал минус один в тени и плюс семь градусов на солнце у южной стены. Термометр на солнце помогает некоторым охранникам не так остро чувствовать холод. Тем временем Ширах бродил по саду, насвистывая «Миссисипи».
9 ноября 1964 года. Американский директор, который пробыл с нами много лет, попрощался и представил своего преемника Юджина Берда. Новый директор заверил нас, что все останется как прежде; кстати, он также отвечает за клубы и увеселительные заведения для американских войск, размещенных в Берлине. Недавно «Курьер» напечатал его фотографию; он стоял на сцене и представлял королеву красоты. В 1947-м он, тогда еще лейтенант, нес караульную службу в Шпандау, но я его не помню.
10 ноября 1964 года. Во время дневного отдыха я целый час вел оживленную беседу с Годо. Внезапно Ширах подал сигнал. Он возмущенно потребовал тишины; он заявил, что хочет спать. Его высокомерный тон оскорбил француза, и тот сказал ему, что заключенного не касается, когда и как охранники должны разговаривать. Ширах самоуверенно отослал Годо к тюремным правилам, запрещающим охранникам разговаривать с заключенными.
– Очень хорошо, вот и заткнись! – рявкнул Годо и добавил, что пение и свист, между прочим, тоже против правил.
Но Шираха не так просто запугать.
– Если вы сию минуту не перестанете разговаривать с номером пять, я доложу о вас русскому директору, – пригрозил он.
Мы не прислушались к его угрозам, но разговор утратил свою живость. Вскоре мы разошлись.
18 ноября 1964 года. Сегодня к Гессу приезжал его адвокат, доктор Альфред Зейдль, впервые после Нюрнбергского процесса. Поскольку он отказался от всех свиданий с семьей, это первый человек из внешнего мира, которого он увидел за почти двадцать лет в Шпандау. После свидания Гесс выглядел очень взволнованным. Несколько часов он вел себя оживленно и охотно общался.
– Зейдль остался доволен, что я так хорошо выгляжу, – радостно сообщил он. – Но он не на того напал. Первым делом я написал ему перечень всех моих заболеваний. А потом, понимаете ли, мой сын хочет со мной встретиться, – беззаботно продолжал Гесс. – Вы видите в этом какой-нибудь смысл?
Когда я кивнул, он продолжил:
– Да, в качестве награды. Если он сдаст государственный экзамен по архитектуре на четверку, в награду ему будет позволено повидаться с отцом.
Я остолбенел.
– В награду? – повторил я. – Но он уже не маленький ребенок, которого нужно поощрять.
Гесс в свойственной ему манере улыбнулся собственным мыслям.
– Ширах придерживается того же мнения. Но будет именно так. Я уже сосчитал: раз, два, три.
– Раз, два, три – что это значит? – не понял я.
– Когда произносится «три», – пояснил Гесс, – решение принято бесповоротно. После этого его нельзя изменить.
Я сказал Гессу, что на месте его сына обманул бы: при необходимости подделал бы табель с отметками, лишь бы увидеть отца.
– Я уже думал об этом, – ответил Гесс. – Некоторое время назад я написал сыну, что в случае обмана он точно не увидит меня. Он просто зря потратит деньги на поездку в Берлин.
– Так было и раньше? – поинтересовался я. – Если вы принимали свое решение, сосчитав до трех, вы его не меняли, даже если возникали новые обстоятельства?
Гесс жестко кивнул головой.
– Никогда. По-другому нельзя.
Позже я вспомнил, как Гитлер говорил, что даже когда они вместе сидели в Ландбергской тюрьме, Гесс иногда во время спора не шел ни на какие уступки, используя эту формулу.
18 ноября 1964 года. Сегодня писал письмо и вдруг услышал в коридоре Летхэма. Я поспешно и нервно засунул все бумаги в кальсоны. Потом, когда я пошел за едой, у меня возникло неприятное чувство, что Летхэм смотрит прямо на выпирающее место. Вернувшись в камеру, я спрятал бумаги между матрацами и засунул носовой платок под брюки вместо выпирающих бумаг. Когда я принес пустую посуду, Летхэм не обратил на меня никакого внимания. Я даже расстроился. Ведь я уже представил, как он подозрительно, но с напускным добродушием покажет на выпирающее место, а я похлопаю себя по штанам и вытащу носовой платок с возгласом: «А я везде его искал!»
19 ноября 1964 года. Жалобы Гесса французскому генералу неожиданно принесли результаты. По решению Дирекции мы имеем право на тетрадь из 196 страниц для наших записей. По размеру, подсчитал Гесс, она соответствует двенадцати прежним тетрадям. Теперь он каждый день часами переписывает свой старый блокнот, который, в свою очередь, состоит из отрывков из его старых тетрадей.
20 ноября 1964 года. Со сторожевой вышки ветром унесло в сад листок с инструкциями для охранников от четырех государств. Огнестрельное оружие разрешается использовать, только если кто-то снаружи пытается проникнуть в сад силой; для самозащиты, только если заключенный и его сообщники угрожают жизни солдат; в случае попытки побега, только если нет другого способа помешать, и даже тогда охранники должны только обездвижить заключенного. Убивать его не разрешается ни при каких обстоятельствах.
22 ноября 1964 года. Читаю «Сатирикон» Петрония, написанный в I веке н. э. И я спрашиваю себя, дает ли это описание невоздержанности, испорченности и низости точное представление о нравах Древнего Рима во времена Нерона. Ведь, в конце концов, империя процветала на протяжении многих веков, прежде чем окончательно распалась. Тот же глубокий пессимизм и то же осуждение своей эпохи можно найти и у Горация, Марциала, Персия, Ювенала и Апулея. Словно существует какой-то закон, что каждое поколение должно порицать свои нравы и прославлять традиции прошлого. Однако в глазах следующих поколений эта испорченность должна принимать невероятные размеры. Нужно помнить об этом. В моем случае это важно вдвойне, поскольку я ничего не знаю о внешнем мире. Таким образом, я задаю себе вопрос: такова ли сейчас жизнь, как ее описывают в современных романах, которые я читал все эти годы, в пессимистичной литературе от Бёлля до Вальзера, и правда ли, что внешний мир погряз в трясине порока, что в нем господствуют конформизм, нацистская психология и посредственность?
24 ноября 1964 года. Сегодня прочитал в «Ди Вельт», что генеральный прокурор земли Гессен предложил награду в 100 000 марок за поимку Бормана. Говорят, имеются сведения, что он находится в Южной Америке. Я пытался представить, что произойдет, если мне придется встретиться на суде с Борманом, моим некогда злейшим врагом. В этот момент невысокий, плотный, круглолицый Садо открыл дверь в мою камеру и с ухмылкой спросил:
– Кстати, сколько вам еще осталось сидеть?
Разумеется, Садо прекрасно это знает. Не дождавшись моей реакции, он продолжил:
– В газетах пишут, что ваш друг Борман все еще жив и что раскрыли новые преступления. Как он выглядел?
Пытаясь вызвать в памяти образ Бормана, я задумчиво посмотрел на Садо. Неожиданно меня осенило. Словно на меня снизошло внезапное озарение, я воскликнул с напускным волнением:
– Нет, неужели это возможно? Боже мой… Боже мой, невероятно! Вы называете себя Садо?
Он тупо смотрел на меня. Потом взял себя в руки.
– Конечно, меня зовут Садо, номер пять. В чем дело?
Я многозначительно улыбнулся, придав себе слегка безумный вид.
– Ну конечно. То же лицо, коренастая фигура, тот же рост. Идеально подходит. Только волосы… ну да, они были выкрашены.
После небольшой паузы, во время которой он выжидающе смотрел на меня, уже немного напуганный, я весело ткнул его в грудь.
– Ну и ну, блестящая идея! Как вам это в голову пришло?
Садо ошеломленно посмотрел на меня.
– Что пришло в голову, ради Бога?
– Вы – Борман! В вас всегда было что-то знакомое. Не могу не признать – это гениально. Правда, никому и в голову не придет искать вас здесь. В Шпандау!
Сначала Садо чуть не впал в панику. Но через несколько секунд гневно вспыхнул и захлопнул дверь. Надеюсь, на некоторое время я избавился от его шуток.
1 декабря 1964 года. Свидание с женой. Осталось всего два Рождества в разлуке.
16 декабря 1964 года. Переворачивая кучу компоста, я нашел свернувшегося в клубок ёжика, который устроил себе там гнездо и впал в зимнюю спячку. Я осторожно переложил его в тачку и перевез в другую кучу компоста на дальнем конце сада. Теперь я набросаю на него листья.
19 декабря 1964 года. Сегодня мне передали фотографию. Я не мог понять, кто из моих сыновей на ней изображен, и совсем запутался. Потом прочитал письмо Эрнста и узнал, что это я в детстве.
21 декабря 1964 года. Сегодня миновал Сиэтл, город на западном побережье Соединенных Штатов. Через шестьдесят дней, несмотря на холод и сильный ветер, я преодолею 560 километров. Недавно я побил свой дневной рекорд и за пять часов сорок минут прошел 28 километров.
Несколько охранников заразились моими походами. Теперь иногда на дорожке можно встретить человек пять, которые шагают с решительными лицами.
– Я скажу вам, какая разница между вами и мной, – заметил сегодня Гесс. – Ваши причуды заразны.
24 декабря 1964 года. Несколько дней назад полковник Берд мимоходом поинтересовался, что обычно подавали к рождественскому обеду в нашей семье. Сегодня вечером в соответствии с моим ответом нам приготовили вареный окорок, картофельный салат, хрен и спаржу. На десерт, как дома, шоколадное мороженое. Спаржа была ошибкой, но я бы, пожалуй, включил ее в семейное меню. Полковник присутствовал при раздаче еды. Как я потом узнал, все эти вещи он купил сам и оплатил из собственного кармана.
12 января 1965 года. С некоторым изумлением прочитал в «Ди Вельт» статью, автор сокрушается по поводу того, что все бывшие подсудимые, проходившие по военному трибуналу союзников, освобождаются от дальнейшего преследования на основании «промежуточного договора» между тремя державами-победительницами и федеральным правительством. Между тем все газеты печатают отчеты с процесса по Освенциму, и у меня создается ощущение, что прошлое, которое, казалось, давно предано забвению, вновь возродилось. Внезапно у меня возникает страх перед миром, которого я больше не знаю, и этот мир с такой страстью вновь открывает страницы, которые постепенно бледнели в моей памяти после Нюрнберга в результате осознанного признания справедливости моего наказания. И внезапно Шпандау кажется мне не местом моего заключения, а моей защитой.
Мне, безусловно, будет гораздо тяжелее перенести новое обвинение. В Нюрнберге все было понятно. Добро и зло стояли по разные стороны, и между ними была проведена четкая граница. Преступления были настолько жуткими, а преступники, укрывшиеся от правосудия либо за самоубийством, либо за явными уловками, были столь отвратительны, что, даже при умеренном чувстве справедливости, человечности и собственного достоинства, мое отношение сложилось само собой.
Прошло двадцать лет. За это время все великие державы, исполнявшие роль судей, хотя бы раз – а некоторые чаще – сами оказались на воображаемой скамье подсудимых: русские танки в Восточном Берлине, пылающий в огне Индокитай, уличные бои в Будапеште, Суэцкий канал, Алжир и снова Индокитай, который теперь называется Вьетнам, а еще миллионы рабов, работающих по принуждению во многих частях света… Насколько труднее стало принимать обвинительный приговор, вынесенный этими судьями. Более того, долгие годы размышлений, диалогов с самим собой развеяли былое чувство вины. Ведь в основе конфронтации с собственной виной, вероятно, лежат поиски оправдания, и даже если это не так, ни один человек не способен столько лет утверждать свою вину и сохранять искренность.
А теперь этот процесс! Статьи в газетах об Освенциме станут для меня своего рода поддержкой. Они вернут практически утраченный смысл всех этих лет, проведенных в Шпандау, и в то же время помогут восстановить нравственную чистоту.
27 января 1965 года. Утром Ширах сказал британскому директору Проктеру, что ничего не видит правым глазом. Через несколько часов старший офицер британской медицинской службы записал в истории болезни, что две трети сетчатки перестали функционировать. Специалист по глазным болезням из главного управления в Мёнхенгладбахе подтвердил диагноз: у Шираха отслоилась сетчатка. Час спустя его перевели в лазарет.
28 января 1965 года. Прошлой ночью Шираха увезли в госпиталь. Полковник Надысев был в шоке, потому что, несмотря на все предосторожности, у ворот тюрьмы появились телевизионные бригады и установили прожекторы как раз в тот момент, когда вывозили Шираха.
29 января 1965 года. Чудесный зимний день, снег и солнце. В саду мы поставили кормушки для синиц, нанизали арахис на проволоку. Пиз подвесил несколько миндальных орехов на нитке и закрепил на ветке. Сначала птицы пытались перекусить нитку клювами. Когда у них ничего не вышло, одна птичка немного подтянула нитку наверх и прижала лапкой; она дважды повторила свой маневр и наконец достала первый орешек. Сидя на стене, вороны наблюдали за синицами, а мы наблюдали за воронами. Кто наблюдал за нами?
Вечером Миз сказал мне, что Ширах покончил с Шпандау. Он не вернется. Вообще-то мне тоже кажется, что потеря одного глаза даже для Советского Союза станет веским основанием для его освобождения. По мнению Миза, Ширах не сочтет эту цену слишком высокой.
3 февраля 1965 года. Тишина в тюремном корпусе становится все более жуткой. Я почти скучаю по нервозности Шираха, его возбужденности, его пению и свисту. Теперь я чаще гуляю с Гессом, но вскоре становится очевидным, что я не могу заменить Шираха. Однажды Гесс даже забыл, с кем он разговаривает.
– Вы читали, – с торжествующим видом спросил он, что они нарисовали свастику на здании социал-демократической партии?
7 февраля 1965 года. С десятидневной задержкой доктор Зейдль дал интервью о посещении Гесса, в котором сообщил, что находит состояние своего клиента удовлетворительным. О спутанности сознания не может быть и речи, заявил он. По всей видимости, цель этого заявления – расстроить любые планы по переводу Гесса в психиатрическую больницу. Адвокат также сообщил, что его клиент категорически отказывается подавать ходатайство о помиловании, потому что его приговор не имеет законной силы. Насколько я понимаю, это ставит крест на любых попытках добиться освобождения Гесса. В частности, русские воспримут эти слова как оскорбление. Но Гесс, наш Дон Кихот, очень доволен заявлением своего адвоката.
10 февраля 1965 года. Вчера Гесс официально известил французского и британского директоров, что впредь у него больше не будет никаких колик и болей. Он также передал это сообщение врачу.
Тем временем его сын сдал экзамен, но не прислал ему табель. Я спросил Гесса, знает ли сын, какая «награда» его ждет. Оказалось, не знает, потому что Гесс не написал об этом домой из опасения, что они попытаются его обмануть.
11 февраля 1965 года. Прошлой ночью неожиданно пошел сильный снег. Лишь бы не сидеть без дела, к вечеру я лопатой расчистил от снега дорожку длиной 482 метра. Вернувшись в камеру, я произвел следующие расчеты: при данной длине дорожки, при ее ширине 55 сантиметров и высоте снежного покрова 20 сантиметров, я перекидал 50 820 литров снега. Для проверки я растопил один литр снега. Получилось четверть литра воды. Значит, я перекидал примерно двенадцать метрических тонн. Потрясающе!
21 февраля 1965 года. Сегодня я завершил свой стотысячный круг, пройдя ровно 27 000 километров.
23 февраля 1965 года. Арнольд тоже женился; скоро Рената приедет сюда на свидание. Такие события всегда обостряют чувство обособленности.
18 марта 1965 года. Несколько дней назад Гесс устроил скандал Пелерину, потому что охранник не сразу откликнулся на сигнал Гесса. Другие охранники с пониманием относятся к этим нервным выпадам, но Пелерин написал рапорт на Гесса, хотя давно берет у него уроки немецкого и недавно с помощью Гесса сдал экзамен на переводчика.
В наказание Гесса на два дня лишили газет. Но оно было бессмысленным, потому что Пиз попросту игнорировал распоряжение и отдавал все газеты Гессу.
19 марта 1965 года. Первые крокусы в саду. Я устроил небольшой костер из листьев в честь своего шестидесятилетия. В подарок на день рождения я получил семь пластинок и лекцию Фрица по физике: «Ортотритий и паратритий».
25 марта 1965 года. Вчера вернулся Ширах. Несмотря на все наши стычки, я навестил его в лазарете. Ширах был рад и чопорно поблагодарил меня за пожелания здоровья.
Полчаса он говорил без остановки, рассказывал, что персоналу госпиталя велели обращаться к нему герр фон Ширах. Он каждый день заказывал еду по меню, поскольку его приравняли к офицерскому составу. В палате были радиоприемник и телевизор. Время от времени он вставлял в свой рассказ такие фразы, как «мой люкс с ванной» или «я сел в кресло в гостиной».
Кульминацией его истории стало появление австрийской графини, которая присылала ему цветы и написала письмо с предложением жениться на ней. Каждый день она проезжала мимо его окна на спортивном «мерседесе», сказал он. Но самое сильное впечатление на него произвела повседневная жизнь, которая бурлила на улицах; захлебываясь от восторга, он рассказывал мне о плотном движении машин и хорошо одетых людях.
Он практически ослеп на один глаз. По мнению окулиста, риск заболевания здорового глаза составляет 25 процентов. Мне было жаль его, и на прощание я сердечно предложил:
– Скажите, если я чем-то могу вам помочь. Я с радостью сделаю это.
Он сдержанно поблагодарил меня. В целом у меня создалось впечатление, что он очень слаб и ему не хватает жизненной энергии.
Вечером Пиз немного подкорректировал его рассказ.
– Вы же знаете Шираха. Естественно, у него была самая обычная палата. Приемная предназначалась для военной полиции, а у дамы, безусловно, не было никакого «мерседеса». Она ездила на «Фиате-тополино».
10 апреля 1965 года. Сегодня Шираха перевели из лазарета обратно в камеру. В любом случае в последнее время он больше времени проводил с нами, чем в лазарете, и выходил с нами на прогулку в сад. Но возвращение в камеру, тем не менее, доказало ему, что все его надежды на освобождение были напрасными. После перевода было официально объявлено об окончании острой стадии заболевания.








